Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 22. Графиня де Шарни. Часть. 1,2,3 1996.
Назад: XIV ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРАБО!
Дальше: XXIII ДОРОГА
XVIII
ОБЕЩАНИЕ
Королева вошла к себе и упала на диван, знаком приказав Шарни затворить за собой дверь.
К счастью, в будуаре никого не было, потому что незадолго до того Жильбер испросил у королевы позволения поговорить с ней без свидетелей, чтобы сообщить о смерти Мирабо и передать его последний совет.
Едва опустившись на диван, она почувствовала, что ее сердце готово разорваться, и разрыдалась.
Ее слезы были так сильны и искренни, что пробудили в сердце Шарни остатки былых чувств.
Мы говорим "остатки былых чувств", потому что когда страсть, подобная той, чье рождение и расцвет мы наблюдали, перегорела в сердце мужчины, то — если только какой-нибудь страшный удар не превратит ее в ненависть — она никогда не угасает полностью.
Кроме того, Шарни находился в том неловком положении, которое может быть понято лишь тем, кто сам побывал в такой ситуации: в его сердце тлела былая любовь и разгоралась новая.
Он уже любил Андре со всем пылом, на какой было способно его сердце.
Он еще любил королеву со всем состраданием, на какое была способна его душа.
Всякий раз, видя муки этой несчастной любви — муки, причиняемые эгоизмом, — он, если можно так выразиться, чувствовал, как сердце женщины истекает кровью, но всякий раз, понимая, что это результат эгоизма, он не имел сил прощать, как и все, кому былая любовь стала в тягость.
И все же каждый раз, как он оказывался перед искренне страдавшей женщиной, ни в чем его не упрекавшей и ни на что не жаловавшейся, он не мог не отдать должное глубине этого чувства; он вспоминал, сколькими людскими предрассудками, сколькими обязанностями перед обществом пожертвовала ради него эта женщина, и, склоняясь над этой бездной, не мог удержаться, чтобы тоже не уронить слезу сожаления и не бросить слово утешения.
И все же сквозь ее слезы каждый раз звучали упреки, а в рыданиях слышались жалобы, и тогда он вспоминал, как требовательна эта любовь, как сильно стремление этой женщины к абсолютной власти, как велик деспотизм королевы, дававшей о себе знать даже в выражении нежности, в любовных признаниях; он становился нетерпим к ее требовательности, восставал против ее деспотизма, вступал в борьбу с ее волей, противопоставляя всему этому нежное невозмутимое лицо Андре, и отдавал предпочтение холодной статуе, как он себе ее представлял, перед королевой — воплощением страстности, готовой метать взглядом молнии, сгорая от любви, гордыни или ревности.
На сей раз королева плакала и не говорила ни слова.
Она более восьми месяцев не видела Шарни. Верный данному королю слову, граф все это время скрывал свое местонахождение. Вот почему королева ничего не знала о близком ей человеке, столь близком, что последние два-три года ей казалось, что разлучить их может только смерть.
Но, как видели читатели, Шарни уехал, ни слова не сказав ей о том, куда он направляется. Единственным для нее утешением было то, что он находился на королевской службе; вот почему она говорила себе так: "Служа королю, он служит и мне; значит, он поневоле будет думать обо мне, даже если захочет меня забыть".
Безусловно, это было слабым утешением: она привыкла владеть его помыслами, а не ждать, пока он случайно о ней вспомнит. Вот почему, когда она увидела Шарни в ту минуту, когда меньше всего этого ожидала, когда она снова застала его у короля почти на том же месте, что и в день его отъезда, в ее душе ожили страдания, к ней вернулись терзавшие ее сердце мысли, к горлу подкатили слезы, жёгшие ей глаза во время продолжительного отсутствия графа; все это разом неожиданно нахлынуло на нее, вызвав румянец на щеках и стеснение в груди от захвативших ее тоски и страдания, хотя она чуть было не сочла их исчезнувшими навсегда.
Она плакала, чтобы выплакаться: слезы задушили бы ее, если бы она от них не освободилась.
Она плакала беззвучно. От радости? От горя?.. Может быть, и от того и от другого: любое сильное душевное движение кончается слезами.
Ни слова не говоря, однако чувствуя, как почтительность в душе его уступает место любви, Шарни подошел к королеве, отвел руку, которой она закрывала лицо, и, прижавшись губами к этой руке, прошептал:
— Ваше величество, я счастлив и горд сообщить вам, что с того дня, как я с вами простился, я каждую минуту заботился о вас.
— О Шарни, Шарни! — отвечала королева. — Было время, когда вы, может быть, меньше обо мне заботились, зато думали обо мне значительно больше.
— Ваше величество, — возразил Шарни, — король поручил мне весьма ответственное дело, требовавшее от меня сохранения полной тайны вплоть до того дня, как оно будет выполнено. Это сделано лишь сегодня. Только сегодня я могу с вами увидеться, поговорить, а до этого дня я не мог вам даже написать.
— Вот прекрасный пример преданности, Оливье! — печально промолвила королева. — И я сожалею только об одном: ваша преданность идет в ущерб другому чувству.
— Ваше величество! — воскликнул Шарни. — Раз уж я получил разрешение короля, позвольте рассказать о том, что мне удалось сделать для вашего спасения.
— О Шарни, Шарни! — продолжала королева. — Неужели у вас нет для меня более неотложных слов?
Она с нежностью сжала графу руку, одарив Шарни таким взглядом, за какой он раньше отдал бы жизнь; впрочем, он и сейчас готов был если не отдать ее, то принести в жертву.
Пристально его разглядывая, она увидела, что перед ней не покрытый пылью путешественник, только что вышедший из почтовой кареты, а элегантный придворный, который подчинил свою преданность всем предписаниям этикета.
Строго соответствующий случаю костюм, способный удовлетворить королеву, сколь бы требовательна она ни была, вызвал явное беспокойство у женщины.
— Когда же вы приехали? — спросила она.
— Только что, ваше величество, — отвечал Шарни.
— А откуда?
— Из Монмеди.
— Так вы пересекли полстраны?
— Со вчерашнего утра я проехал девяносто льё.
— Верхом или в экипаже?
— В почтовой карете.
— Каким же образом после столь долгого и утомительного путешествия — простите мои вопросы, Шарни, — вы тщательно вычищены, вылощены, причесаны, не хуже адъютанта генерала Лафайета, только что выпорхнувшего из штаба? Значит ли это, что привезенные вами новости были не так уж важны?
— Напротив, очень важны, ваше величество; однако я подумал, что, если я прибуду во двор Тюильри в почтовой карете, забрызганной грязью и покрытой слоем пыли, то вызову этим любопытство. Король совсем недавно говорил мне, как пристально за вами следят, и, слушая его, я мысленно похвалил себя за осмотрительность, за то, что я пришел пешком и в форме, как простой офицер, явившийся к месту службы после одной-двух недель отсутствия.
Королева судорожно сжала руку Шарни; было заметно, что у нее на языке вертится последний вопрос, но ей тем труднее было его выговорить, что он представлялся ей самой наиболее важным.
Тогда она избрала другой способ для того, чтобы разузнать то, что ее волновало.
— Ах да, я и забыла, — сдавленным голосом прошептала она, — у вас ведь есть в Париже пристанище.
Шарни вздрогнул: только теперь он понял значение всех этих вопросов.
— У меня пристанище в Париже? Где же это, ваше величество?
Королева сделала над собою усилие.
— Да на улице Кок-Эрон, — заметила она. — Ведь именно там живет графиня, не правда ли?
Шарни едва не взвился подобно коню, которому вонзили шпоры в еще свежую рану; однако в голосе королевы было столько неуверенности, столько страдания, что ему стало ее жалко — ее, такую высокомерную, так прекрасно умевшую собой владеть и вдруг забывшуюся до такой степени, чтобы не суметь скрыть свои чувства.
— Ваше величество, — проговорил он с выражением глубокой печали, вызванной, по-видимому, не только страданием королевы, — мне кажется, я уже имел честь вам сообщить перед отъездом, что дом графини де Шарни мне не принадлежит. Я остановился у моего брата виконта Изидора де Шарни, у него я и переоделся.
Королева вскрикнула от радости и стремительно опустилась на колени, прижавшись губами к руке Шарни.
Но он так же быстро взял ее за руки и поднял.
— О ваше величество! — вскричал он, — что вы делаете?
— Я вас благодарю, Оливье, — произнесла королева таким нежным голосом, что Шарни почувствовал, как на глаза его навернулись слезы.
— Вы меня благодарите?! — переспросил он. — Боже мой, да за что же?
— За что?.. И вы еще спрашиваете! — воскликнула королева. — За единственный счастливый миг со времени вашего отъезда! Господи! Я знаю, что ревность — чистое безумие, но безумие, достойное, однако, жалости. Вы ведь тоже когда-то были ревнивы, Шарни; сегодня вы об этом не помните. О мужчины! Когда они ревнуют, им хорошо: они могут сразиться с соперником, убить его или умереть сами; женщины же могут только плакать, хотя знают, что слезы их бесполезны и даже опасны; ведь мы прекрасно понимаем, что наши слезы не приближают к нам того, из-за кого мы их проливаем, а чаще всего еще дальше его от нас отталкивают; но таково безумие любви; видишь пропасть, но, вместо того чтобы отойти от нее, сам туда бросаешься. Еще раз благодарю вас, Оливье; видите, я уже улыбаюсь, я больше не плачу.
Королева в самом деле попыталась улыбнуться; но она словно разучилась радоваться из-за пережитого горя, и потому ее улыбка вышла такой печальной и болезненной, что граф содрогнулся.
— О Господи! — прошептал он. — Неужели возможно, чтобы вы так страдали?
Мария Антуанетта молитвенно сложила руки.
— Слава Всевышнему! — вскричала она. — В тот день, когда он поймет, как я страдаю, он не сможет не любить меня!
Шарни чувствовал, что ступает на скользкий путь, где ему невозможно будет удержаться. Он сделал над собою усилие, как конькобежец, когда он хочет остановиться и потому выгибается назад, рискуя проломить лед, по которому катится.
— Ваше величество! — заговорил он. — Может быть, вы позволите мне поделиться плодами этого долгого отсутствия, рассказав вам о том, что мне удалось для вас сделать?
— Ах, Шарни! — воскликнула в ответ королева. — Я бы предпочла то, о чем недавно вам говорила; впрочем, вы правы; женщине не следует чересчур надолго забывать, что она королева. Говорите, господин посол: женщина получила все, на что она могла рассчитывать, теперь вас слушает королева.
Шарни рассказал обо всем: как его послали к г-ну де Буйе, как граф Луи прибыл в Париж, как он, Шарни, кустик за кустиком изучил дорогу, которую предстояло пройти беглецам, наконец, как он явился к королю и доложил, что осталось лишь осуществить задуманное.
Королева выслушала Шарни с большим вниманием и в то же время с глубокой благодарностью. Ей казалось невозможным, чтобы обычная преданность могла зайти так далеко. Только горячая и беспокойная любовь могла предвидеть все препятствия и придумать способы их преодолеть.
Она выслушала его до конца. Когда он сообщил ей все, что знал, она посмотрела на него с необычайной нежностью и спросила:
— Так вам будет приятно спасти меня, Шарни?
— О, — воскликнул граф, — и вы еще спрашиваете, ваше величество? Да это мечта моего честолюбия, а если дело пройдет успешно, это будет славой всей моей жизни!
— Я бы предпочла, чтобы это было воздаянием за вашу любовь, — печально заметила королева. — Впрочем, это не имеет значения… Итак, вы страстно желаете исполнить великое дело — дело спасения короля, королевы и дофина Франции, не так ли?
— Я жду только вашего согласия, чтобы посвятить этому свою жизнь.
— Да, понимаю, друг мой, — сказала королева, — и ваша преданность должна быть чиста от всякого постороннего чувства, от всякой физической привязанности. Мой супруг, мои дети могут быть спасены только тем, кто без колебаний протянет руку для их спасения, если они споткнутся на том пути, по которому мы отправимся вместе. Я вам вручаю их жизнь и свою, брат мой; но ведь и вы тоже сжалитесь надо мною, хорошо?
— Сжалиться над вами, ваше величество?.. — переспросил Шарни.
— Вы же не хотите, чтобы в эти минуты, когда мне нужны все мои силы, все мое мужество, все присутствие духа, — это безумная, может быть, мысль, но что поделаешь: некоторые люди не смеют ходить ночью из-за страха перед привидениями, а когда наступает день, они не признают существования этих привидений, — вы же не хотите, чтобы все было потеряно из-за неисполненного обещания, нарушенного слова? Вы же не хотите?..
Шарни перебил королеву:
— Ваше величество! Я желаю спасения вашего величества, желаю счастья Франции, желаю удачного завершения начатого мною дела и, признаться, я в отчаянии оттого, что вы требуете от меня за это столь незначительной жертвы: я вам клянусь видеться с госпожой де Шарни только с разрешения вашего величества.
Он с холодной почтительностью поклонился королеве и вышел; она была настолько поражена тем, с каким выражением он это произнес, что даже не попыталась его удержать.
Однако едва за Шарни затворилась дверь, как она заломила руки и горестно воскликнула:
— Ах, мне бы больше хотелось, чтобы он вот так же поклялся не видеться со мной и чтобы он любил меня так же, как любит ее!..
XIX
ЯСНОВИДЕНИЕ
Девятнадцатого июня около восьми часов утра Жильбер большими шагами мерил свою квартиру на улице Сент-Оноре, время от времени проходя к окну и свешиваясь вниз, с нетерпением ожидая кого-то, кто никак не приходил.
Он держал в руке вчетверо сложенный лист бумаги; сквозь бумагу просвечивали буквы и печати. Это был, несомненно, весьма важный документ, потому что два-три раза во время этого томительного ожидания Жильбер его разворачивал, перечитывал и снова складывал.
Заслышав, наконец, шум остановившейся у дверей кареты, он стремительно бросился к окну; однако было слишком поздно: приехавший в карете человек уже вошел в дом.
Впрочем, у Жильбера, видимо, не было сомнений в том, кто приехал, потому что, распахнув дверь в переднюю, он крикнул:
— Бастьен! Отворите господину графу де Шарни, я его жду.
В последний раз развернув бумагу, он стал ее перечитывать, когда вошел Бастьен и, вместо того чтобы доложить о графе де Шарни, громко объявил:
— Господин граф де Калиостро!
В эту минуту Жильбер был мыслями так далек от этого имени, что вздрогнул, словно от удара молнии, предвещавшей скорый громовой раскат.
Он торопливо сложил документ и спрятал его в карман сюртука.
— Господин граф де Калиостро? — переспросил он, не успев оправиться от изумления.
— О Господи! Нуда, я самый, дорогой Жильбер, — сказал граф, — вы ждали не меня, а господина де Шарни; но господин де Шарни занят — я вам чуть позже скажу, чем именно, — и потому сможет здесь быть не раньше чем через полчаса; узнав об этом, я себе сказал: "Раз уж я оказался поблизости, поднимусь-ка я на минутку к доктору Жильберу". Надеюсь, что, хотя вы меня и не ждали, но все-таки примете, не правда ли?
— Дорогой учитель! — ответил Жильбер. — Вы знаете, что в любое время дня и ночи мой дом и мое сердце открыты для вас настежь.
— Благодарю вас, Жильбер. Возможно, наступит такой день, когда и мне представится случай доказать вам свою любовь; когда он придет, я не заставлю вас ждать. А теперь давайте побеседуем.
— О чем? — улыбнулся заинтересованный Жильбер: присутствие Калиостро, как всегда, сулило ему нечто неожиданное.
— О чем? — повторил Калиостро. — О том же, о чем сейчас говорят все: о предстоящем бегстве короля.
Жильбер ощутил, как по всему его телу пробежала дрожь, однако продолжал улыбаться; если он и не мог помешать тому, чтобы капельки пота выступили у корней его волос, то благодаря силе воли хотя бы не позволил себе побледнеть.
— Ну а поскольку тема разговора определилась и он займет некоторое время, — продолжал Калиостро, — я присяду.
И Калиостро в самом деле сел.
Оправившись от изумления, Жильбер, поразмыслив, решил, что если графа привел к нему случай, то в этом случае видна рука судьбы. Калиостро, обычно не имевший от него секретов, пришел, по-видимому, рассказать обо всем, что ему было известно по поводу предполагаемого отъезда короля и королевы, о котором он только что обмолвился.
— Итак, — прибавил Калиостро, видя, что Жильбер ждет, — отъезд намечен на завтра?
— Дорогой учитель! — обратился к нему Жильбер. — Вы знаете, что я имею обыкновение выслушивать вас до конца; даже когда вы ошибаетесь, для меня поучительны и ваши речи, и одно-единственное ваше слово.
— В чем же я до сих пор ошибся, Жильбер? — полюбопытствовал Калиостро. — Может быть, когда я вам предсказал смерть Фавраса, сделав, однако, в решающую минуту все возможное, чтобы ее предотвратить? Или когда я вас предупредил о том, что король сам интригует против Мирабо и Мирабо не будет министром? Или, может быть, когда я вам сказал, что Робеспьер восстановит эшафот, на котором казнили Карла Первого, а Бонапарт восстановит трон Карла Великого? Ну, в последнем утверждении вы не можете меня упрекнуть, потому что времени прошло немного, кое-что принадлежит концу нашего века, а кое-что произойдет в начале следующего. Итак, сегодня, дорогой Жильбер, вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, что я прав, когда говорю о готовящемся бегстве короля завтрашней ночью, потому что вы один из тех, кто готовит этот побег.
— Если дело и обстоит именно так, — отвечал Жильбер, — то вы же не ждете, чтобы я вам в этом признался, не так ли?
— А зачем мне нужно ваше признание? Вы ведь знаете: я есмь сущий, но также я есмь всеведущий.
— Но если вы всеведущий, — возразил Жильбер, — то вам должно быть известно, что королева сказала вчера господину де Монморену по поводу отказа мадам Елизаветы участвовать в празднике Всех святых: "Она не хочет ехать с нами в Сен-Жермен-л’Осеруа, и это очень печально; она могла бы ради короля пожертвовать своими убеждениями". Итак, если королева собирается отправиться в воскресенье вместе с королем в церковь Сен-Жермен-л’Осеруа, значит, далеко они нынешней ночью не уедут.
— Да, но мне также известно, — заметил Калиостро, — что один великий философ сказал: "Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли". Господь не был настолько скуп, чтобы наградить этим бесценным даром только одного человека.
— Дорогой учитель! — сказал Жильбер, пытаясь сохранить шутливый тон. — Вы знаете историю о неверном апостоле…
— Который уверовал, когда Христос показал ему свои ноги, руки и бок? Извольте, Жильбер! Королева, привыкшая путешествовать со всеми удобствами и не желающая расставаться со своими привычками во время поездки, хотя она должна занять, если расчеты графа де Шарни верны, всего тридцать пять-тридцать шесть часов, заказала у Деброса на улице Богоматери Побед прелестный несессер из золоченого серебра; предполагается преподнести его в подарок ее сестре, эрцгерцогине Кристине, правительнице Нидерландов. Несессер был готов только вчера утром и вчера же вечером доставлен в Тюильри — вот что я могу сказать о руках. Беглецы приготовили огромную дорожную берлину, вместительную и удобную, где без труда разместятся шесть человек. Ее заказал у Луи, лучшего каретника на Елисейских полях, сам господин де Шарни; он сейчас как раз у мастера и отсчитывает ему сто двадцать пять луидоров, то есть половину всей суммы; вчера карету испытали: запрягли четверкой, проехали на ней почтовый перегон, и она прекрасно выдержала испытание, а господин Изидор де Шарни похвально отозвался об экипаже — вот что касается ног. Ну и, наконец, господин де Монморен, сам не зная, что он подписывает, черкнул свою подпись сегодня утром в паспорте на имя баронессы Корф, двух ее детей, двух камеристок, управляющего и трех лакеев. Баронесса Корф — это госпожа де Турзель, воспитательница детей Франции; двое ее детей — это ее королевское высочество принцесса и монсеньер дофин; две камеристки — это королева и мадам Елизавета; ее управляющий — это король; наконец, трое слуг, переодетых курьерами, которые будут скакать впереди и позади кареты, — это господин Изидор де Шарни, господин де Мальден и господин де Валори; этот паспорт вы держали в руках, когда я прибыл к вам; вы его сложили и, завидев меня, спрятали в карман; бумага составлена в следующих выражениях:
"Именем короля.
Приказываем пропустить г-жу баронессу Корф, двух ее детей, камеристку, управляющего и трех лакеев.
Министр иностранных дел, Монморен".
Вот что касается бока. Хорошо ли я осведомлен, дорогой Жильбер?
— Да, если не считать одного незначительного противоречия между тем, что вы сказали, и тем, что написано в упомянутом паспорте.
— Какое же противоречие?
— Вы говорите, что королева и мадам Елизавета изображают двух камеристок госпожи де Турзель, а я вижу в паспорте только одну камеристку.
— Да, да. Дело в том, что когда экипаж прибудет в Бонди, госпожу де Турзель, уверенную в том, что она едет до Монмеди, попросят выйти. Граф де Шарни, человек преданный, на которого можно положиться, сядет вместо нее, чтобы наблюдать из окна кареты за происходящим, и в случае нужды разрядит оба пистолета, что лежат у него в карманах. Тогда королева станет баронессой Корф, а так как в карете, кроме ее королевского высочества принцессы — а она еще совсем девочка, — останется только мадам Елизавета, то в паспорте ни к чему упоминать о двух камеристках. Не желаете ли услышать о каких-нибудь подробностях? Извольте: подробностей сколько угодно, и я вам их сейчас представлю. Отъезд был назначен на первое июня; господин де Буйе очень на это рассчитывал; по этому поводу он даже написал королю прелюбопытное письмо, в котором приглашает его поторопиться, принимая во внимание то обстоятельство, что войска "разлагаются", как он говорит, день ото дня все более и он ни за что не может поручиться, если солдат приведут к присяге конституции. Итак, — прибавил Калиостро свойственным ему насмешливым тоном, — слово "разлагаются" следует понимать так: армия начинает сознавать, что оказалась перед выбором между монархией, в течение трех веков жертвовавшей народом ради знати, простым солдатом — ради офицера, и конституцией, провозглашающей равенство перед законом, превращающей звания в награду за заслуги и мужество, — и вот эта неблагодарная армия склоняется к конституции. Однако ни берлина, ни несессер еще не были готовы, и первого уехать не удалось, к великому сожалению, принимая во внимание, что с первого июня армия могла еще более разложиться и солдаты присягнули конституции; итак, отъезд был назначен на восьмое. Однако господин де Буйе слишком поздно получил сообщение об этой дате и раньше уже написал, что не готов; тогда дело по взаимному согласию было отложено на двенадцатое; можно было бы уехать и одиннадцатого, но слишком демократически настроенная дама, да еще и любовница господина де Гувьона, адъютанта господина де Лафайета, госпожа де Рошрёль, если вам угодно знать ее имя, дежурила в тот день у дофина, и все опасались, как бы она чего-нибудь не заметила и не выдала, как говаривал бедный господин де Мирабо, это тайное варево, которое короли всегда держат на огне где-нибудь в укромном уголке своего дворца. Двенадцатого король вспомнил, что осталось всего шесть дней до получения квартальной выплаты по цивильному листу, то есть шести миллионов. Дьявольщина! Согласитесь, Жильбер, такая сумма стоила того, чтобы подождать шесть дней! Кроме того, Леопольд, великий любитель потянуть время, Фабий среди монархов, пообещал, наконец, что пятнадцать тысяч австрийцев займут пятнадцатого июня позиции у Арлона. Так вот, как вы понимаете, желания у наших славных королей — хоть отбавляй, но и у них есть свои текущие дела, требующие завершения. Австрия недавно сожрала Льеж и Брабант и переваривает город и провинцию; а Австрия что удав: пока она переваривает, она спит. Екатерина Великая разбила этого ничтожного королька Густава Третьего, которому она, наконец, дала передохнуть, чтобы он успел поехать в Экс, в Савойю, и встретить королеву французскую, когда она будет выходить из кареты; тем временем Екатерина обкусает, сколько успеет, Турцию и высосет косточки Польши: она обожает львиный костный мозг, эта достойная императрица! Философическая Пруссия и филантропическая Англия сейчас меняют кожу, чтобы одна из них могла с достаточным основанием разлечься вдоль берегов Рейна, а другая — на Северном море. Но можете быть спокойны: подобно коням Диомеда, короли вкусили человеческой плоти и теперь не захотят ничего другого, если, разумеется, мы не побеспокоим их во время этой изысканной трапезы. Одним словом, отъезд был отложен на воскресенье девятнадцатого июня, в полночь; восемнадцатого утром была отправлена новая депеша, в которой отъезд переносился на понедельник двадцатого, на то же время, то есть на завтра вечером; это тоже не совсем удобно, так как господин де Буйе уже разослал приказы во все города по пути следования и теперь придется снова их отменять. Берегитесь, дорогой Жильбер! Берегитесь! Все это надоедает солдатам и заставляет население задуматься о происходящем.
— Граф, — признался Жильбер, — не стану с вами хитрить: все, о чем вы сейчас сказали, правда, и я тем более не буду хитрить, что, по моему мнению, королю не следует уезжать или, вернее, покидать Францию. А теперь признайтесь честно: разве, принимая во внимание опасность, грозящую ему лично, королеве и их детям, он должен остаться как король, человек, супруг, отец? Разве он не имеет права бежать?
— Хотите, я кое-что вам скажу, милый мой Жильбер?
Дело в том, что Людовик Шестнадцатый бежит отнюдь не как отец, супруг, человек; он покидает Францию вовсе не из-за событий пятого и шестого октября; нет, по отцовской линии он, если уж все принимать во внимание, Бурбон, а Бурбоны умеют смотреть опасности прямо в лицо; нет, он покидает Францию из-за конституции, состряпанной по образцу американской Национальным собранием, не подумавшим о том, что модель, которую оно взяло за образец, предусмотрена для республики, а если эту конституцию применить в монархическом государстве, то королю нечем будет дышать; нет, он покидает Францию из-за этой нашумевшей истории с "рыцарями кинжала", в которой ваш друг Лафайет вел себя непочтительно по отношению к королевской власти и ее преданным друзьям; нет, он покидает Францию из-за знаменитого дела с Сен-Клу, когда он хотел увериться в своей свободе, а народ ему доказал, что он пленник; нет, дорогой Жильбер, вам, честному, искреннему, преданному конституционному роялисту, верящему в эту сладкую и утешительную утопию — монархию, ограниченную конституцией, — надо знать следующее: короли в подражание Богу, наместниками коего на земле они себя мнят, обладают собственной религией — религией королевской власти; не только они сами, помазанные в Реймсе, святы, но и дворец их священ, и слуги неприкосновенны; их дворец — храм, куда можно войти лишь с молитвой; их слуги — священники, с которыми можно говорить, только преклонив колени; к королям нельзя прикасаться под страхом смерти! К их слугам нельзя прикасаться под угрозой отлучения! Итак, в тот день, когда королю помешали совершить поездку в Сен-Клу, до него посмели дотронуться; в день, когда из Тюильри выдворили "рыцарей кинжала", дотронулись до его слуг; вот чего не стерпел король; вот истинное святотатство; вот почему графа де Шарни вернули из Монмеди; вот почему король, отказавшийся от похищения маркизом де Фаврасом и бегства вместе со своими тетками, согласен завтра бежать с паспортом, подписанным господином де Монмореном (который и не знает, кому он выдал паспорт), под именем Дюрана и в лакейской ливрее, приказав, однако — короли всегда хоть в чем-то остаются королями, — итак, приказав не забыть уложить в чемодан красное расшитое золотом одеяние, которое он носил в Шербуре.
Пока Калиостро говорил, Жильбер не сводил с него пристального взгляда, пытаясь угадать, что было у этого человека на уме.
Однако все было бесполезно: ни один смертный не мог заглянуть за эту насмешливую маску, которой ученик Альтотаса имел обыкновение прикрывать свое лицо.
Тогда Жильбер решился задать свой вопрос прямо:
— Граф, все, что вы сейчас сказали, верно. Признайтесь же, с какой целью вы мне все это говорите? В качестве кого вы здесь: пришли как честный противник, чтобы предупредить о том, что идете в наступление? Пли как друг, чтобы предложить свою помощь?
— Прежде всего, дорогой Жильбер, я пришел как учитель к ученику, — ласково отвечал Калиостро, — чтобы сказать: "Друг! Ты ступил на ложный путь, связав себя с падающей развалиной, с рушащимся зданием, с отмирающим принципом, называемым монархией. Люди, подобные тебе, принадлежат не прошлому и даже не настоящему, а будущему. Брось то, во что ты не веришь, ради того, во что верим мы; не уходи от действительности в погоне за тенью, и если не хочешь стать деятельным солдатом революции, то смотри, как она проходит мимо, и не пытайся ее остановить; Мирабо был гигантом, но и он не выдержал борьбы".
— Граф, — сказал Жильбер, — я отвечу вам в тот день, когда доверившийся мне король будет в безопасности. Людовик Шестнадцатый выбрал меня своим доверенным лицом, помощником, соучастником, если угодно, в деле, которое он предпринимает. Я согласился ему помогать и исполню свой долг до конца с открытым сердцем и закрытыми глазами. Я врач, дорогой мой граф, и для меня прежде всего важно физическое спасение моего больного! А теперь ответьте мне вы. Нужно ли для ваших таинственных планов, для ваших темных комбинаций, чтобы это бегство состоялось? Если же вы хотите, чтобы оно сорвалось, то не нужно и бороться, скажите только: "Не уезжайте!", и мы останемся, мы склоним головы, мы будем ждать удара.
— Брат! — торжественно заговорил Калиостро. — Если Богу, указывающему мне путь, было бы угодно, чтобы я нанес удар тем, кто дорог твоему сердцу, или тем, кого защищает твой дух, я остался бы в тени и просил бы у той высшей силы, которой я служу, одного: чтобы ты не узнал, чьей рукой этот удар нанесен. Нет, если я пришел* не как друг, — а я не могу быть другом королей, ведь я их жертва, — то я пришел и не как противник; я принес весы и говорю: "Я взвесил судьбу последнего Бурбона и не считаю, что его смерть имеет значение для спасения нашего общего дела. Боже меня сохрани — ведь я, подобно Пифагору, не считаю себя вправе и муху обидеть — неосторожно дотронуться до человеческой жизни, венца творения!" Более того, я пришел сказать тебе не только: "Я останусь безучастным", но и прибавлю следующее: "Тебе нужна моя помощь? Можешь на нее рассчитывать".
Жильбер снова попытался прочитать мысли Калиостро.
— Ну вот, — насмешливо сказал тот, — опять ты сомневаешься. Слушай, ученый муж, ты знаешь историю об Ахиллесовом копье, которое и ранило и врачевало? Я владею этим копьем. Та женщина, кого принимали за королеву в аллеях Версаля, может с тем же успехом сойти за королеву в покоях Тюильри или на какой-нибудь дороге, противоположной той, по которой поедет настоящая беглянка. Мое предложение не лишено смысла, верно, дорогой Жильбер?
— Будьте откровенны до конца, граф: зачем вы мне это предлагаете?
— Но, милый доктор, это же так просто! Я хочу, чтобы король уехал, чтобы он покинул Францию, чтобы он не мешал нам провозгласить республику.
— Республику?! — в изумлении спросил Жильбер.
— Почему нет? — ответил вопросом на вопрос Калиостро.
— Дорогой граф, я окидываю взглядом Францию с юга на север и с востока на запад, но не вижу ни одного республиканца.
— Вы ошибаетесь, я вижу трех: Петиона, Камилла Демулена и вашего покорного слугу; этих вы можете при желании увидеть не хуже, чем я; но я вижу еще и других, кого вы узреть не можете, вы увидите их, когда придет время. Предоставьте мне удивить вас неожиданной развязкой спектакля; но, как вы понимаете, я хочу, чтобы при этой явной и полной смене декораций не произошло чересчур серьезных несчастных случаев, ведь в них всегда оказывается виноват машинист сцены.
Жильбер на мгновение задумался.
Потом он протянул Калиостро руку со словами:
— Граф, если бы речь шла только обо мне, о моей жизни, если бы на карте стояли только моя честь, моя репутация, память обо мне, я немедленно принял бы ваше предложение; но речь идет о королевстве, о короле, о королеве, о целом роде, о судьбе монархии, и я не могу взять на себя смелость решать за них. Оставайтесь безучастным, дорогой граф, вот все, о чем я вас прошу.
Калиостро усмехнулся.
— Да, понимаю, — сказал он, — я человек, замешанный в деле с ожерельем!.. Ну что ж, дорогой Жильбер, этот человек даст вам совет.
— Тише, — предупредил Жильбер, — звонят!
— Экая важность! Вы же знаете, что это господин граф де Шарни. Пусть он тоже услышит мой совет и последует ему. Входите, господин граф, входите!
Шарни в самом деле появился в эту минуту на пороге. Увидев постороннего там, где рассчитывал встретить только Жильбера, он в нерешительности остановился.
— Вот этот совет, — продолжал Калиостро, — остерегайтесь слишком дорогих несессеров, слишком тяжелых карет и слишком большого внешнего сходства. Прощайте, Жильбер! Прощайте, господин граф! Говоря словами тех, кому, как и вам, я желаю счастливого пути, да осенит вас Господь своим святым и благим покровом.
Дружески кивнув Жильберу и вежливо поклонившись Шарни, пророк удалился, провожаемый беспокойным взглядом одного и вопросительным — другого.
— Что это за человек, доктор? — спросил Шарни, когда на лестнице стихли шаги.
— Один мой друг, — отвечал Жильбер. — Этот человек знает все и только что дал мне слово не выдавать нас.
— Как его зовут?
Помедлив, Жильбер молвил:
— Барон Дзанноне.
— Странно… — заметил Шарни, — имя это мне незнакомо, однако мне кажется, я уже где-то видел этого человека. Паспорт у вас, доктор?
— Вот он, граф.
Шарни взял паспорт, поспешно его развернул и погрузился в изучение важной бумаги, забыв на время о бароне Дзанноне.
XX
ВЕЧЕРОМ 20 ИЮНЯ
А теперь давайте посмотрим, что происходило вечером 20 июня, с девяти до двенадцати часов, в различных местах столицы.
Госпожи де Рошрёль опасались не напрасно; хотя ее служба завершилась 11-го числа, она, заподозрив что-то, сумела найти предлог, чтобы вернуться во дворец, и заметила, что, хотя футляры для принадлежавших королеве драгоценностей находились на прежнем месте, бриллиантов в них не было; Мария Антуанетта доверила их своему парикмахеру Леонару; тот должен был отправиться вечером 20-го на несколько часов раньше своей августейшей повелительницы вместе с г-ном де Шуазёлем, командующим солдатами первого отряда, размещенными в Пон-де-Сомвеле; герцог также отвечал за подставу в Варение, где он должен был держать шестерку резвых лошадей; он ожидал у себя на улице Артуа последних приказаний от короля и королевы. Возможно, было не совсем удобно обременять герцога де Шуазёля метром Леонаром, а также отчасти неосторожно со стороны королевы брать с собой парикмахера; но кто мог бы взять на себя заботу о восхитительных прическах, которые Леонар сооружал играя? Что ж вы хотите! Когда у вас гениальный парикмахер, не так-то просто от него отказаться! Вот почему горничная его высочества дофина, заподозрив, что отъезд назначен на понедельник 20-го на одиннадцать часов вечера, поделилась своими соображениями не только со своим любовником г-ном де Гувьоном, но и с г-ном де Байи.
Господин Лафайет пошел к королю, чтоб объясниться с ним откровенно по поводу этого доноса, после чего лишь пожал плечами.
Господин де Байи поступил еще лучше: пока Лафайет проявлял такую же слепоту, как астроном, Байи стал вдруг любезен, как истинный кавалер: он послал королеве собственноручное письмо г-жи де Рошрёль.
Лишь г-н де Гувьон, находившийся под прямым влиянием г-жи де Рошрёль, сохранил стойкие подозрения: предупрежденный любовницей, он под предлогом малого военного совета вызвал к себе дюжину офицеров национальной гвардии, пятерых или шестерых из них он расставил на часах у дверей, а сам с пятью командирами батальонов стал с особенным вниманием следить за дверьми в апартаменты г-на де Вилькье.
В это время в уже известной нам гостиной дома № 9 по улице Кок-Эрон красивая молодая дама, внешне спокойная, но в глубине души чрезвычайно взволнованная, сидя на козетке, беседовала со стоявшим перед ней молодым человеком лет двадцати четырех; он был одет в светло-желтую куртку курьера и кожаные лосины, обут в ботфорты и вооружен охотничьим ножом.
Он держал в руках круглую шляпу, обшитую галуном.
Молодая женщина, похоже, на чем-то настаивала, а молодой человек словно оправдывался.
— Мне все-таки хотелось бы знать, виконт, — говорила дама, — почему за два с половиной месяца с тех пор, как он вернулся в Париж, он ни разу не пришел сам?
— Со времени своего возвращения, сударыня, мой брат не раз поручал мне навестить вас.
— Я знаю, и я ему за это весьма благодарна, так же как и вам, виконт, однако мне кажется, что перед отъездом он мог бы прийти попрощаться лично.
— Очевидно, у него не было такой возможности, сударыня, раз он поручил это мне.
— Вы уезжаете надолго?
— Этого я не знаю, сударыня.
— Я говорю вы, виконт, так как по вашему костюму я могу судить о том, что вы тоже готовы к отъезду.
— По всей вероятности, сударыня, я покину Париж сегодня в полночь.
— Вы сопровождаете брата или едете в противоположном направлении?
— Я думаю, сударыня, что мы отправимся вместе.
— Вы скажете ему, что виделись со мной?
— Да, сударыня, так как, судя по настойчивости, с какой он посылал меня к вам, а также по тому, как просил непременно с вами повидаться до того, как я прибуду к нему, он не простил бы мне, если б я забыл об этом поручении.
Дама прикрыла рукой глаза, вздохнула и, задумавшись на минуту, продолжала:
— Виконт, вы благородный человек, вы поймете значение, которое я придаю своей просьбе; отвечайте мне так, как если бы я была вашей родной сестрой, отвечайте мне как перед Богом. Грозит ли господину де Шарни в этом путешествии какая-нибудь серьезная опасность?
— Кто может сказать, сударыня, — отвечал Изидор, пытаясь избежать прямого ответа на вопрос, — где в наше время нас поджидает опасность?.. Если бы утром пятого октября нашего бедного брата Жоржа спросили, ожидает ли он какой-нибудь опасности, он несомненно ответил бы, что нет, а на следующий день он лежал бледный, бездыханный на пороге комнаты королевы. В наши дни, сударыня, опасность появляется прямо из-под земли и человек оказывается лицом к лицу со смертью, не зная, откуда она приходит и кто ее призвал.
Андре побледнела.
— Значит, ему угрожает смертельная опасность, виконт?
— Я этого не говорил, сударыня.
— Нет, но вы так думаете.
— Если вы, сударыня, хотите передать моему брату нечто важное, то могу вам сказать, что дело, за которое берется, как и я, мой брат, достаточно серьезное и вы можете на словах или в письме передать со мной ваши соображения, ваше пожелание или ваш совет.
— Хорошо, виконт, — поднимаясь, сказала Андре, — прошу вас подождать пять минут.
Привычным размеренным шагом графиня удалилась в свою комнату, прикрыв за собой дверь.
Когда графиня вышла, молодой человек с беспокойством взглянул на часы.
— Четверть десятого… — прошептал он, — король ждет нас в половине десятого… К счастью, отсюда до Тюильри два шага.
Однако графиня возвратилась раньше назначенного ею самой времени, спустя несколько мгновений, держа в руке запечатанное письмо.
— Виконт, — тожественно проговорила она, — я доверяю это вашей чести.
Изидор протянул руку за письмом.
— Погодите, — остановила его Андре, — постарайтесь понять, что я вам скажу. Если ваш брат граф де Шарни исполнит предпринимаемое им дело благополучно, не говорите ему о письме и передайте только то, что я вам сказала об уважении к его преданности, а также о восхищении его характером… Если он будет ранен… — голос Андре едва заметно дрогнул, — если он будет серьезно ранен, попросите его оказать мне милость и позволить прибыть к нему; если он эту милость мне окажет, пошлите ко мне гонца с сообщением точного адреса, я выеду в ту же минуту. Если он будет ранен смертельно… — голос Андре готов был прерваться от волнения, — передайте ему это письмо; если он не сможет прочесть его сам, прочтите вы: я хочу, чтобы он перед смертью узнал, что в этом письме. Дайте мне слово дворянина, что вы исполните мою просьбу.
Изидор, взволнованный не менее графини, протянул руку.
— Клянусь честью, сударыня! — воскликнул он.
— В таком случае берите письмо и идите, виконт.
Изидор взял письмо, поцеловал графине руку и вышел.
— О! — вскричала Андре, падая на козетку. — Если ему суждено умереть, я хочу, чтобы он хотя бы перед смертью знал, что я его люблю!
В ту самую минуту как Изидор уходил от графини, спрятав письмо на груди рядом с другим письмом, на котором он при свете фонаря, горевшего на углу улицы Кокийер, прочел адрес, два господина, одетых точно так, как он, подходили к месту общего сбора, то есть будуару королевы, куда мы уже водили наших читателей двумя разными путями; один из них пошел через галерею Лувра, проходящую вдоль набережной, ту самую галерею, где находится в наши дни Музей изящных искусств — там его ждал Вебер; другой отправился по небольшой лестнице — по ней поднимался Шарни после своего возвращения из Монмеди. И точно так же, как его товарища в конце галереи Лувра ждал Вебер, камердинер королевы, этого человека наверху лестницы ожидал Франсуа Гю, камердинер короля.
Их обоих почти в одно время ввели через разные двери; первым из них оказался г-н де Валори.
Несколько мгновений спустя, как мы уже сказали, другая дверь распахнулась и г-н де Валори с изумлением увидел будто себя самого входящим в зал.
Офицеры были незнакомы; однако, предполагая, что их вызвали по одному и тому же делу, они пошли друг другу навстречу и поздоровались.
В эту минуту отворилась третья дверь и на пороге появился виконт де Шарни.
Это был третий курьер, столь же незнакомый двум первым, как и они ему.
Только Изидору было известно, с какой целью их собрали и какое дело им будет поручено.
Он приготовился отвечать на вопросы своих будущих товарищей, как вдруг дверь вновь отворилась и вошел король.
— Господа! — обратился он к г-ну де Мальдену и г-ну де Валори. — Прошу простить, что я распорядился вами, не имея на то вашего согласия, однако я полагал вас верными слугами монархии, ведь вы принадлежите к числу моих гвардейцев. Я пригласил вас к портному, адрес которого вам был указан, вы должны были заказать костюмы курьеров и явиться в них сегодня вечером в половине десятого в Тюильри; ваше присутствие здесь свидетельствует о том, что вы готовы исполнить любое мое поручение.
Оба бывших гвардейца поклонились.
— Государь, — отозвался первым г-н де Валори, — вашему величеству известно, что вы можете, не спрашивая своих дворян, располагать ими по своему усмотрению, будучи уверенным в их преданности, отваге и готовности отдать за вас свою жизнь.
— Государь, — поддержал его г-н де Мальден, — мой товарищ ответил не только за себя, но за меня и, полагаю, за третьего нашего спутника.
— Ваш третий товарищ, господа, которого я хочу вам представить, что, безусловно, доставит вам удовольствие, — это господин виконт Изидор де Шарни, чей брат был убит в Версале, загородив собою вход в комнату королевы; мы имели немало случаев убедиться в преданности членов его семьи, и настолько к этому привыкли, что даже не благодарим их за это.
— Судя по тому, что говорит его величество, — заметил г-н де Валори, — виконту де Шарни, несомненно, известна причина, по которой нас собрали, мы же этого не знаем, государь, и с нетерпением ждем ваших приказаний.
— Господа, — пояснил король, — как вы знаете, я нахожусь в плену, в плену у командующего национальной гвардией, у председателя Национального собрания, у мэра Парижа, у народа — словом, у всех. И вот, господа, я рассчитываю с вашей помощью избавиться от этого унижения и вновь стать свободным. Моя судьба, судьба королевы, судьба моих детей в ваших руках; все готово для побега сегодня вечером — только помогите нам выйти отсюда.
— Государь, — заявили трое молодых людей, — приказывайте.
— Как вы понимаете, господа, мы не можем выйти вместе. Мы условились встретиться на углу улицы Сен-Никез, где граф де Шарни будет нас ждать с каретой; вы, виконт, позаботитесь о королеве, вы должны откликаться на имя Мельхиор; вы, господин де Мальден, возьмете на себя заботу о мадам Елизавете и нашей дочери — помните, что вас зовут Жаном; вы, господин де Валори, отвечаете за госпожу де Турзель и дофина, вас зовут Франсуа. Не забудьте свои новые имена, господа, и ждите здесь новых приказаний.
Король поочередно подал руку всем и вышел, оставив в зале трех человек, готовых отдать за него жизнь.
Господин де Шуазёль объявил накануне королю от имени г-на де Буйе, что откладывать отъезд не представляется более возможным, и назначил побег на полночь 20 июня, сообщив, что 21-го в четыре часа утра он в случае отсутствия новостей отправится сам и приведет с собой все подразделения в Дён, Стене и Монмеди. Сам г-н де Шуазёль ждал, как мы уже сказали, дома, на улице Артуа, куда должны были доставить последние распоряжения двора; было девять часов вечера, и он начал уже впадать в отчаяние, когда единственный оставленный им в доме лакей, полагавший, что хозяин собирается в Мец, доложил о каком-то господине, прибывшем от имени королевы.
Он приказал пригласить его наверх.
Вскоре в комнату вошел человек в круглой шляпе, надвинутой на самые глаза; он был закутан в необъятный плащ.
— Это вы, Леонар? — спросил хозяин. — Я уже заждался.
— Если я заставил вас ждать, господин герцог, то в том виноват не я, а королева; она всего десять минут назад меня предупредила, что я должен к вам явиться.
— И она вам больше ничего не сказала?
— Как же, господин герцог! Она просила меня забрать все ее бриллианты и передать вам это письмо.
— Давайте скорее! — воскликнул герцог с легким нетерпением, которого не могло умерить безграничное доверие, оказываемое влиятельному лицу, передавшему герцогу послание ее величества.
Письмо было длинное, состоявшее из бесчисленных наставлений; в нем сообщалось, что отъезд назначен на полночь; королева предлагала герцогу де Шуазёлю выехать немедленно и еще раз просила взять с собой Леонара, которому приказано, прибавила она, слушаться его также, как ее.
Она подчеркнула семь следующих слов:
"Я еще раз повторяю ему это приказание".
Герцог взглянул на Леонара, ожидавшего с заметным нетерпением; парикмахер был смешон в своей огромной шляпе и необъятном плаще.
— Итак, — спросил герцог, — постарайтесь хорошенько вспомнить: что вам сказала королева?
— Я готов повторить все господину герцогу слово в слово.
— Говорите, слушаю вас.
— Она вызвала меня к себе около часу тому назад, господин герцог.
— Так-так.
— Она сказала мне шепотом…
— Значит, ее величество была не одна?
— Нет, господин герцог; в это время король разговаривал у окна с мадам Елизаветой, дофин играл с ее высочеством принцессой, а королева стояла опершись рукой о камин.
— Продолжайте, Леонар, продолжайте.
— Королева сказала мне шепотом: "Леонар, могу ли я на вас рассчитывать?" — "Ах, ваше величество, — отвечал я, — можете мною располагать: вашему величеству известно, что я предан вам телом и душой". — "Возьмите эти бриллианты и разложите их по карманам; возьмите это письмо и отнесите его на улицу Артуа герцогу де Шуазёлю, передайте лично в руки; если он еще не вернулся, вы найдете его у герцогини де Грамон". Я пошел было исполнять приказание ее величества, но королева меня окликнула: "Наденьте широкополую шляпу и просторный плащ, чтобы вас никто не узнал, дорогой Леонар, и слушайтесь герцога де Шуазёля как меня". Я поднялся к себе, взял у брата шляпу и плащ, и вот я здесь.
— Значит, королева в самом деле приказала вам слушаться меня так же, как ее? — уточнил г-н де Шуазёль.
— Таковы собственные слова ее величества, господин герцог.
— Я очень рад, что вы помните это устное приказание; во всяком случае вот это же приказание в письменном виде; прочтите его, прежде чем я сожгу письмо.
И г-н де Шуазёль показал Леонару окончание только что полученного письма; тот прочел вслух:
"Я приказала моему парикмахеру Леонару слушаться Вас так же, как меня. Я еще раз повторяю ему это приказание".
— Вы все поняли, не так ли? — спросил г-н де Шуазёль.
— О господин герцог, можете поверить, — отвечал Леонар, — что и устного приказания ее величества было бы довольно.
— Ну, все равно, — сказал г-н де Шуазёль.
И он сжег письмо.
В эту минуту вошел лакей и доложил, что карета готова.
— Идемте, дорогой Леонар, — пригласил герцог.
— Как же я пойду? А бриллианты?
— Вы возьмете их с собой.
— Куда?
— Туда, куда я вас везу.
— А куда вы меня везете?
— За несколько льё отсюда; там вам надлежит исполнить особое поручение.
— Господин герцог, это невозможно!
— Как невозможно?! Разве королева не приказала вам слушаться меня так же, как ее?
— Верно, но как же быть? Я оставил ключ в двери нашей квартиры; когда брат вернется, он не найдет ни своей шляпы, ни плаща; а если я не вернусь, он не будет знать, где я. Кроме того, я обещал причесать госпожу де Лааге, она ждет меня, чему доказательством служит то, господин герцог, что мой кабриолет и мой лакей сейчас во дворе Тюильри.
— Ну, дорогой Леонар, это не беда! — засмеялся г-н де Шуазёль, — ваш брат купит новую шляпу и новый плащ; госпожу де Лааге вы причешете в другой раз, а ваш лакей, видя, что вы не возвращаетесь, расседлает вашего коня и поставит его в конюшню; наш же конь запряжен, и пришла пора ехать.
Не обращая более внимания на жалобы и причитания Леонара, герцог де Шуазёль приказал растерянному парикмахеру садиться в кабриолет и пустил коня крупной рысью к заставе Птит-Виллет.
Не успел герцог де Шуазёль миновать последние дома Птит-Виллет, как группа из пяти человек, возвращавшихся из Якобинского клуба, вышла на улицу Сент-Оноре; они двинулись по направлению к Пале-Роялю, и тут их внимание привлекла глубокая тишина этого вечера.
Эти пятеро были: Камилл Демулен, сам потом рассказавший об этом случае, Дантон, Фрерон, Шенье и Лежандр.
Дойдя до улицы Эшель и окинув взглядом Тюильри, Камилл Демулен заметил:
— Честное слово, не кажется ли вам, что в Париже слишком тихо, словно в покинутом городе? На всем пути мы встретили только один патруль.
— Дело в том, что приняты необходимые меры, чтобы освободить дорогу королю, — пояснил Фрерон.
— Как это освободить дорогу королю? — удивился Дантон.
— Ну, разумеется, — подтвердил Фрерон, — ведь сегодня ночью он уезжает.
— Ну и шутки у вас! — воскликнул Лежандр.
— Может, это и шутка, — не унимался Фрерон, — но меня предупреждают письмом.
— Ты получил письмо, в котором тебя предупреждают о бегстве короля? — удивился Камилл Демулен. — И оно подписано?
— Нет, без подписи; да оно при мне… Вот, читайте!
Пятеро патриотов подошли к наемному экипажу, стоявшему на улице Сен-Никез, и при свете фонаря прочли следующее:
"Гражданина Фрерона предупреждают, что сегодня вечером г-н Капет, Австриячка и двое ее волчат покинут Париж и присоединятся к г-ну де Буйе, нансийскому убийце, ожидающему их на границе".
— Посмотри, как удачно назвали: господин Капет, — заметил Камилл Демулен, — отныне я буду называть Людовика Шестнадцатого господином Капетом.
— И тебя можно будет упрекнуть только в одном, — прибавил Шенье, — дело в том, что Людовик Шестнадцатый — не Капет, а Бурбон.
— Ба! Да кто об этом теперь знает? — хмыкнул Камилл Демулен. — Один-два педанта вроде тебя, Лежандр! Капет — прекрасное имя, верно?
— А вдруг в письме содержится правда и сегодня ночью вся королевская шайка удерет? — заметил Дантон.
— Ну, раз уж мы оказались в Тюильри, пойдемте поглядим! — предложил Камилл.
Пятеро патриотов в веселом расположении духа прогулялись по Тюильри; возвратившись на улицу Сен-Никез, они увидали, как Лафайет, а вместе с ним весь его штаб входят во дворец.
— Клянусь честью, — воскликнул Дантон, — Блондинчик пошел укладывать в постельку королевскую чету; наша служба окончена, а его — только начинается! Спокойной ночи, господа! Кто идет со мной в сторону улицы Пан?
— Я, — отвечал Лежандр.
Группа разделилась.
Дантон и Лежандр перешли через площадь Карусель, а Шенье, Фрерон и Камилл Демулен скрылись за углом улиц Рогана и Сент-Оноре.
XXI
ОТЪЕЗД
Действительно, г-жа де Турзель и г-жа де Бренье приготовили ко сну и уложили королевскую дочь и дофина, а в одиннадцать часов вечера снова их разбудили и стали надевать на них дорожные костюмы, к великому неудовольствию дофина, который хотел одеться как мальчик и упрямо отказывался от платьица; в это время королева и мадам Елизавета принимали генерала де Лафайета и его адъютантов: г-на де Гувьона и г-на Ромёфа.
Этот визит был для них одним из самых неприятных, в особенности из-за подозрений, падавших на г-жу де Рошрёль.
Королева и мадам Елизавета гуляли вечером в Булонском лесу и вернулись в восемь часов.
Господин де Лафайет спросил у королевы, хорошо ли они гуляли; правда, прибавил он, напрасно они возвратились так поздно: он опасался, как бы вечерний туман не повредил ее величеству.
— Вечерний туман в июне! — рассмеялась королева. — Да где же я его возьму, разве что прикажу сделать его нарочно, чтобы скрыть наш побег… Я говорю "чтобы скрыть наш побег", так как полагаю, что слухи о нашем отъезде все еще ходят.
— Дело в том, ваше величество, что об этом отъезде говорят больше, чем раньше, — прибавил Лафайет, — и я даже получил сообщение, что он состоится сегодня вечером.
— О! Держу пари, что эту приятную новость вам принес господин де Гувьон, не правда ли?
— Но почему же я, ваше величество? — покраснев, спросил молодой офицер.
— Просто мне кажется, у вас есть во дворце лазутчики. Но вот у господина Ромёфа их нет, и я уверена, что он соблаговолит за нас поручиться.
— И в этом никакой особой моей заслуги не будет, ваше величество, — согласился молодой адъютант, — ведь король дал Национальному собранию слово не покидать Париж.
Теперь покраснела королева.
Они перевели разговор на другую тему.
В половине двенадцатого г-н де Лафайет и его адъютанты попрощались с королем и королевой.
Однако г-н де Гувьон, нисколько не успокоившись, вернулся в свою комнату во дворце; там он застал своих друзей начеку и, вместо того чтобы сменить посты, приказал усилить наблюдение.
Господин де Лафайет отправился тем временем в ратушу успокоить Байи относительно намерений короля, если, разумеется, у Байи были какие-нибудь опасения.
Когда г-н де Лафайет ушел, король, королева и мадам Елизавета позвали слуг, чтобы те, как всегда, занялись их вечерним туалетом, по окончании которого вся прислуга в обычное время была отпущена.
Королева и мадам Елизавета помогли друг другу одеться. Платья их отличались небывалой простотой, а шляпы были широкополые, совершенно закрывающие лица.
Когда они были готовы, вошел король. Он был одет в серый сюртук, на голове у него был небольшой паричок в букольках, который в те времена называли париком в стиле Руссо; кроме того, на нем были короткие оболоты, серые чулки и башмаки с пряжками.
Вот уже неделю камердинер Гю, одетый в точно такой же костюм, выходил через дверь покоев г-на де Вилькье, эмигрировавшего еще за полгода до того, и шел через площадь Карусель на улицу Сен-Никез; это делалось из предусмотрительности, чтобы жители привыкли к тому, что одетый таким образом господин каждый вечер проходит мимо них, и чтобы король не привлек к себе их внимания в решающий день.
Из будуара королевы вызвали трех курьеров, выжидавших там назначенного часа; их провели через гостиную в комнату юной принцессы, где она находилась вместе с дофином. Эта комната в предвидении побега была еще 11 июня занята в апартаментах г-на де Вилькье под спальню принцессы.
Король приказал передать ему ключи от этих покоев 13-го. Попав к г-ну де Вилькье, можно было без особого труда выйти из дворца. Всем было известно, что там никто не жил, вот почему покои не охранялись и мало кто знал, что у короля есть ключи от них.
Кроме того, дворцовые часовые привыкли, что, как только часы били одиннадцать, из дворца выходило много людей.
Это была прислуга, не остававшаяся на ночь во дворце и расходившаяся по домам.
Еще раз уточнили все распоряжения относительно путешествия.
Господин Изидор де Шарни, изучивший дорогу вместе с братом, знал все трудные или опасные места и потому должен был скакать впереди. В его обязанности входило также предупреждать смотрителей станций, чтобы не было задержек с переменой лошадей.
Господину де Мальдену и г-ну де Вал ори надлежало сидеть на козлах и платить форейторам по тридцать су прогонных вместо обычных двадцати пяти: пять су набавляли, учитывая тяжесть кареты.
Если форейторы погонят лошадей быстро, они должны были получить более солидные чаевые. Однако им не следовало платить более сорока су: только король платил один экю.
Граф де Шарни будет находиться в карете, готовый предупредить любые неожиданности. Он будет хорошо вооружен, как и трое курьеров. Каждому из них будет приготовлено в экипаже по паре пистолетов.
Платя по тридцать су прогонных и продвигаясь не спеша, через тринадцать часов рассчитывали быть в Шалоне.
Эти подробности обсудили между собой граф де Шарни и герцог де Шуазёль.
Все это неоднократно повторили трем молодым людям, чтобы каждый из них по-настоящему понял свои обязанности.
Итак, виконт де Шарни поскачет впереди и будет распоряжаться лошадьми.
Господин де Мальден и г-н де Валори сядут на козлах и будут расплачиваться с форейторами.
Граф де Шарни, находясь в карете, станет поглядывать в окно и, если обстоятельства того потребуют, возьмет на себя все переговоры.
Каждый из них обещал придерживаться намеченной программы. Свечи были погашены, и все ощупью двинулись через покои г-на де Вилькье.
Часы пробили полночь, когда они переходили из спальни королевской дочери в апартаменты г-на де Вилькье. Граф де Шарни уже около часу, должно быть, ожидал их на своем посту.
Король нащупал дверь.
Он собирался вставить ключ в скважину, как вдруг королева его остановила:
— Тише!
Они прислушались.
Из коридора донеслись шаги и шушуканье.
Там происходило нечто непредвиденное.
Госпожа де Турзель жила во дворце, и потому ее появление в коридоре в любое время не могло никого удивить; она вызвалась вернуться в королевские апартаменты и выяснить причину этого шума.
Все замерли и стали ждать затаив дыхание.
В установившейся тишине легче было понять, что в коридоре собралось много народу.
Вернулась г-жа де Турзель; она узнала г-на де Гувьона и увидела нескольких людей в военной форме.
Таким образом становилось невозможным выйти через апартаменты г-на де Вилькье, если только из них не было другого выхода.
Ах, как был нужен свет!
В комнате юной принцессы горел ночник. Мадам Елизавета отправилась туда, чтобы зажечь от ночника только что задутую свечу.
После того, как свеча осветила небольшую группу беглецов, все бросились искать выход.
Долгое время казалось, что поиски бесполезны; так прошло около четверти часа. Наконец была обнаружена небольшая лестница, которая привела в отдельную комнатку. Она принадлежала лакею г-на де Вилькье и выходила в коридор и на служебную лестницу.
Дверь была заперта на ключ.
Король попробовал все ключи в связке: ни один не подходил.
Виконт де Шарни попытался отодвинуть язычок замка острием охотничьего ножа, но тот не поддавался.
Итак, выход существовал, однако они были заперты, как и раньше.
Король взял свечу из рук мадам Елизаветы и, оставив всех в темноте, пошел в свою спальню, а оттуда по потайной лестнице поднялся в кузницу. Там он взял связку различных отмычек — некоторые из них имели причудливую форму — и спустился вниз.
Прежде чем вернуться к ожидавшим его в беспокойстве беглецам, он уже успел сделать выбор.
Выбранная королем отмычка вошла в замочную скважину, со скрежетом повернулась и зацепила язычок замка; дважды язычок срывался, а в третий раз так хорошо зацепился, что спустя мгновение замок поддался.
Язычок отодвинулся, дверь отворилась; собравшиеся облегченно вздохнули.
Людовик XVI обернулся и с торжествующим видом взглянул на королеву.
— Ну что, сударыня? — сказал он.
— Да, сударь, — улыбнулась королева, — я и не говорю, что плохо быть слесарем, я только говорю, что иногда хорошо быть и королем.
Теперь нужно было уточнить намеченный ранее план.
Мадам Елизавета вышла первой, ведя за руку королевскую дочь.
В двадцати шагах позади нее должна была идти г-жа де Турзель вместе с дофином.
Между ними шагал г-н де Мальден, готовый прийти на помощь и тем и другим.
Эти первые зерна, сорванные с королевских четок, эти несчастные дети, чья любовь заставляла их оглядываться назад в поисках любящего взгляда, который провожал их, спустились на цыпочках, трепеща от страха, вошли в круг света, отбрасываемый фонарем у входа во дворец со стороны башни, и проследовали мимо часового, не обратившего на них никакого внимания.
— Ну вот, — прошептала мадам Елизавета, — самое страшное позади.
Когда они стали приближаться к проходу, ведущему на площадь Карусель, часовой двинулся наперерез.
При виде их он остановился.
— Тетушка! — прошептала юная принцесса, сжимая руку мадам Елизавете. — Мы пропали: этот человек нас узнал.
— Ничего, дитя мое, — отвечала мадам Елизавета, — если мы пойдем назад, мы погибнем.
И они продолжали продвигаться вперед.
Когда они были всего в четырех шагах от часового, тот повернулся к ним спиной, и они прошли мимо.
Действительно ли их узнал этот человек? Знал ли он, каких знатных беглянок пропустил? Принцессы были в этом убеждены и, пробегая мимо, благословили незнакомого спасителя.
По ту сторону прохода они увидели встревоженного Шарни.
Граф был закутан в широкий синий каррик, а на голове у него была круглая клеенчатая шляпа.
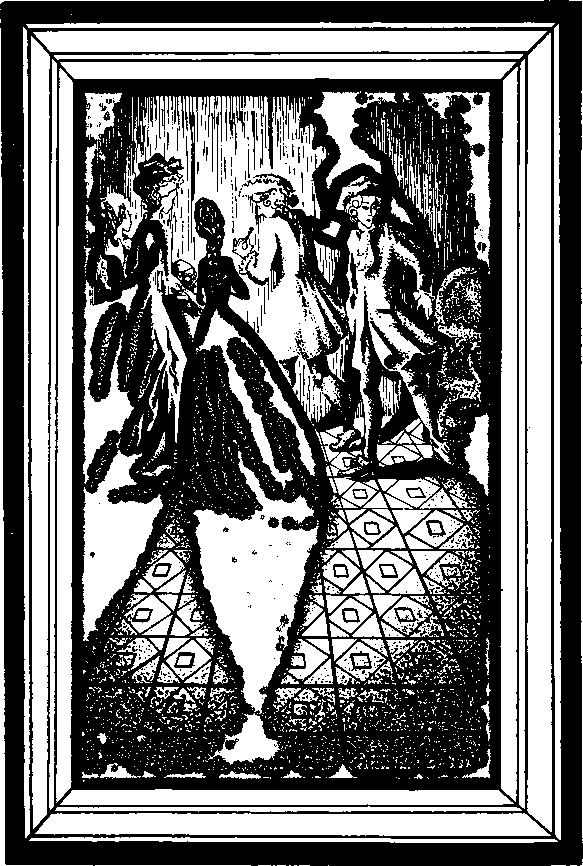
— Боже мой! — прошептал он. — Наконец-то! А где король? Что с королевой?
— Они следуют за нами, — ответила мадам Елизавета.
— Идемте, — сказал Шарни.
Он скорым шагом двинулся к стоявшей на улице Сен-Никез карете, увлекая за собой беглянок.
Рядом с каретой, словно для того, чтобы следить за ней, остановился фиакр.
— Эй, приятель, — закричал кучер фиакра, видя пополнение, приведенное графом де Шарни, — ты, похоже, загрузился?
— Как видишь, приятель, — ответил Шарни.
Он шепнул г-ну де Мальдену:
— Возьмите этот фиакр и поезжайте прямо к воротам Сен-Мартен; вы без труда узнаете ожидающую нас карету.
Господин де Мальден все понял, прыгнул в фиакр и сказал кучеру:
— Ты тоже загрузился. В Оперу, живо!
Опера находилась в те времена у ворот Сен-Мартен.
Кучер подумал, что имеет дело с лакеем, едущим встречать хозяина после спектакля, и потому лишь позволил себе осторожное замечание насчет платы:
— А вы знаете, что уже полночь, милейший?
— Да, поезжай и не беспокойся.
Так как в те времена лакеи проявляли иногда большую щедрость, чем их хозяева, кучер без лишних слов пустил лошадь крупной рысью.
Едва фиакр завернул за угол улицы Рогана, как через ту же калитку, выпустившую юную принцессу, мадам Елизавету, г-жу де Турзель и дофина, вышел какой-то человек в сером сюртуке, надвинув на глаза угол шляпы и засунув руки в карманы; он шел не спеша и напоминал служащего, покинувшего свою канцелярию после долгого трудового дня.
Это был король.
За ним следовал г-н де Валори.
У короля на ходу оторвалась пряжка на башмаке, однако он продолжал путь, не пожелав обратить на это внимание; ее подобрал г-н де Валори.
Шарни сделал несколько шагов навстречу: он узнал его величество, вернее, не его, а г-на де Валори.
Шарни был из тех, кто в короле всегда хочет видеть монарха.
Ему стало больно и стыдно за короля.
Обращаясь к г-ну де Валори, он тихо спросил:
— А где королева?
— Королева идет следом за нами в сопровождении вашего брата.
— Хорошо. Выберите самый короткий путь и ждите нас у ворот Сен-Мартен; я отправлюсь по самой длинной дороге. Встречаемся у кареты.
Господин де Валори поспешил на улицу Сен-Никез, потом вышел на улицу Сент-Оноре, затем — на улицу Ришелье, оттуда вышел на площадь Побед и двинулся по улице Бурбон-Вильнёв.
Все ждали королеву.
Прошло полчаса.
Мы не станем описывать беспокойство беглецов. Шарни, на котором лежала вся ответственность, едва не лишился рассудка.
Он хотел было вернуться во дворец и осведомиться о происходящем, но король его удержал.
Юный дофин в слезах звал: "Мама, мама!"
Ни его сестре, ни мадам Елизавете, ни г-же де Турзель никак не удавалось его успокоить.
Настоящий ужас охватил всех, когда беглецы увидели, что возвращается освещаемая факелами карета генерала Лафайета. Она ехала назад с площади Карусель.
А произошло следующее.
У двери, выходившей во двор, виконт де Шарни подал королеве руку и хотел идти налево.
Однако королева его остановила.
— Куда вы? — спросила она.
— На угол улицы Сен-Никез, где нас ждет мой брат, — отвечал Изидор.
— Разве улица Сен-Никез находится недалеко от набережной? — удивилась королева.
— Нет ваше величество.
— Но ведь ваш брат обещал нас ждать у прохода, ведущего на набережную!
Изидор хотел было возразить, однако королева говорила так уверенно, что он засомневался.
— Боже мой! — воскликнул он. — Ваше величество, будем осмотрительны: малейшая оплошность может оказаться гибельной.
— А я говорю: на набережной, — продолжала настаивать королева, — я хорошо слышала, что на набережной.
— Ну что же, пойдемте на набережную, ваше величество; но если мы не найдем там карету, мы сейчас же пойдем на улицу Сен-Никез, не правда ли?
— Да, а теперь идемте на набережную.
Королева потащила за собой спутника через три двора, которые в те времена были разделены толстой стеной и соединялись только при помощи узкого прохода в дворцовой стене, отгороженного цепью и охраняемого часовым.
Королева и Изидор миновали один за другим эти проходы и перешагнули через три цепи.
Ни одному часовому не пришло в голову их остановить.
Да и как, в самом деле, можно было принять за королеву Франции эту молодую женщину, одетую как служанка из приличного дома и с легкостью перескакивающую через тяжелые цепи, опираясь на руку красивого юноши в ливрее дома принца Конде или похожей на нее?
Они вышли к воде.
Набережная была пустынна.
— Значит, с другой стороны, — предположила королева.
Изидор хотел было вернуться.
Однако на нее словно нашло затмение.
— Нет, нет, это должно быть здесь! — настаивала она.
И она потащила Изидора к Королевскому мосту.
Перейдя через мост, они очутились на набережной левого берега, столь же пустынного, что и правый.
— Давайте посмотрим на этой улице, — предложила королева.
Она вынудила Изидора свернуть на Паромную улицу.
Однако, не пройдя и сотни шагов, королева вынуждена была признать, что ошиблась, и остановилась.
Она задыхалась, силы готовы были вот-вот ее оставить.
— Ваше величество! Вы продолжаете настаивать? — спросил Изидор.
— Нет, — отвечала королева, — теперь дело за вами, ведите меня куда хотите.
— Ваше величество, Небом заклинаю вас, возьмите себя в руки! — воскликнул Изидор.
— О, мужества мне не занимать, — возразила королева, — просто я устала.
Откинувшись назад, они прибавила:
— Мне кажется, ко мне никогда не вернется ровное дыхание! Боже мой! Боже мой!
Изидор знал, что воздух, которого не хватало королеве, был ей в этот час столь же необходим, как лани, преследуемой собаками.
Он остановился.
— Передохните, ваше величество, — предложил он. — У нас есть время. Я ручаюсь за своего брата; если понадобится, он будет ждать до утра.
— Вы думаете, он меня любит? — забыв об осторожности, громко вскрикнула Мария Антуанетта, прижимая к груди руку молодого человека.
— Я думаю, что его жизнь, как и моя, принадлежит вам, ваше величество. То чувство, что принято называть любовью и почтительностью, у него доходит до обожания.
— Благодарю вас, — прошептала королева, — вы мне помогли, я отдохнула! Идемте…
И она с прежней легкостью проделала весь путь еще раз в обратном направлении.
Только вместо того чтобы вернуться во дворец, Изидор вывел ее через проход на площадь Карусель.
Они прошли огромную площадь, обычно до самой ночи заставленную маленькими переносными лавчонками и фиакрами, ожидающими пассажиров.
Теперь она была почти пустынна и еле освещена.
Однако до их слуха донеслись грохот колес и стук конских копыт.
Беглецы подошли к проезду, ведущему на улицу Эшель. Было очевидно, что конский топот и стук колес приближались с другой стороны к этому же проезду.
Уже замаячил вдалеке свет: это, по-видимому, были факелы, освещавшие экипаж.
Изидор хотел отступить, но королева потянула его вперед.
Изидор бросился, чтобы защитить королеву, как раз в ту минуту, когда с другой стороны проезда появились первые лошади факельщиков.
Изидор толкнул королеву в самый темный угол и заслонил ее собой.
Однако этот темный угол сейчас же осветился благодаря факельщикам.
Между ними в карете полулежал в элегантном мундире командующий национальной гвардии Лафайет.
В то мгновение как карета проезжала мимо, Изидор почувствовал, как чья-то рука скорее властно, чем с силой оттолкнула его.
Это была левая рука королевы; в правой она сжимала бамбуковую тросточку с золотым набалдашником, с какой женщины ходили в те времена.
Она ударила ею по колесам со словами:
— Прочь, тюремщик, я вырвалась из твоей тюрьмы!
— Что вы делаете, ваше величество! — воскликнул Изидор. — Подумайте, чем вы рискуете!
— Я мщу за себя, — отвечала королева. — Ради этого можно и рискнуть!
И вслед за последним факельщиком она кинулась в проезд, сияя, как богиня, и радуясь, словно ребенок.
XXII
ВОПРОС ЭТИКЕТА
Не успела королева сделать и десяти шагов, как человек в синем каррике и глубоко надвинутой клеенчатой шляпе судорожно схватил ее за руку и потащил к экипажу, стоявшему на углу улицы Сен-Никез.
Это был граф де Шарни.
В карете вот уже более получаса ее ожидала вся королевская семья.
Беглецы думали увидеть королеву замкнутой, подавленной, обессиленной; она же была радостной и оживленной; пережитая опасность, перенесенная усталость, допущенная оплошность, потерянное время, возможные последствия этого опоздания — все это она забыла благодаря удару тростью по карете Лафайета: ей казалось, что она ударила его самого.
В десяти футах от экипажа лакей держал под уздцы коня.
Шарни, ни слова не говоря, указал брату на коня, Изидор прыгнул в седло и пустился вскачь.
Он помчался в Бонди, чтобы заказать там лошадей.
Королева бросила ему вдогонку несколько слов благодарности, но Изидор их не расслышал.
— Едем, ваше величество, едем, нельзя терять ни секунды, — напомнил Шарни; в голосе его слышались почтительность и в то же время властность: так умеют говорить лишь поистине сильные люди в чрезвычайных обстоятельствах.
Королева вошла в карету, где уже находились король, мадам Елизавета, королевская дочь, дофин и г-жа де Турзель — иными словами, пять человек; она устроилась на заднем сиденье, посадила дофина к себе на колени; король поместился с ней рядом; мадам Елизавета, юная принцесса и г-жа де Турзель сели напротив.
Шарни захлопнул дверцу, поднялся на козлы и, чтобы сбить со следа шпионов, если бы таковые нашлись, развернул лошадей, снова поднялся по улице Сент-Оноре, выехал бульварами к церкви Мадлен и проехал дальше к воротам Сен-Мартен.
Карета была там; она стояла по ту сторону заставы, на дороге, которая вела к тому, что называлось дорожной службой.
Дорога была безлюдной.
Граф де Шарни спрыгнул с сиденья и распахнул дверцу экипажа.
Дверца большой кареты, предназначавшейся для путешествия, была уже отворена. Господин де Мальден и г-н де Валори стояли по обе стороны от подножки.
В одно мгновение шесть человек, занимавшие наемный экипаж, оказались посреди дороги.
Граф де Шарни сдвинул экипаж на обочину и опрокинул его в канаву.
Затем он вернулся к большой карете.
Первым сел король, за ним — королева, потом — мадам Елизавета; за мадам Елизаветой поднялись дети, за ними г-жа де Турзель.
Господин де Мальден взобрался на запятки, г-н де Валори сел рядом с Шарни на козлы.
Карета была запряжена четверкой; кучер прищелкнул языком и пустил лошадей рысью.
Часы на церкви святого Лаврентия пробили четверть второго. Час ушел на то, чтобы добраться до Бонди.
Лошади уже в сбруе были выведены из конюшни.
Изидор поджидал путешественников около лошадей.
По другую сторону от дороги стоял наемный кабриолет, запряженный почтовыми лошадьми.
В кабриолете сидели две горничные из службы дофина и юной принцессы.
Они надеялись нанять в Бонди карету, но не нашли и, сговорившись с хозяином, купили кабриолет за тысячу франков.
Хозяин был доволен сделкой и, желая поглядеть, что собираются делать особы, имевшие глупость отвалить ему тысячу франков за развалину, ожидал отправления, потягивая вино в почтовом трактире.
Он увидел, как приехала карета короля. Правивший ею Шарни слез с облучка и подошел к дверце.
Под кучерским плащом на нем был мундир; в ящике под козлами лежала его шляпа.
Король, королева и Шарни заранее уговорились, что в Бонди Шарни займет в карете место г-жи де Турзель, а та возвратится в Париж.
Однако об этом изменении плана забыли спросить у самой г-жи де Турзель.
Король изложил ей суть дела.
Госпожа де Турзель была не только искренне предана королевской семье, она в вопросах этикета была подобием старой герцогини де Ноай.
— Государь! — возразила она, — моя обязанность — смотреть за детьми Франции и не оставлять их ни на минуту; если на то не будет специального приказания вашего величества — приказания, не имевшего прецедентов в истории, я их не оставлю.
Королева задрожала от нетерпения. У нее были две причины желать, чтобы Шарни ехал с ними в карете: как королева она видела в этом свою безопасность; как женщина она находила в этом свою радость.
— Дорогая госпожа де Турзель, — сказала она, — мы вам весьма признательны; но ведь вам неудобно, вы подвергаете себя опасностям путешествия из-за излишней преданности; оставайтесь в Бонди, а потом догоните нас, где бы мы ни были.
— Ваше величество, — отвечала г-жа де Турзель, — пусть король мне прикажет, и я готова выйти и остаться, если понадобится, посреди дороги; но только приказание короля может заставить меня пренебречь своей обязанностью и отказаться от своего права.
— Государь! — вскричала королева. — Государь!..
Однако Людовик не решался выразить свое мнение по этому важному вопросу — он искал какую-нибудь уловку, отговорку, какой-нибудь выход из положения.
— Господин де Шарни, — проговорил он наконец, — не могли бы вы оставаться на козлах?
— Я готов исполнить любое желание короля, — отвечал граф де Шарни, — однако я должен там оставаться либо в военной форме, — а в офицерском мундире меня видят на дороге уже четыре месяца и любой может меня узнать, — либо я буду в каррике и кучерской шляпе — в таком случае костюм будет слишком беден для столь изысканной кареты.
— Садитесь, садитесь в карету, господин де Шарни, — приказала королева. — Я возьму дофина на колени, мадам Елизавета посадит к себе Марию Терезию, и все будет прекрасно… Мы немного потеснимся, только и всего.
Шарни ждал, что скажет король.
— Это невозможно, дорогая, — заметил король. — Вспомните, что у нас впереди девяносто льё.
Госпожа де Турзель стояла, приготовившись исполнить приказание короля, если тот прикажет ей выйти; однако его величество никак не мог на это решиться — столь живучи в светских людях даже самые ничтожные предрассудки.
— Господин де Шарни, — обратился король к графу, — не можете ли вы занять место своего брата и отправиться вперед, чтобы заказывать лошадей?
— Как я уже сказал вашему величеству, я готов на все; смею только заметить вашему величеству, что лошадей обычно заказывает курьер, а не капитан линейного корабля; это новшество удивит станционных смотрителей и может вызвать серьезные недоразумения.
— Вы правы, — согласился король.
— О Боже, Боже! — теряя терпение, прошептала королева.
Повернувшись к Шарни, она прибавила:
— Делайте что хотите, господин граф; но я не хочу, чтобы вы нас покидали.
— Таково и мое желание, ваше величество, — сказал Шарни, — и я вижу только один способ.
— Какой же? Говорите скорее! — приказала королева.
— Вместо того чтобы сесть в карету, на козлы или скакать впереди, я буду следовать за вами в обычном платье, в каком путешествуют на почтовых; поезжайте, ваше величество, и прежде чем вы успеете проехать десять льё, я уже буду в пятистах шагах от вашей кареты.
— Так вы возвращаетесь в Париж?
— Ну, разумеется, ваше величество; однако до Шалона вашему величеству опасаться нечего, а я догоню вас раньше, чем вы туда прибудете.
— Каким же образом вы возвратитесь в Париж?
— На коне моего брата, ваше величество; это великолепный скакун, он успел отдохнуть, и меньше чем через полчаса я буду в Париже.
— А что потом?
— Я оденусь надлежащим образом, возьму почтовую лошадь и поскачу во весь опор до тех пор, пока вас не догоню.
— Неужели нет другого средства? — в отчаянии воскликнула Мария Антуанетта.
— Признаться, я ничего лучшего не вижу, — заметил король.
— В таком случае, не будем терять время, — подхватил Шарни. — Итак, Жан и Франсуа, по местам! Вперед, Мельхиор! Форейторы, на лошадей!
Госпожа де Турзель, торжествуя, села на прежнее место, и лошади помчались галопом, а вслед за каретой покатил кабриолет.
За важным разговором все забыли раздать виконту Шарни, г-ну де Валори и г-ну де Мальдену заряженные пистолеты, лежавшие в ящике внутри кареты.
Что же происходило в Париже, куда во весь дух возвращался граф де Шарни?
Один цирюльник, по имени Бюзби, проживавший на улице Бурбон, находился в гостях в Тюильри у одного из своих друзей, стоявшего в тот вечер на часах; этот приятель был наслышан от своих офицеров о готовившемся этой ночью бегстве короля, не вызывавшем ничьих сомнений; и вот он рассказал об этом цирюльнику, а тот вбил себе в голову, что такой проект действительно существует и что бегство королевской семьи, о котором уже давно поговаривали, должно непременно произойти в этот вечер.
Вернувшись домой, цирюльник рассказал жене о том, что он узнал в Тюильри, но она рассудила, что это бред; сомнение жены оказало влияние на мужа: он разделся и лег, отбросив все подозрения.
Однако оказавшись в постели, он почувствовал, как его одолевает прежнее беспокойство, и оно так разрослось, что у него не стало сил ему противостоять: он поднялся с кровати, оделся и побежал к своему приятелю по имени Юше, бывшему булочнику и саперу батальона Театинцев.
Он пересказал ему все, что слышал в Тюильри, и так убедительно передал булочнику свои опасения по поводу возможного бегства королевской семьи, что тот не только с ним согласился, но с еще большей горячностью, чем тот, от кого он все это узнал, вскочил с постели и в одном исподнем выбежал на улицу, забарабанил в двери и разбудил десятка три соседей.
Это происходило около четверти первого, всего через несколько минут после того, как королева встретила г-на Лафайета в проезде Тюильри.
Граждане, разбуженные цирюльником Бюзби и булочником Юше, решили надеть форму национальных гвардейцев, пойти к генералу Лафайету и предупредить его о том, что творится.
Сказано — сделано. Господин де Лафайет проживал на улице Сент-Оноре в особняке Ноай, рядом с монастырем фейянов. Патриоты отправились в путь и прибыли на место около половины первого.
Генерал присутствовал при отходе короля ко сну, потом заехал предупредить своего друга Байи о том, что король лег спать, затем отправился с визитом к г-ну Эмери, члену Национального собрания, и потому только что вернулся домой, приготовившись лечь в постель.
В это мгновение в дверь особняка Ноай постучали. Господин де Лафайет послал камердинера узнать, в чем дело.
Тот скоро вернулся и доложил, что явились двадцать пять-тридцать граждан и требуют у генерала немедленной аудиенции по делу чрезвычайной важности.
Генерал Лафайет уже привык принимать просителей в любое время суток.
И потом, дело, вызвавшее беспокойство двадцати пяти или тридцати человек, могло быть важным; вот почему он приказал пригласить тех, кто хотел с ним переговорить.
Генералу достаточно было вновь надеть только что снятый мундир, чтобы оказаться готовым к приему депутации.
Сьёр Бюзби и сьёр Юше от своего имени, а также от имени товарищей изложили ему опасения: сьёр Бюзби основывал их на том, что слышал в Тюильри; другие же передавали то, что изо дня в день доносилось со всех сторон.
Однако все эти опасения вызвали у генерала лишь смех, и, так как он по натуре был славный малый и любитель поговорить, он рассказал им, что все эти слухи исходят от г-жи де Рошрёль и г-на де Гувьона; желая убедиться в несостоятельности этих россказней, он лично присутствовал при отходе короля ко сну — точно так же, как они, если останутся еще на несколько минут, смогут присутствовать при отходе ко сну его, Лафайета; заметив, что все эти разговоры не вполне их убедили, г-н де Лафайет заявил, что он головой отвечает за короля и всю королевскую семью.
После этого проявлять сомнение стало просто невозможно; пришедшие только спросили у г-на Лафайета пароль, чтобы беспрепятственно разойтись по домам. Господину де Лафайету не составило труда доставить им это удовольствие.
Но, узнав пароль, они решили сходить в зал заседаний в манеже, чтобы узнать, нет ли и там каких-нибудь новостей, а потом наведаться во дворы Тюильри и поглядеть, не происходит ли там чего-нибудь необычного.
Они пошли по улице Сент-Оноре и собирались свернуть на улицу Эшель, как вдруг в них с налету врезался какой-то всадник. Так как в такую ночь все казалось подозрительным, они скрестили ружья и приказали всаднику остановиться.
Всадник натянул поводья.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Мы хотим знать, куда вы направляетесь, — отвечали национальные гвардейцы.
— В Тюильри.
— Что вы собираетесь делать в Тюильри?
— Дать его величеству отчет о порученном мне деле.
— В такой час?
— Ну, разумеется!
Самый хитрый из них знаком приказал остальным молчать и продолжал допрос.
— Но ведь в это время король спит, — заметил он.
— Да, — отвечал всадник, — но его разбудят.
— Если у вас поручение к королю, вы должны знать пароль, — продолжал тот же гвардеец.
— Пароль не доказательство, — возразил всадник, — ведь я мог скакать от самой границы, а мог быть всего за три льё отсюда; я мог выехать месяц тому назад, а мог отсутствовать всего два часа.
— Верно, — согласились национальные гвардейцы.
— Так вы два часа тому назад видели короля? — продолжал спрашивать тот же хитрец.
— Да.
— Вы с ним говорили?
— Да.
— Что он собирался делать два часа назад?
— Ждал, когда выйдет генерал Лафайет, чтобы лечь в постель.
— Так вы знаете пароль?
— Разумеется; зная, что я должен возвратиться в Тюильри между часом и двумя ночи, генерал сообщил мне пароль, чтобы я нигде не задержался.
— Какой же пароль?
— Париж и Пуатье.
— Да, верно, — успокоились гвардейцы. — Со счастливым возвращением, гражданин; передайте королю, что вы застали нас начеку у Тюильри: мы следим, как бы он не сбежал.
И они посторонились, давая дорогу всаднику.
— Непременно передам, — отвечал тот.
Пришпорив коня, он скрылся в воротах Тюильри.
— А не дождаться ли нам его возвращения из Тюильри, чтобы узнать, видел ли он короля? — предложил один из гвардейцев.
— А вдруг у него комната в Тюильри? Что ж нам, до завтра ждать? — возразил другой.
— Верно, — согласился первый, — и, право слово, раз король уже лег спать, раз господин Лафайет ложится, пойдемте-ка и мы, и да здравствует нация!
Тридцать патриотов подхватили: "Да здравствует нация!" — и пошли спать, счастливые и гордые, ведь они услышали из уст самого Лафайета, что не стоит опасаться бегства короля.
Назад: XIV ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРАБО!
Дальше: XXIII ДОРОГА

