Книга: Крик с Арарата. Армин Вегнер и Геноцид армян
Назад: Письма с Ближнего Востока
Дальше: Политические тексты
Дневник
Сорок дней и ночей обратного пути
(Записи из дневника)
Абу Херера, 11 октября 1916 г.
Последний труп? Мы входим в заброшенную гостиницу, полную грязи и дурных запахов, и видим его, лежащего на спине в дверном проеме. Это тело армянского подростка, отощавшего от голода. Волосы светлые, как солома, тело превратилось в кости, обтянутые кожей, кисти и ступни похожи на деревяшки. Только на левой руке еще остались лохмотья одежды. Спускаясь к реке, я нахожу множество могил и бесчисленные следы костров.
Это и есть конечная цель страшной, безжалостной охоты?
У меня до сих пор стоит перед глазами этот исход целого народа, изгнанного со своей земли. В прошлом году я ходил по их лагерям с сердцем, охваченным ужасом. Скоро мы встретим первого беженца. Здесь обочины всех дорог усеяны костями, побелевшими от яркого солнца. В Мадене мы видим первый лагерь. Дети и женщины окружают наши повозки, напирают и ранятся о них в надежде получить ломоть хлеба или дынную корку. В Тибини беженцы устроили небольшой базар: продавцы хлеба, мяса и обуви сидят на голой земле, укрывшись от палящего солнца под рваным полотняным навесом, и предлагают свой товар. В Гаркохе я увидел, как турецкий офицер покупает жареное мясо, и в изумлении подумал: тебя гонят навстречу смерти, а ты в пустыне предлагаешь одному из твоих убийц кусок мяса в обмен на монету!
В Ракке, в грязном и совершенно запущенном лагере, я заметил тринадцатилетнего мальчика. Он потерял мать и братьев, только отец был еще жив. Мальчика звали Манвелом.
Обмотав вокруг головы белую тряпку для защиты от солнца, он на бегу дул в коровий рог и смеялся. Он пробегал мимо голодных, больных и умирающих людей, лежавших неподвижно, близких к помешательству поглощавших собственные экскременты, как еду. У него была хорошо сложенная, еще крепкая фигура, и мне понравилось открытое выражение его лица. Мне захотелось взять его на свою повозку и увезти в Германию. В какой-то момент, встретив ясный взгляд его темных глаз, я подумал: дорогая мама, ты только что потеряла моего брата, погибшего на войне, и я хочу подарить тебе нового сына! Я попросил отвести меня к его отцу, торговцу из Александретты, которого назначили охранником лагеря, потому что он умел читать и писать. Его лицо осветилось радостью, но он был так изможден, что пребывал в каком-то оцепенении. К тому же, он очень боялся жандармов и опасался за свою жизнь, поэтому не сумел дать никакого ответа на мою просьбу.
Тогда я сам пошел к арабскому надзирателю. Я просидел с ним на циновке два часа и предлагал ему все деньги, какие у меня были. Но мальчика так и не согласились отпустить. Я даже пообещал, что попрошу разрешения увезти мальчика у Хакки Бея, чиновника в Алеппо, ответственного за лагеря. Я снова и снова пожимал им руки, повторяя, что не забуду о них по возвращении в Германию. Манвел дошел со мной до выхода из лагеря. Он хотел попытаться догнать наш караван ночью. Но я боялся, что он попадет под выстрелы жандармских ружей.
Мескене, 15 октября
Ближе к вечеру я сел с одним священником, отцом Арсланом Дадшадом, у входа в его палатку и попросил его рассказать о перенесенных страданиях, о восьмистах семьях, вместе с которыми он был депортирован, о тысячах людей, похороненных им в пустыне, среди которых было 23 священника и один епископ. Их глаза кричат мне: «Ты немец и союзник турок... Значит, правда, что и вы этого хотели!» Я опускаю взгляд. Как мне ответить на их обвинения? Священник вынимает из кармана маленькое распятие, завернутое в тряпку, и благоговейно целует его, и я не могу удержаться, чтобы тоже не поднести к губам этот крест, ставший свидетелем такой боли и стольких человеческих страданий.
Я смотрю на палатки, над которыми вечером вьется дымок, и на яркую луну, восходящую в сумерках над равниной. Все это кажется таким знакомым, что можно вообразить на мгновение, будто передо мной мирная картина. Вот женщины в юбках с фартуками и открытых блузках идут на вечернюю прогулку, издали доносятся крики играющих детей... Но я опять слышу голос священника. Он с волнением спрашивает меня: «Может быть, вы встречали армян в городах на берегу Евфрата?» (...) «Мы знаем, что умрем». Он смотрит на свою изорванную рясу и говорит: «Une fois j'étais un prêtre, maintenant je suis un mouton qui va à mourir».
Я шел в темноте вдоль реки и увидел большую кучу человеческих костей, ссыпанных в яму. Белые черепа, все еще покрытые волосами, тазовая кость, хрупкие ребра младенцев, загнутые, как заколки для волос. На минуту мной овладело черное отчаяние, слезы подступили к глазам, как будто разрушались все надежды, исчезали все маленькие ростки любви, привязывающие меня ко всему живому. Река течет бесконечно, как в сказке, время от времени обрушиваясь с грохотом на размытые комья земли, а я иду по ее берегу, покинутый, как будто я последний человек, оставшийся на земле.
Алеппо, 19 октября
У немецких монахинь
Когда в отдалении, за мягко-волнистой поверхностью земли, выступили темные очертания крепости, лошади ускорили свой бег. Больные заулыбались и стали выглядывать из повозок с проломленными деревянными днищами. Грохоча, повозки катились по каменистой дороге, как корабли, которые, хотя их мачты и сбиты ветром, все же пережили последний шторм. Мы добрались до железной дороги, и теперь у нас снова есть связь со Стамбулом.
Первым делом я навестил сестер-монахинь. Они устроили два дома для армянских беженцев, и эти дома полны детей-сирот, подобранных на дорогах. Большинство из них прибыло из Вана и Эрзерума и скиталось по пустыне больше шести месяцев. В первые недели дом монахинь был так набит детьми, что они рисковали задавить друг друга.
Во время уборки дома в колодце нашли тело маленького ребенка. При невероятном скоплении людей, в сумятице, малыш упал туда и беззвучно ушел на дно. Среди детей прячутся женщины и мужчины. Я начал записывать их истории, прибегая к помощи сестры Беатрис как переводчицы. Они очень ослаблены и боятся новых страданий, поэтому говорят неохотно, и то до определенного момента, пока на них не нахлынет поток страшных воспоминаний: тогда они разражаются слезами.
В последние дни я сделал много фотографий. Мне сказали, что сирийский палач Джемаль-паша запретил снимать в лагерях беженцев под угрозой смертной казни.
Я храню эти ужасающие обвинительные снимки. В лагерях Мескене и Алеппо я собрал много писем-прошений и спрятал их у себя в рюкзаке, ожидая возможности передать их в американское посольство в Константинополе, потому что почтовая служба не доставит их по назначению. Я знаю, что тем самым иду на государственную измену, но я рад хоть как-то, пусть совсем немного, помочь этим несчастным и считаю это самым важным из всего, что когда-либо делал.
Кония, 28 октября
В турецкой бане
Сегодня — тридцать девятый день после нашего отбытия из Багдада. Около полудня поезд остановился, и я немного прошелся по осеннему городу. Почувствовав усталость, зашел в заброшенную мечеть, присел на корточки в выемке пола, обхватил руками голову и стал размышлять. Вскоре начали прибывать люди с улицы, в мечеть заходили солдаты. Под куполом порхали две птицы, в стенах здания отдавался эхом голос муллы, прерываемый моментами полной тишины. Обуреваемый стремительным водоворотом чувств, я подумал: где же Ты, Бог? Потом я задремал и проснулся, когда дом молитвы был уже снова пуст; как будто в ответ на мой вопрос прозвучала лишь песня бескрайней пустыни.
Завернутый в белые простыни, я распростерся на лавке в бане. Снаружи доносился приглушенный шум города, с потолка лился голубой свет. Кожу еще щипало от обжигающе горячей мыльной воды, я с удивлением увидел в зеркале свое лицо, обгоревшее на солнце, с отросшей в пустыне бородой. Временами я забывался, погружаясь в сон, и тогда передо мной неистово и устрашающе вставало произведение, которое должно было стать одним из самых беспощадных из всех, что были написаны во все времена о человеческих несчастьях.
Перед отъездом из Алеппо я пошел в полицию, чтобы подать ответственному за лагеря прошение о Манвеле.
Ответственный находился в своем кабинете — я видел его голову сквозь оконное стекло, — но он велел дежурному сказать, что уехал. У всех сотрудников, выходивших из разных дверей, было какое-то подлое выражение лица. Я попросил доложить обо мне заместителю ответственного за беженцев. Все были со мной очень любезны и неизменно предлагали чашку кофе. И тем не менее чиновник, хотя в уголках его глаз читался страх и стыд, посмел заявить мне, что он не имеет никакого отношения к лагерям.
Мне пришлось выйти и спуститься по лестнице, не изложив ни слова из моей просьбы. Проходя мимо полицейских на углах здания, я видел их фальшивые лица.
Служитель бани накрыл меня свежей простыней. Ощущение блаженства растеклось по расслабленным мышцам. В полусне я вновь увидел загорелые ступни армянского мальчика, прошедшие многие мили. Он проделал долгий путь. Его темные глаза смотрели на меня в упор... Манвел умрет в пустыне. Я больше никогда его не видел.
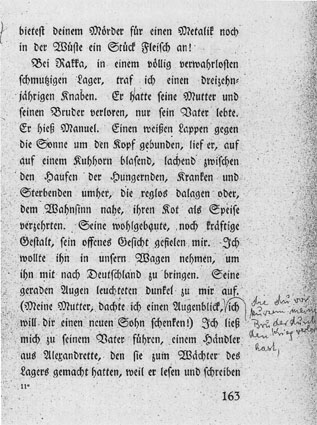
Назад: Письма с Ближнего Востока
Дальше: Политические тексты

