Книга: Дилемма всеядного: шокирующее исследование рациона современного человека
Назад: Глава 16 Дилемма всеядного
Дальше: Глава 18 Охота. Мясо
Глава 17
Об этике поедания животных
1. Диалоги в стейк-хаусе
Впервые я открыл книгу Питера Сингера «Освобождение животных» (Animal Liberation) за обедом. Я обедал в одиночестве в ресторане Palm, пытаясь насладиться рибай-стейком средней прожарки. Да, это была моя идея – устроить себе то ли когнитивный диссонанс, то ли несварение желудка. Давным-давно одно конкретное всеядное (а именно – я) приняло решение игнорировать любые дилеммы, связанные с поеданием мяса. Но когда принималось это решение, я еще не участвовал напрямую в процессах превращения животных в пищу: не выкармливал бычка, который пойдет на бифштексы, не работал с конусами для убийства у сарая Джоэла Салатина, не готовился, как теперь, охотиться на диких животных. Кстати, ужин, на котором мне подали стейк, состоялся в один из вечеров, предшествовавших убийству на бойне моего бычка № 534. Мне не дали стать свидетелем этого события и даже не сообщили о нем ничего, кроме предполагаемой даты. Это меня совсем не удивило: в мясной отрасли понимают, что чем больше люди будут знать о том, что происходит за воротами бойни, тем реже они будут есть мясо. И не потому, что забой скота – это обязательно негуманное действо, а потому, что большинству из нас просто не стоит напоминать о том, что в точности представляет собой мясо и как оно оказалось на наших тарелках. Мой стейк, съеденный на ужин в компании с книгой Сингера – ведущего философа мирового уровня, который занимается правами животных, представлял собой несколько вымученную попытку понять, смогу ли я оправдать свои прошлые и будущие поступки (я понимаю, что эта попытка немного запоздала).
Употребление в пищу мяса стало проблематичным с точки зрения морали – по крайней мере, для людей, которые взяли на себя труд об этом подумать.
Сегодня вегетарианство более популярно, чем когда-либо в прошлом, а движение за права животных, которое всего несколько лет назад было сугубо маргинальным, быстро прокладывает себе путь в мэйнстрим культуры.
Мне не совсем понятно, почему это стало происходить именно сейчас, если люди поедали животных на протяжении десятков тысяч лет и не особенно при этом страдали от угрызений совести. Конечно, за эти годы встречались и исключения – прежде всего приходят на ум имена Овидия, Святого Франциска Ассизского, Льва Толстого и Махатмы Ганди. Но в целом всегда считалось, что раз люди действительно всеядны, то убийство и поедание животных позволительны, а связанные с ними духовные и моральные проблемы достаточно хорошо решаются в рамках различных культурных традиций (от ритуалов, сопровождающих забой животных, до молитвы перед едой). То есть культура на протяжении тысячелетий внушала нам, что животные – это пища не только съедобная, но и осмысленная.
В последние годы ситуация изменилась. Если ученые-медики подняли вопрос о съедобности и полезности мяса животных, то такие философы, как Сингер, и такие организации, как «Люди за этичное обращение с животными» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA), дали нам новые причины сомневаться, достаточно ли мы обдумали наше решение есть мясо, хорошо ли оно для наших душ и нашего чувства собственного достоинства. В этом смысле особенно неприятный душок сопровождает в наши дни охоту – ее осуждают даже те, кто ест мясо. С очевидностью, такие люди больше всего возражают не против самого факта убийства (как будто стейк можно получить каким-то другим способом), а против того, что человек получает удовольствие от убийства животного. Вполне может быть, что таким образом мы как цивилизация ощупью продвигаемся к более высокому уровню сознательности. Наверное, наше нравственное просвещение уже достигло точки, где пора отказаться от практики поедания животных – как мы когда-то отказались от практики держать рабов или считать женщин низшими существами. Вполне может быть, что скоро мы будем считать мясоедение варварством, пережитком проклятого прошлого, и воспоминания о нем будут наполнять нас стыдом.
Так, по крайней мере, считают философы. Но вполне возможно, что культурные нормы и ритуалы, позволявшие людям есть мясо без мучительных размышлений, надломились по другим причинам. Может быть, по мере того как размывались традиции питания, те привычки, которые мы воспринимали как должное, лишились своей опоры, и теперь их легко опрокинуть силой идеи или порывом моды?
Как бы то ни было, сегодня распространение этих идей вызывает невероятную неразбериху в отношении к животным. Пока многие из нас стремятся расширить круг своих представлений о морали и включить в него представителей других видов, на животноводческих фабриках забивают колоссальное количество животных и причиняют им такие страдания, которые еще не видела мировая история. Современная наука шаг за шагом демонтирует наши претензии на уникальность как вида. Обнаружилось, в частности, что такие достижения, как культура, умение изготавливать орудия, язык и даже, возможно, самосознание, не принадлежат исключительно виду хомо сапиенс, как мы привыкли думать. И все же большинство животных, которых мы поедаем, ведут жизнь, организованную совершенно в духе воззрений французского философа Декарта, который, как известно, утверждал, что животные – это просто машины, не способные мыслить или чувствовать. Тем более шизоидным представляется в этом свете наше отношение к животным, в котором бок о бок сосуществуют умиление и жестокость. Половина собак в Америке получит в этом году рождественские подарки, но мало кто из нас задумывается о том, как живет свинья – животное не менее умное, чем собака, но предназначенное для того, чтобы стать рождественским окороком.
Мы терпим эту шизофрению потому, что жизнь свиньи вышла из поля зрения человека. Когда вы в последний раз лично общались со свиньей? Ее мясо поступает к нам из продуктового магазина, разрезанное и упакованное так, чтобы оно как можно меньше походило на части тела животного. (Кстати, когда вы в последний раз видели мясника за работой?) Животные исчезли из нашей жизни – и это открыло перед нами абстрактное пространство, в котором нет места сентиментальности или жестокости; это пространство, в котором Питер Сингер уживается с Фрэнком Пердью.
Несколько лет назад английский писатель Джон Бёрджер написал эссе под названием «Зачем нам смотреть на животных?» (Why Look at Animals?). В этой работе он предположил, что утрата повседневных контактов между нами и животными, в частности потеря контакта типа «глаза в глаза», сильно затрудняет наши отношения с другими видами. Визуальный контакт, всегда немного жутковатый для человека, приносил нам ежедневное яркое напоминание о том, что животные и похожи, и совершенно непохожи на нас. В их глазах мы видели как что-то знакомое (боль, страх, храбрость), так и нечто неизбывно иное. Именно на этом парадоксе люди строили с животными такие отношения, которые позволяли им одновременно и почитать, и поедать их, что называется, не отводя глаз. Но сегодня эти отношения в значительной степени разрушены – мы либо стыдливо отводим глаза от животных, либо становимся вегетарианцами. Ни один из этих вариантов меня особенно не привлекает, потому что, отводя взгляд от животных, я должен отводить его и от обеденного стола. Может быть, это соображение поможет мне объяснить, почему я взялся читать Питера Сингера в стейк-хаусе…
«Освобождение животных» Сингера – не то чтение, которое я мог бы рекомендовать людям, определенно решившим продолжать есть мясо. Книга, в которой в равных долях представлены философские аргументы и журналистские описания, относится к редким произведениям, требующим от вас либо всеми силами защищать свой образ жизни, либо… изменить его. А поскольку Сингер – мастер аргументации, многим его читателям оказалось легче изменить свою жизнь. Книга «Освобождение животных» привела к вегетарианству тысячи людей. И мне не потребовалось много времени, чтобы понять, почему это произошло: автор буквально через несколько страниц сумел отвратить меня от мясоедения, не говоря уже о планах поохотиться, и вынудил перейти к обороне.
Аргументы Сингера обезоруживающе просты, а если вы принимаете его постулаты, то и трудно опровержимы. Возьмем, например, постулат равенства между людьми, который мы в большинстве своем с готовностью принимаем. Но что мы на самом деле подразумеваем под равенством? В конце концов, люди по сути своей не равны между собой: часть из них умнее прочих, другие – красивее, талантливее… да что угодно. «Равенство – это моральная идея, а не доказуемый факт», – указывает Сингер. Суть этой моральной идеи заключается в том, что интересы всех людей должны получить равное внимание независимо от того, «на кого они похожи или какие способности у них есть». Это важное утверждение, до которого, однако, доходили многие философы. Но лишь немногие из них потом сделали следующий логический шаг: «Если обладание более развитым интеллектом не дает право одному человеку использовать в своих собственных целях другого человека, то почему люди допускают использование подобным образом не-людей?»
Ухватив суть аргументов Сингера, я начал сразу же, прямо на шестой странице, черкать на полях свои возражения. Ведь люди отличаются от животных в морально значимых отношениях! Да, отличаются, с готовностью признает Сингер, поэтому мы не должны относиться одинаково к свиньям и к детям. Но равный учет интересов, указывает он, – это не то же самое, что равное обращение. Так, дети имеют интерес к образованию, а свиньи – к копанию в грязи. Но там, где их интересы совпадают, принцип равенства требует, чтобы они получали одинаковое внимание. А один из универсально значимых интересов, которые объединяют людей со свиньями, состоит в том, что и те и другие стремятся избежать боли.
Здесь Сингер цитирует известный отрывок из произведения Джереми (Иеремии) Бентама, родоначальника философии утилитаризма. В 1789 году, в период, когда французы уже освободили своих черных рабов и предоставили им основные права, но до того, как это сделали англичане и американцы, Бентам писал: «Придет день, когда остальная часть животного мира приобретет такие же права». Затем Бентам спрашивает, какие характеристики существа дают людям право рассматривать его с точки зрения морали. «Способность рассуждать или, может быть, способность говорить? – спрашивает Бентам. – Но взрослая лошадь или собака – несравненно более рациональные и общительные существа, чем младенец. Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или говорить. Вопрос в том, могут ли они страдать».
И здесь Бентам заходит с козыря, который философы называют аргументацией от «пограничных» случаев. Ход его рассуждений таков. Пусть имеются люди, чья умственная деятельность не поднимается до уровня шимпанзе, – это младенцы, пациенты с тяжелыми формами умственной отсталости, старики, страдающие слабоумием, и т. п. Несмотря на то что эти люди не могут ответить на применение к ним моральных принципов (скажем, они не могут следовать так называемому золотому правилу: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»), мы все-таки включаем их в круг созданий, к которым применимы эти моральные принципы. Вопрос: на каком основании мы исключаем из этого круга шимпанзе?
«Да потому что то шимпанзе, а то – люди», – в гневе нацарапал я на полях книги. Но для Сингера это, конечно, не аргумент. Исключить шимпанзе из области применения морали просто потому, что он – не человек? Да это, с точки зрения Сингера, ничем не отличается от исключения из этой области раба просто потому, что он не белый. И так же, как мы называем человека расистом, то есть апологетом расовой дискриминации, защитники прав животных используют термин «видовист» (speciesist), сторонник видовой дискриминации. Такие люди дискриминируют шимпанзе только потому, что он не человек. Конечно, я могу возразить, что различия между черными и белыми тривиальны по сравнению с различиями между моим сыном и шимпанзе. Но Сингер просит нас представить себе гипотетическое общество, в котором людей дискриминируют на основе чего-то менее тривиального – скажем, интеллекта. Если такая схема оскорбляет наше чувство равенства (что, несомненно, имеет место), то почему тот факт, что у животного нет той или иной человеческой характеристики, не может служить основой для дискриминации? Так что, приходит к выводу Сингер, нужно либо отказать в справедливости умственно отсталым, либо прилагать ее к животным с более высокими способностями.
Тут я отложил вилку. Получалось, что если я верю в равенство, причем это равенство основано на интересах, а не на характеристиках, то либо я должен принимать в расчет интересы мясных бычков, либо принять обвинение в том, что я – сторонник видовой дискриминации.
Поразмыслив еще некоторое время, я решил, что признаю себя виновным по всем пунктам обвинения. И доел свой стейк.
Но чтение книги Сингера заронило во мне семена беспокойства. В последующие дни это беспокойство только возрастало, питаемое аргументацией других защитников прав животных, книги которых я начал читать. Среди них были произведения философов Тома Ригана и Джеймса Рэйчелса, специалиста по теории права Стивена Уайза, писателей Джоя Уильямса и Мэтью Скалли и др. Я не возражал против того, чтобы меня называли сторонником видовой дискриминации. Меня интересовал другой вопрос. Авторы прочитанных произведений утверждали, что когда-нибудь мы будем рассматривать «видовизм» как зло, сопоставимое с расизмом. Возможно ли это? Неужели когда-нибудь история будет судить нас так же строго, как сегодня она судит немцев, которых всю жизнь мучают призраки концентрационного лагеря Треблинка? Не так давно именно этот вопрос задали во время лекции в Принстонском университете лауреату Нобелевской премии южноафриканскому писателю Дж. М. Кутси. Кутси ответил на этот вопрос утвердительно. Так что если защитники прав животных правы, то у нас на глазах каждый день происходит «преступление колоссальных масштабов» (это слова писателя).
Для меня оказалось практически невозможно всерьез поддержать такую идею, а тем более ее полностью принять. Видимо, поэтому еще несколько месяцев после памятного ужина в ресторане Palm с книгой Сингера и стейком я всеми силами своего мозга пытался найти аргументы, опровергающие точку зрения Сингера. Сразу скажу, что мне это не удалось: Сингер и его коллеги ухитрились разбить почти все возражения, которые я смог собрать.
Первая линия обороны «мясоедов» очевидна: «Почему мы должны относиться к животным более этично, чем они сами относятся друг к другу?»
Надо сказать, что задолго до меня этот аргумент использовал Бенджамин Франклин. В своей автобиографии он рассказывает, как однажды, наблюдая за друзьями, которые ловили рыбу, задался вопросом: «Если вы, рыбы, поедаете друг друга, то почему я не могу есть вас?» Правда, как признается Франклин, это логическое обоснование пришло ему в голову только тогда, когда рыба уже оказалась на сковороде и начала «источать восхитительный аромат». Разумное существо, меланхолично замечает Франклин, имеет то огромное преимущество, что может найти разумное оправдание всему, чему захочет…
Скажем, на аргумент типа «они тоже это делают» у защитников прав животных имеется шокирующе простой ответ: «Вы действительно хотите строить свой моральный кодекс на естественном порядке, принятом в природе? Тогда учтите, что убийство и изнасилование – это тоже естественные явления. Кроме того, у нас остается выбор: чтобы выжить, людям не обязательно убивать других существ, а вот плотоядным животным – обязательно (впрочем, пример моего кота Отиса показывает, что животные иногда убивают других исключительно ради удовольствия).
Еще одно возражение относится к домашним животным: «Неужели им было бы лучше жить в дикой природе?» – «Именно это рабовладельцы говорили об африканских рабах, – парирует Сингер. – Нет, жизнь на свободе всегда лучше».
На самом деле большинство домашних животных не могут жить в дикой природе; если бы мы их не ели, то они бы не существовали вовсе! Или, как выразился один политический философ XIX века, «свинья сильнее любого другого существа интересуется спросом на бекон. Если бы мир был населен одними евреями, то в нем вообще бы не было свиней». Это, кстати сказать, было бы очень удобно для защитников прав животных: «Если куры больше не существуют, то их нельзя и обидеть».
Животные на промышленных фермах никогда не узнают о существовании другой жизни. Но борцы за права животных справедливо указывают, что «животные чувствуют необходимость разминаться, распрямлять конечности или крылья, покрутиться, поухаживать за собой и т. п. – независимо от того, жили ли они когда-либо в условиях, которые позволяют это сделать». Другими словами, мерой их страданий будет служить не прошлый опыт, но ежедневное неослабевающее разочарование из-за невозможности удовлетворить свои инстинкты.
Хорошо, пусть так. Страдания животных, попавших в наши руки, – это вполне понятная проблема. Однако мир полон проблем, и, конечно, человек должен прежде всего решать человеческие проблемы. Звучит благородно… Но почему-то защитники животных при наличии этого множества проблем просят меня сделать только одно – перестать есть мясо. Не вижу причин, по которым я обязательно должен стать вегетарианцем, чтобы посвятить себя решению проблем человечества.
Однако не указывает ли сам факт того, что мы можем отказаться от мяса по моральным причинам, на существенное различие между животными и людьми, не оправдывает ли сам этот факт наш видовизм? Ведь сама неопределенная направленность наших аппетитов и этические перспективы, которые она открывает, указывают на то, что мы отличаемся от других существ. Как указывал немецкий философ Иммануил Кант, люди – это единственные животные, обладающие моралью, единственные, способные использовать понятие «право». Мы же изобрели это самое «право», причем для нас самих. И теперь прилагаем это понятие к тем, кто в состоянии его осознать. Что тут не так?
Да то, что тут вы скатываетесь к аргументации от «пограничных» случаев. Какой моральный статус может быть у умственно отсталых и умалишенных, младенцев двухдневного возраста и пациентов с развитой болезнью Альцгеймера? Эти люди («пограничные» случаи, если говорить отвратительным языком современной моральной философии) не могут участвовать в принятии этических решений. Они смыслят в них не больше, чем обезьяны, и тем не менее мы предоставляем им права! Почему? По очевидной причине: они одни из нас. Разве это не естественно – уделять особое внимание своему виду?
Естественно, отвечают на это защитники прав животных, но только если вы – приверженец дискриминации видов. Не так давно примерно то же самое говорили белые люди о белых людях: мы заботимся о своем виде. На это я бы возразил следующее: но есть причина, по которой мы непроизвольно защищаем права человека в этих «пограничных» случаях. Мы готовы сделать этих людей частью нашего морального сообщества, потому что все мы сами были и, наверное, еще окажемся в таком «пограничном» состоянии. Более того, эти люди имеют отцов и матерей, дочерей и сыновей, что делает нашу заинтересованность в их благополучии глубже, чем интерес к благополучию самых умных обезьян.
Даже прагматики вроде Сингера должны согласиться с тем, что в нашем моральном исчислении необходимо учитывать чувства родственников. Но ведь принцип равного учета интересов потребует, чтобы, выбирая, на ком проводить болезненный медицинский эксперимент – на сильно отставшем в развитии ребенке-сироте или нормальной взрослой человекообразной обезьяне, – мы должны принести в жертву ребенка. Почему? Да потому что обезьяна более восприимчива к боли.
Вот в этом, в двух словах, и состоит практическая проблема, с которой ты сталкиваешься, когда привлекаешь философский аргумент от «пограничных» случаев. Этот аргумент можно использовать для того, чтобы помочь животным, но часто при таком подходе разрушаются сами предпосылки «пограничных» случаев.
Наш отказ от «видовизма» может привести нас к этической скале, с которой мы не готовы прыгать, даже если логика подталкивает нас к краю обрыва…
И все-таки эти рассуждения не облегчили тот моральный выбор, который мне нужно было сделать. (И очень плохо! Все должно быть намного проще!) Дело в том, что в повседневной жизни выбор будет делаться не между ребенком и шимпанзе, а между свиньей и тофу. Даже если мы отвергаем жесткий утилитаризм Питера Сингера, то все равно остается вопрос о том, обязаны мы рассматривать с точки зрения морали животных, которые могут чувствовать боль? Кажется, это невозможно отрицать. А если мы должны рассматривать их с точки зрения морали, то как же мы оправдаем их убийство и поедание?
Все эти аргументы показывают, почему в деле защиты прав животных самым сложным вопросом является именно мясоедение. Теперь обратимся к экспериментам на животных. Все, кроме самых радикальных защитников животных, хотят при их проведении сбалансировать выгоду, которую получает человек, с потерями, которые несут животные. При этом уникальные свойства человеческого сознания заставляют нас придавать человеческому удовольствию и боли больший вес: считается, что человеческая боль сильнее, чем боль у мышей, поскольку наша боль усиливается такими чувствами, как страх. Аналогично: наша смерть – это хуже, чем смерть животного, потому что мы понимаем, что такое смерть, а они – нет. Таким образом, аргументация, которая строится вокруг испытаний на животных, уходит в детали: вот этот конкретный эксперимент на животных действительно необходим для того, чтобы спасти человеческие жизни? (Очень часто это оказывается не так.) Но если людям больше не нужно есть мясо, чтобы выжить, то что именно мы должны положить на «человеческой» стороне весов, чтобы перевесить интересы животного?
Тут, наконец, я начал понимать, почему защитникам прав животных удалось принудить меня к обороне. Одно дело – сделать выбор между шимпанзе и умственно отсталым ребенком или принять жертву в виде всех тех свиней, которых хирурги порезали при отработке процедуры коронарного шунтирования. Но в реальной жизни выбор происходит, как пишет Сингер, «между страданиями животного в течение всей его жизни и гастрономическими предпочтениями человека». Тут выбор становится простым: либо ты закрываешь глаза на проблему, либо перестаешь поедать животных. А если человек не хочет делать ни того, ни другого? Тут я понял, что в таком случае человек должен попытаться определить, действительно ли у животных, которых он ест, вся жизнь прошла в страданиях.
По словам Питера Сингера, я не могу надеяться ответить на этот вопрос объективно до тех пор, пока продолжаю есть мясо. «Мы очень склонны убеждать себя в том, что наша забота о других животных не требует, чтобы мы остановились и перестали их есть». Кажется, я понял, что он имеет в виду: человек усердно работает только для того, чтобы оправдать свой выбор мясного меню. «Никто из людей, привыкших поедать животных, – пишет далее Сингер, – не может без предвзятости оценить, причиняют ли страдания животному те условия, в которых оно живет». Другими словами, мне необходимо прекратить есть мясо, прежде чем с чистой совестью решить, могу ли я продолжать есть мясо, а тем более охотиться на мясо. Так вон оно как! Этот вывод настолько поразил меня, что я не мог с ним не согласиться. Итак, однажды в сентябре, в воскресенье, после обеда (как сейчас помню, это было вкуснейшее свиное филе, поджаренное на гриле) я с большой неохотой стал вегетарианцем. Очень надеюсь, что временным.
2. Дилемма вегетарианца
Итак, как любой уважающий себя вегетарианец (а без уважения к себе все мы просто никто) я начну с того, что сообщу вам обо всех компромиссах, на которые придется пойти, и особых этических взглядах, которые придется учитывать при общении со мной. Я не веган (то есть ем яйца и молочные продукты), так как яйца и молоко можно получить от живых существ, не причиняя им вреда и не убивая их (так, по крайней мере, мне кажется). Я также ем животных без лиц, например, моллюсков – теория тут такая, что они недостаточно разумны для того, чтобы страдать. Да, таким образом, я не «лицист», хотя многие ученые и философы, защищающие права животных, в том числе Питер Сингер, приписывают наличие сознания всем, вплоть до морских гребешков. Никто со всей определенностью не знает, так ли это, но я в этом вопросе присоединяюсь к множеству преданных своему делу защитников животных, которые даруют мне возможность сомневаться…
Уже примерно месяц продолжается мой эксперимент с вегетарианством, но я по-прежнему чувствую себя не в своей тарелке. Почему? Я обнаружил, что на приготовление хорошего вегетарианского обеда (в частности, на нарезку) требуется гораздо больше умственных и физических усилий; есть мясо просто удобнее. Кроме того, мясоеды более общительны – по крайней мере, в нашем обществе, где вегетарианцы все еще представляют собой весьма незначительное меньшинство. (По недавней оценке журнала Time, нас в Америке 10 миллионов.) Но что меня беспокоит больше всего – мое вегетарианство мало-помалу отчуждает меня от других людей, и, как ни странно это может показаться, от целого пласта человеческого опыта.
Дело в том, что теперь другие люди должны как-то приспосабливаться ко мне, а мне это не очень удобно. Так, ограничения, накладываемые моей новой диетой, сильно искажают отношения «хозяин – гость». Если я, гость, заранее не скажу хозяину, что не ем мяса, то он за обедом почувствует себя неловко. А если скажу – то он приготовит что-то отдельно для меня, и в таком случае чувство неловкости испытаю я. В этом вопросе я теперь склонен согласиться с французами, которые смотрят на личные диетические ограничения как на плохие манеры…
Мне кажется, что даже если считать вегетарианца более высокоразвитым человеком, то все равно нельзя не заметить, что по пути к этому состоянию он что-то потерял – и я не готов это «что-то» игнорировать как нечто банальное. Да, в эти дни я чувствую себя более здоровым и более добродетельным, но я также чувствую себя несколько отчужденным от традиций, которые продолжаю ценить. Это и культурные традиции, например индейка в День благодарения или даже сосиски на бейсболе. Это и семейные традиции, например говяжья грудинка, которую моя мама готовила на Песах. Эти церемониальные блюда связывают нас с нашей историей по нескольким линиям: они ведут к семье, религии, месту, в котором мы выросли, к нашей нации и, если пойти гораздо дальше, к биологии. Да, сегодня людям больше не нужно есть мясо, чтобы выжить (теперь мы можем получить необходимые количества витамина B12 из ферментированных пищевых продуктов или пищевых добавок). Но большую часть времени пребывания людей на Земле они были мясоедами. Этот факт истории эволюции находит свое отражение в строении наших зубов, в структуре нашего пищеварения и, вполне возможно, даже в том, что мой рот при виде стейка средней обжарки сразу же наполняется слюной. Мясоедение помогло нам стать тем, кто мы есть, причем и в физическом, и в социальном смысле. Под воздействием охоты, говорят нам антропологи, человеческий мозг рос в размерах и становился все более сложным. У очага, где готовились и распределялись охотничьи трофеи, впервые расцвела человеческая культура.
Это не значит, что мы не можем или не должны выходить за пределы нашего наследия только потому, что это наше наследие. Но выгоды отказа от мяса оказываются никак не больше потерь, которые его сопровождают. Да, признание за животными пра`ва на права` может возвысить нас над жестоким и аморальным миром поедающих и поедаемых, пожирателей и жертв. Но в ходе этого возвышения мы принесем еще одну жертву: потеряем часть нашей идентичности, нашего собственного животного начала. (Вот один из самых странных парадоксов, связанных с правами: нас просят признать все, что объединяет нас с животными, а затем действовать по отношению к ним наиболее «неживотным» способом.) Не то чтобы жертва нашей животности неизбежно вызывает сожаление; никто вроде бы не сожалеет о том, что мы отказываемся от воровства и бандитизма, а это тоже часть нашего наследия. Но мы должны, по крайней мере, признать, что человеческое желание есть мясо не является, как это считают защитники прав животных, тривиальным вопросом гастрономических предпочтений. А то и секс можно посчитать простым рекреационным предпочтением только потому, что теперь в техническом смысле он для воспроизводства человека не нужен. Нет, скорее всего, мясоедение на самом деле очень глубоко «встроено» в человеческую натуру…
3. Страдания животных
Перевешивает ли наш интерес к поеданию животных их заинтересованность в том, чтобы не быть съеденными? (Предположим на минуту, что такая заинтересованность имеется.) Если вы помните, ответ на этот вопрос в конечном счете свелся к ответу на спорный вопрос о страданиях животных. Спорный – потому что в определенном смысле невозможно узнать, что происходит в голове у коровы, свиньи или обезьяны. Конечно, то же самое человек может сказать и о других людях, но, так как все люди устроены более или менее одинаково, у нас есть веские основания полагать, что другие люди чувствуют боль так же, как мы сами. Можем ли мы сказать то же самое о животных? И да и нет.
Мне пока не удалось найти ни одного серьезного автора, который подписался бы под словами Рене Декарта о том, что животные не могут чувствовать боль, потому что у них нет души.
Общее мнение современных ученых и философов состоит в том, что в смысле боли высшие животные устроены так же, как мы, и по тем же самым эволюционным причинам, так что мы вполне можем понять, что чувствует собака, которую пнули ногой.
Так что же, ни у кого нет сомнений в том, что животные чувствуют боль? Оказывается, нет. Некоторые защитники животных утверждают, что часть ученых и философов-неокартезианцев полагают, что животные не способны на страдания, потому что у них нет языка. Однако если вы не поленитесь обратиться к первоисточникам и прочитать, что действительно думают об этом эти ученые (два самых цитируемых из них – Дэниел Деннет и Стивен Будиански), то поймете, что их взгляды излагаются в карикатурном виде.
Главный их аргумент (мне он тоже кажется вполне резонным) состоит в том, что человеческая боль отличается от боли животных по порядку величины. Это качественное различие в основном определяется тем, что мы владеем языком и в силу этого можем мысленно представлять себе то, что нет. Философ Дэниел Деннет считает, что можно провести различие между болью (о которой из своего опыта знает очень много животных) и страданием, которое зависит от самосознания, имеющегося лишь у небольшого числа высших животных. Страдание с этой точки зрения есть не просто сильная боль, а боль, усиленная такими чисто человеческими чувствами, как сожаление, жалость к себе, стыд, унижение и страх.
Рассмотрим для примера кастрацию, которой подвергается большинство самцов поедаемых нами млекопитающих. Никто не будет отрицать, что эта процедура для животных очень болезненна. Но правда и то, что вскоре после экзекуции самцы начинают вести себя так, как будто они совершенно здоровы. (Так, у макак-резусов некоторые самцы в конкурентной борьбе доходят до того, что откусывают у своего соперника тестикулы. На следующий день жертва, конечно, выглядит несколько потрепанной, но тем не менее иногда пытается спариться с самкой.) На этом фоне мучения человека, способного понять все последствия кастрации, предвидеть, что произойдет после этого события, и наблюдать его последствия, представляют собой страдания совершенно иного порядка.
Вместе с тем владение языком и сопутствующие навыки могут сделать некоторые виды боли не такими непереносимыми. Так, визит к дантисту будет очень мучительным для обезьяны, которой не дано понять последствия продолжительной и болезненной процедуры.
Вместе с тем, наблюдая страдания и боль, испытываемые животными, мы не должны проецировать на них свой опыт переживания подобных ощущений. Так, наблюдая за бычком, который шел по пандусу к воротам бойни, я должен был все время напоминать себе, что это не актер Шон Пенн, играющий в фильме «Мертвец идет», что эта сцена выглядит совершенно иначе в мозгу бычка, которому, к счастью, незнакомо понятие небытия. То же самое относится к оленю, который за миг до своей смерти внимательно смотрит на ствол винтовки охотника. «Если нам не удается обнаружить страданий в жизнях [животных], которые мы наблюдали, – пишет Деннет в своей книге «Виды сознания» (Kinds of Minds), – то мы можем быть уверены в том, что нет никаких невидимых страданий, скрытых в их мозге. Если мы обнаружим страдания, то без труда их распознаем».
Такие философские рассуждения приводят нас – с необходимостью и против нашей воли – на американскую птицефабрику, место, где все подобные тонкие различия быстро превращаются в пыль. На современном производстве яиц или говядины не так легко разделить боль и страдания. На птицефабриках и в животноводческих комплексах все эти тонкости моральной философии и прав животных не значат попросту ничего. В таких местах все, что мы знаем о животных, по крайней мере со времен Дарвина, можно просто засунуть… в самый дальний закоулок своего мозга. Современная площадка интенсивного откорма скота при всей ее технологической сложности по-прежнему строится на принципах, сформулированных в XVII века Декартом. Здесь животных рассматривают как машины, как «производственные единицы», которые не способны чувствовать боль. А поскольку в эти принципы ни один здравомыслящий человек сегодня уже не верит, промышленное животноводство строится на смеси из недоверия к людям, которые им управляют, и их желания закрыть эту отрасль от взглядов всех остальных.
Насколько я понял из письменных источников, хуже всего в этом смысле обстоит дело на птицефабриках. Но мне не удалось попасть ни на одну из них – журналистов там не ждут. Что же касается крупного рогатого скота (по крайней мере, того, что содержится на открытом воздухе), то на американских площадках он чаще всего стоит по щиколотку в собственном навозе и поедает продукты, которые делают его больным. Можно вспомнить и цыплят-бройлеров, у которых горячим ножом отрезают клювы, чтобы они с тоски не клевали друг друга, сидя в тесных клетках, где невозможно расправить крылья.
Схожая судьба уготована американской несушке, которая проводит свою короткую жизнь вместе с полудюжиной других кур в проволочной клетке площадью в четыре страницы этой книги. Такая теснота подавляет все естественные инстинкты курицы, что приводит к ряду поведенческих «пороков» – например, курица может заклевать своих соседок или тереться грудью о проволочную сетку до тех пор, пока не обдерет на грудке все перья и не разотрет ее в кровь. (Кстати, именно поэтому бройлеров не держат в клетках. Шрамы на грудке, где самое дорогое мясо, – это урон для бизнеса.) Боль? Страдания? Безумие? Управленцы предпочитают использовать более нейтральные описания: «пороки» и «стереотипы», «стресс»… Но, как вы ни называйте то, что происходит в этих клетках, факт остается фактом: около 10 % кур-несушек не выдерживают таких условий содержания и гибнут, что, конечно, влияет на себестоимость продукции… А когда продуктивность оставшихся кур с возрастом падает, им устраивают «принудительную линьку» – оставляют без корма, воды и света на несколько дней, чтобы перед окончанием куриной жизни вызвать последнюю вспышку яйценоскости…
Понимаю, что, просто приводя эти факты, большинство из которых взяты из журналов о торговле мясом птицы, я выгляжу как один из защитников животных. Я вовсе не это имею в виду. Помните, когда я заключал сам с собой соглашение о вегетарианстве, то застолбил за собой право есть яйца? Я просто хотел показать, что может случиться с теми, кто не закрывает глаза на подобные проблемы. Вы увидите жестокость – и поймете, как возникает нежелание видеть эту жестокость, когда речь идет о производстве яиц, которые продаются всего лишь по 79 центов за дюжину.
Всегда существовало противоречие между капитализмом, который требовал любой ценой обеспечить максимальную эффективность производства, и требованиями морали и культуры, которые исторически служили противовесами моральной слепоте рынка. Это еще один пример культурных противоречий при капитализме – последний своими экономическими импульсами с течением времени все больше и больше подрывает нравственные основы общества. В нашем случае одной из таких основ является милосердие к животным.
Животноводческая ферма – это самая кошмарная действительность, которую только способен создать капитализм при полном отсутствии каких-либо моральных и управленческих ограничений. (Не случайно рабочим, не входящим в профсоюзы, уделяется на этих фабриках немногим больше внимания, чем скоту, с которым они работают.) В таких омерзительных местах сама жизнь полностью предопределена, как и связанные с ней термины: «убийство» становится «производством белка», а «страдание» превращается в слово «стресс». В результате избавление от стресса становится чисто экономической проблемой, решение которой можно найти только экономическими методами вроде отсечения клювов у птиц, купирования хвостов у свиней или, как обещает недавняя инициатива, простым избавлением организмов свиней и кур от «гена стресса». Все это очень похоже на наши ночные кошмары с заточением и пытками. Но для миллиардов животных, которым «повезло» родиться под металлическими листами мрачных крыш, это и есть самая реальная жизнь – короткая и беспощадная жизнь «производственной единицы», у которой пока что не удалось удалить «ген страдания».
4. Счастье животных
Неудивительно, что в ответ на существование такого зла появляется вегетарианство. Кто же захочет быть источником страданий этих животных, поедая их? Скорее люди постараются забросить что-то полезное за стены этих адских сараев, будь то Библия с ее призывом проявлять милосердие к животным, которых мы держим, или новое конституционное право, или целый взвод защитников животных в костюмах кур, которые будут срывать замки и выпускать «заключенных» птиц на волю… Да, на фоне этих птицефабрик идея Кутси о «грандиозном преступлении» не кажется преувеличением…
И все же есть в мире и другие фермы с другими животными, которые не переживают подобных кошмаров. Я имею в виду куриц, виденных мной на ферме Polyface, которые июньским утром веером разбегались по пастбищу для крупного рогатого скота и радостно клевали коровьи лепешки и траву, удовлетворяя все свои куриные инстинкты. Мне запомнилась и счастливая жизнь свиней, которую я видел на той же ферме в марте. Я с удовольствием наблюдал за хавроньями с их розовыми ляжками и хвостиками штопором, которые глубоко погружали свои пятачки в слой компоста, выискивая кусочки перебродившей кукурузы.
Правда, сегодня фермерские хозяйства – это лишь песчинки в монолите современного животноводства, но все же само их существование и перспективы, которые оно сулит, в совершенно ином свете представляют аргументы в пользу защиты прав животных.
Конечно, многим защитникам прав животных даже ферма Polyface представляется «лагерем смерти» – этакой остановкой на пути следования обреченных существ, ожидающих встречи с палачом. Но нужно самому увидеть жизнь этих животных, чтобы понять, что в данном случае проводить аналогию с вселенской катастрофой – значит тешить себя сентиментальными иллюзиями. Ведь ровно так же, как мы можем с первого взгляда разглядеть страдания животных, можно безошибочно распознать и их счастье. А я за неделю пребывания на ферме видел счастливых животных очень часто.
Мне кажется, что для любого животного счастье – это возможность выразить свои самые существенные черты, свою свинячью, волчью или цыплячью суть. Еще Аристотель говорил о формах жизни, характерных для каждого существа. По моему мнению, у домашних животных (дикие животные – это совсем другое дело) хорошая жизнь, если можно ее так назвать, просто недостижима нигде, кроме как среди людей. Такая жизнь немыслима без наших ферм, и, следовательно, она была бы невозможна без употребления нами мяса. Мне кажется, что именно в этом пункте защитники животных демонстрируют глубокое непонимание того, как устроена природа. Думать об одомашнивании животных как о форме рабства или даже эксплуатации – значит искажать всю структуру отношений человека с животными, проецировать человеческую идею власти на то, что в действительности является примером мутуализма, то есть симбиоза видов.
Одомашнивание – это эволюционный, а не политический процесс. И, конечно, это не режим, который люди навязали животным около десяти тысяч лет тому назад. Скорее всего, одомашнивание произошло тогда, когда несколько особенно гибких видов посредством дарвиновского метода проб и ошибок обнаружили, что они имеют больше шансов выжить и расцвести в союзе с людьми, чем сами по себе. Люди обеспечивали таких животных пищей и защитой, а в ответ получали от них их молоко, яйца – и да, их мясо. Новые взаимоотношения изменили обе стороны: животные росли ручными и потеряли способность постоять за себя в дикой природе (естественный отбор, как правило, отбрасывает ненужные черты), а люди променяли свой образ жизни охотников и собирателей на оседлую жизнь земледельцев. (Биологически люди тоже изменились – в частности, у них развились такие новые черты, как способность к перевариванию лактозы у взрослых особей.)
С точки зрения животных эта сделка с человеком оказалась исключительно удачной – по крайней мере, она была таковой вплоть до нашего времени. Коровы, свиньи, собаки, кошки, куры благоденствовали и множились, в то время как численность их диких предков падала. (Сейчас в Северной Америке насчитывается десять тысяч волков и пятьдесят миллионов собак.) При этом непохоже, чтобы домашних животных беспокоила потеря независимости. Защитники прав животных говорят, что мы должны относиться к животным как к цели, а не как к средству. Но между тем счастье рабочего животного, скажем собаки, состоит именно в том, чтобы выступать в качестве средства для достижения целей, поставленных человеком. Освобождение – это последнее, чего хочет такое существо. (Наверное, это могло бы объяснить то презрение, с которым многие защитники животных относятся к одомашненным видам.) Говорить, что живущие за забором бройлеры Джоэла Салатина «предпочтут жить на свободе», – значит показывать полное незнание куриных предпочтений и опасений, а они, по крайней мере в этих местах, крутятся вокруг боязни потерять свою голову, которую может откусить ласка.
При этом, наверное, можно с уверенностью сказать, что предпочтения курицы не включают в себя желание провести всю свою жизнь в компании шести себе подобных в тесной клетке, находящейся в сарае. Решающее моральное различие между площадкой интенсивного откорма скота и хорошей фермой состоит в том, что площадка лишает животных возможности жить «характерной для них формой жизни».
Но разве куры Салатина не променяли одного хищника на другого, ласку на человека? Да, променяли, но для кур это, похоже, была не самая плохая сделка. В первую очередь виды вступают в отношения с людьми именно по эволюционным причинам. И эти причины, если говорить коротко, состоят в том, что продолжительность жизни животных на ферме гораздо выше, чем в мире, который открывается за забором выгона или за стенами курятника. (Домашние свиньи, которые выживают в дикой природе, – это исключение, которое только подтверждает правило.) Там, снаружи, – отвратительный и жестокий мир. Там медведь может заживо сожрать лактирующую овцу, начав с ее вымени. В дикой природе животные редко встречают тихую смерть в окружении своих близких.
Все эти соображения приводят нас к необходимости рассмотреть поведение животных в дикой природе. Тут надо заметить, что само существование в природе хищников, то есть животных, которые едят животных, нередко доводит авторов книг о правах животных до полного отчаяния. «Надо признать, – пишет Питер Сингер, – что существование плотоядных животных действительно представляет для этики освобождения животных большую проблему, и мы должны что-то с этим делать». (Поговорите еще о необходимости введения миротворческих сил!) Некоторые защитники животных доходят до того, что пытаются сделать вегетарианцами своих собак и кошек (чтобы выжить, таким кошкам приходится есть пищевые добавки). Мэтью Скалли в книге «Владычество» (Dominion), где права животных рассматриваются с христианско-консервативной точки зрения, называет хищничество «неустранимым злом в замысле природы… которое труднее всего понять». Неужели это так трудно? В другом месте книги, признавая тот факт, что некоторые хищники, например кошки, способны причинять страдания беспричинно, Скалли сокрушается: как низок может быть «уровень моральной деградации у некоторых [животных]». Моральная деградация? У кошек?
В общем, можно сказать, что через произведения философов, защищающих права животных, красной нитью проходят идеи пуританства, причем связаны они с животным началом не только у нас, но и у самих животных. Таким философам хочется отвратить нас от «неустранимого зла» природы, а затем добавить к нам всех животных. Поневоле начинаешь задаваться вопросом: а не борются ли такие философы с самой природой?
Нам, живущим на некотором удалении от мира природы, может казаться, что хищничество есть проявление морали или политики. Но это не так, хищничество – это тоже вопрос симбиоза. Волк может быть исключительно жесток по отношению к отдельному оленю, но от этого волка зависит благополучие стада оленей. Без хищников, которые отбраковывают животных в стаде, оленей ждет бесконтрольное размножение, а следовательно, голод и страдания. Причем страдать будут не только олени, но и растения, от которых они зависят, другие виды, которые зависят от этих растений, и т. д. В некотором смысле «хорошая жизнь» оленей и даже их животная сущность, которая ковалась в горниле хищничества, зависят от существования волка. Аналогичным образом «хорошая жизнь» кур как вида зависит от наличия поедающих их хищников – людей. Самый надежный способ уничтожить этот вид – дать курам право на жизнь.
Задолго до того, как хищничество человека ушло «в дом» вместе с избранной группой одомашненных животных, оно проявлялось в дикой природе на другом наборе видов.
С точки зрения многих существ, обитающих в очень многих местах, охота человека на них – это просто такое явление природы: сегодня на тебя нападают люди, завтра – волки и т. д.
У оленей в ходе эволюции под воздействием охотившихся на них волков выработался определенный набор характеристик – быстрота бега, острота зрения, специфический окрас и т. д. То же самое произошло у животных, на которых охотились люди. Так, человек охотящийся помог в буквальном смысле сформировать бизонов американских прерий – изучение окаменелостей показывает, что с приходом индейцев бизоны изменились как физически, так и поведенчески. Прежде бизоны не сбивались в большие стада и имели гораздо более крупные и более вытянутые рога. Для животных, обитавших на Великих равнинах в полностью открытой среде, лучшей защитой от хитрого хищника, вооруженного копьями, оказалось образование больших групп, поскольку тогда за врагом следит множество глаз. Правда, для существ, живущих в такой тесноте, создают проблему вытянутые рога, поэтому от них в ходе эволюции пришлось отказаться. Таким образом, появление охотившихся людей привело бизонов к формированию стадного поведения и нового, вертикального расположения рогов; палеонтологическая летопись показывает, что эти характеристики действительно сформировались вскоре после прихода охотников.
«Символ Дикого Запада, бизон, – это дело рук человека, ибо он был сформирован индейцами», – пишет палеонтолог Тим Флэннери в книге «Вечный рубеж» (The Eternal Frontier), своего рода экологической истории Северной Америки…
До появления винтовки и всемирного рынка бизоньих шкур, рогов и языков охотники-индейцы и бизоны жили в симбиозе: бизоны кормили и одевали охотников, в то время как охотники выбраковывали стада и заставляли их часто перемещаться, что помогало сохранять травы прерий в хорошем состоянии. Хищничество глубоко вплетено в ткань природы, и эта ткань быстро расползется, если каким-то образом удастся «что-то с этим сделать». С точки зрения отдельного животного хищничество – это ужас, но с точки зрения группы (и ее генофонда) хищничество – это необходимое условие ее существования. Так чью же точку зрения мы примем? Отдельного бизона или бизонов как вида? Свиньи или свиней? От ответа на этот вопрос зависит очень многое…
Взгляды древних людей на животных были гораздо ближе к точке зрения современных экологов, чем к взглядам нынешних философов – защитников прав животных. Древние воспринимали их скорее как совокупность биологических видов, а не скопление отдельных особей. Как пишет в своей книге Джон Бёрджер, в представлении наших пращуров «животные были одновременно смертными и бессмертными». «Кровь отдельного животного лилась как человеческая кровь, но животные как вид оставались бессмертными, каждый лев оставался Львом, каждый бык был Быком» – это, если подумать, очень похоже на отношения между видами в природе.
И такие отношения продолжаются до сих пор. А вот защитники прав животных имеют дело только с отдельными особями. Том Риган, автор книги «В защиту прав животных» (The Case for Animal Rights), прямо утверждает, что, поскольку «виды не являются отдельными особями, правоведение не признает моральных прав видов ни на что, в том числе на выживание». Сингер соглашается с таким положением и также настаивает на том, что интересы могут иметь только отдельные особи. Но мне кажется несомненным, что виды тоже имеют свои интересы – скажем, они заинтересованы в выживании или в наличии здоровой среды обитания ровно так же, как в этом заинтересованы нации, общественные структуры или корпорации. Вполне понятно желание защитников прав животных иметь дело только с отдельными особями – оно может корениться в самой культуре либерального индивидуализма. Но какое отношение это имеет к природе? Правильно ли фокусировать нашу моральную озабоченность на отдельном животном, если мы пытаемся спасти исчезающие виды или восстановить среду обитания этих видов?
В то время, когда я пишу эти строки, на острове Санта-Крус, в восемнадцати милях от побережья Южной Калифорнии, работает команда снайперов из Службы национальных парков и Службы охраны природы США. Они убивают тысячи диких свиней. Это истребление – часть амбициозного плана по восстановлению на острове среды обитания и спасению местных лисиц. Данный вид животных, обитающих на нескольких островах Южной Калифорнии и нигде больше, находится под угрозой исчезновения. Но, чтобы спасти лису, Служба национальных парков и Служба охраны природы должны сначала распутать сложную цепь экологических изменений, запущенных на этих островах людьми более ста лет назад.
Впервые свиней завезли на Санта-Крус животноводы. В 1980-х годах от разведения этих животных отказались, но к тому времени заметное число свиней разбежалось по острову и образовало дикую популяцию, которая наносила серьезный ущерб экосистеме. Разбежавшиеся свиньи перекопали всю почву, создав идеальные условия для распространения таких агрессивных видов растений, как фенхель, которые в результате захватили весь остров. Кроме того, свиньи поедали желуди в таких количествах, что у растущих на острове дубов возникли проблемы с воспроизводством. Но самый серьезный ущерб, который нанесли свиньи экологии острова, был связан с тем, что обитавшие на острове беркуты стали объедаться расплодившимися поросятами. Результатом стал взрывной рост популяции беркутов. Вот тогда-то начались неприятности у островных лис…
Беркуты не были старожилами острова; они захватили нишу, которую ранее занимали белоголовые орланы. Последние потеряли свое место в экосистеме в результате того, что в 1950-х и 1960-х годах компания – производитель химической продукции сбрасывала в воды, окружающие остров, большое количество ДДТ. (На деньги, полученные в качестве компенсации от этой компании, и финансировался проект восстановления среды обитания.) Механизм деградации был такой. ДДТ разъедал скорлупу яиц белоголовых орланов, в результате чего популяция их уменьшилась. Образовавшуюся нишу заняли более агрессивные беркуты. В отличие от орланов, которые в основном питаются морепродуктами, беркуты предпочитают мелких наземных млекопитающих. Как уже говорилось, беркуты распробовали свинину, но потом оказалось, что этим птицам легче поймать детенышей островной лисы, чем гоняться за поросятами. Так беркуты своей охотой поставили популяцию островной лисы на грань исчезновения. Чтобы сохранить лису, и был разработан экологический план: предлагалось истребить всех свиней до последней, выловить и убрать с острова беркутов и повторно завезти туда белоголовых орланов – то есть, по существу, восстановить пищевую цепь, которая существовала на острове прежде.
Убийство тысяч свиней предсказуемо вызвало протесты защитников животных и других правозащитных групп. Ассоциация по защите прав животных на островах Чаннел, что расположены возле побережья Южной Калифорнии, запускала маленькие самолеты с баннерами, с помощью которых умоляла общественность: «Спасите свиней!» Общество друзей животных подало иск в суд, чтобы остановить охоту. Представитель Гуманитаного общества Соединенных Штатов (Humane Society of the United States) в своей яркой публицистической статье объявил, что «раненых свиней и осиротевших поросят будут травить собаками и добивать ножами и дубинками». Обратите внимание на мастерское использование эффекта смещения нашего внимания со свиней как популяции (так предлагают нам видеть проблему экологи из Службы национальных парков и Службы охраны природы) на отдельных осиротевших и раненых свинок, которых травят собаками и добивают дубинками. Как по-разному выглядит одна и та же история, если смотреть на нее через два разных объектива!
Так или иначе, борьба со свиньями на острове Санта-Крус показывает, что человеческую мораль, основанную на индивидуальных правах, трудно применить к природному миру. Это не должно вызывать удивления: нравственность представляет собой артефакт человеческой культуры, она создана, чтобы помочь людям установить между собой социальные отношения, и мораль отлично подходит для этих целей. Мы понимаем, что природные процессы не очень годятся для управления социальным поведением человека. Так почему же мы продолжаем стоять на антропоцентрической точке зрения и предполагать, что наша моральная система будет адекватно описывать то, что происходит в живой природе? Почему мы решили, что раз в человеческом обществе решающим моральным субъектом является индивидуум, то то же самое должно быть и в природе? Чтобы строить наши отношения с миром природы, нам может потребоваться совершенно другой набор этических правил и прав, отличный о того, который служит нашим целям сегодня. Этот набор должен соответствовать конкретным потребностям растений и животных и среды их обитания, а не сводиться к сентиментальным штампам.
5. Веганская утопия
Для того чтобы понять, насколько узкой и оторванной от «земли» в действительности является идеология защитников прав животных, нужно рассмотреть ее с точки зрения фермы или даже сада. Сразу станет ясно, что такая идеология способна процветать только в мире, где люди потеряли контакт с природой, где животные больше не представляют никакой угрозы (а это весьма недавнее достижение), где никто не оспаривает роль человека как царя природы. «В нашей обычной жизни, – пишет Сингер, – не существует серьезного конфликта интересов между людьми и животными». По-моему, такая формулировка предполагает наличие какой-то сугубо городской версии «нормальной жизни», которую никогда не признает не то что ни один фермер, но и ни один садовник.
На это заявление фермер может ответить автору, что даже у вегана существует «серьезный конфликт интересов» с животными. Ведь зерно, которое поедает веган, собирают с помощью комбайна, затягивающего в себя полевых мышей, в то время как колеса фермерского трактора давят спрятавшихся в своих норах сурков, а падающие с неба пестициды губят певчих птичек. Так или иначе, человек противостоит любым животным, которые покушаются на выращенный им урожай. В этих условиях убийство животных неизбежно – вне зависимости от того, что и как мы будем есть. Если вся Америка вдруг решит придерживаться строгой вегетарианской диеты, то совершенно не очевидно, что общее число погибших животных будет обязательно год от года снижаться. Ведь, чтобы накормить всех людей, внезапно ставших вегетарианцами, придется сокращать площади под пастбищами для животных и интенсивно возделывать на освободившихся территориях пропашные культуры. Куда денутся эти животные? Нет, если наша цель состоит в том, чтобы убивать как можно меньше животных, то правильная тактика будет съедать максимально крупных животных, которые могут выжить на минимальном участке обрабатываемых земель. Иными словами, правильная тактика – поедание стейков из животниых, выращенных на траве.
Веганскую утопию, несомненно, отвергнут люди, живущие в тех частях страны, куда всю веганскую еду придется импортировать из других, отдаленных мест. В качестве примера можно назвать Новую Англию. Со времен первых переселенцев из Европы холмистый ландшафт и каменистая почва требовали ведения здесь сельского хозяйства на базе луговодства и животноводства. Сам пейзаж Новой Англии с его мозаикой из лесов и полей, огороженных стенами из камня, – в каком-то смысле творение домашних животных, живших на этих полях, а потом уж тех, кто их потом съедал. Мир полон мест, где лучший, если не единственный, способ получить пищу из земли состоит в охоте или выпасе на этой земле животных, особенно жвачных животных, которые только и могут превращать траву в белок.
Отказаться от поедания животных в таких местах – значит отказаться от самих этих мест как среды обитания человека, если, конечно, мы не хотим усилить нашу зависимость от национальной пищевой цепи, основанной на высокоразвитом промышленном производстве.
Причем эта пищевая цепь станет, в свою очередь, еще более зависимой, чем сейчас, от ископаемых видов топлива и химических удобрений: ведь продукты нужно будет перевозить на большие расстояния, а органические удобрения, например навоз, окажутся в дефиците. Мне вообще кажется сомнительным утверждение, что можно построить подлинно устойчивое сельское хозяйство без животных как «организаторов» оборота питательных веществ и без поддержки местного производства продуктов питания. Если мы действительно заботимся о сохранении природы (а не, скажем, о непротиворечивости нашего морального кодекса или о состоянии наших душ), то иногда поедание животных может стать самым этичным из наших действий.
Но может ли этот вывод стать достаточно веской причиной для того, чтобы я отказался от вегетарианства? Могу ли я теперь с чистой совестью съесть счастливую курицу, выращенную в условиях устойчивого развития? Тут мне пришло на ум высказывание Бенджамина Франклина о том, что разумное существо может найти объяснение чему угодно, поэтому я решил разыскать Питера Сингера и спросить его, что он сам обо всем этом думает. Поначалу я решил выманить его из Принстона к Джоэлу Салатину и его животным, но Сингер оказался за границей, так что мне пришлось довольствоваться обменом сообщениями по электронной почте. Я спросил его, что он думает о хорошей ферме, то есть такой ферме, на которой животные живут в соответствии со своей природой и, судя по всему, не страдают.
«Я согласен с вами в том, что пусть лучше эти животные живут и умирают, чем они не живут вообще», – ответил мне Сингер. Далее он написал, что для прагматика, озабоченного исключительно общей суммой счастья и страдания, забой животного, которое не понимает, что такое смерть, не обязательно влечет за собой страдание. В этом смысле хорошая ферма даже добавляет счастья животным, когда забитая особь заменяется новой. Однако такой подход не исключает неправильности убийства животного, если последнее «в течение долгого времени осознает смысл своего существования и может иметь предпочтения относительно своего собственного будущего». Иными словами, получается, что съесть курицу или корову – это хорошо, а свинью – скорее всего, нет (потому что она умнее). Далее Сингер пишет: «Я не чувствую себя достаточно уверенным в собственной аргументации для того, чтобы осудить любого, кто покупает мясо на одной из этих ферм».
Дальше Сингер выражал сомнения в том, что такие хозяйства могут быть практичными на больших масштабах, так как давление рынка в конце концов приведет их владельцев к решению сократить свои расходы и «ужаться» за счет животных. Кроме того, поскольку продукты из животных, с которыми гуманно обращались, будут стоить дороже, «морально оправданный» животный белок смогут позволить себе только состоятельные люди. Это важные соображения, но они не отменяют того, что, мне кажется, представляет собой существенную уступку со стороны Сингера: он признал, что минусы поедания животных содержатся в практике применения, а не в принципах этого явления.
Для меня эта дискуссия имела тот смысл, что люди, которые держат животных, должны гарантировать, что те существа, которых они потом съедят, не страдают при жизни и что их смерть будет быстрой и безболезненной. Иными словами, здесь речь идет о благополучии животных, а не об их правах. В общем, такие рассуждения приводят к тезису о «счастливой жизни и милосердной смерти», которым оправдывал собственное мясоедение еще Джереми Бентам. Да, духовный отец движения за права животных сам был мясоедом. В отрывке, который редко цитируют защитники прав животных, Бентам защищал мясоедение на том основании, что «нам от этого будет лучше, а им хуже не будет… Смерть от наших рук обычно происходит быстрее и оказывается менее болезненной, чем та, которая с неизбежностью готовится для них природным ходом вещей».
Я думаю, что Бентам не очень хорошо знал, что на самом деле происходит на скотобойне, но выдвинутый им аргумент предполагает, что по крайней мере теоретически прагматик может оправдать свое поедание гуманно выращенных и забитых домашних животных. Под эту аргументацию подпадает и употребление в пищу диких животных, которые были убиты на охоте прямыми выстрелами. Сам Сингер в «Освобождении животных» тоже заходит достаточно далеко, когда спрашивает: «Почему к охотнику, который убивает оленя ради оленины, мы относимся с большим критицизмом, чем к человеку, покупающему ветчину в супермаркете? Ведь, скорее всего, свинья, выросшая на интенсивном откорме, страдала куда больше оленя».
После этих рассуждений я почувствовал себя намного лучше, решил снова есть мясо и начал собираться на охоту – пока не понял, что прагматики могут оправдать все, включая убийство отсталых детей-сирот. Для них убить – это вообще не проблема. Не то что для большинства людей, включая меня.
6. Чистое убийство
На следующий день после поедания стейка в ресторане Palm в компании с книгой Сингера я летел самолетом из Атланты в Денвер. Через пару часов полета пилот, который до того не произнес ни слова, вдруг обратился к пассажирам с объявлением о том, что мы пролетаем город Либерал, штат Канзас. Это был первый, последний и единственный ориентир на всей траектории нашего полета, о котором соизволил упомянуть пилот. С учетом того, что все остальное время пилот хранил молчание, его поведение показалось странным всем пассажирам самолета. Всем, кроме меня. Дело в том, что именно в городе Либерал должны были зарезать моего бычка – и очень может быть, что как раз в этот день. Я не суеверный человек, но это жуткое совпадение меня поразило. Можно было только догадываться о том, что происходило в этот момент на тридцать тысяч футов (девять километров) ниже меня, на бойне мясокомбината компании National Beef, где бычок № 534 встретился со станнером – аппаратом для оглушения.
Да, я мог только гадать, что там происходит: компания не позволила мне это увидеть. Когда я был на мясокомбинате раньше, весной, мне показали все, кроме бойни. Я видел, как бычков выгружают из трейлеров и заводят в загон, из которого они затем поднимаются по пандусу и входят в синие ворота. Но то, что происходит дальше, мне пришлось реконструировать по свидетельствам других лиц, которым разрешили побывать по другую сторону синих ворот. Мне повезло: я получил свидетельства Темпл Грэндин, эксперта по переработке животных, которая разработала пандус и прочую убийственную машинерию для завода National Beef, а также проводила аудит этой бойни для компании McDonald’s. Рассказы о том, как бычки продолжали «двигаться вперед» после того, как с них заживо сняли кожу (а такие «задокументированные» свидетельства публиковали разные группы защитников прав животных), побудили компанию McDonald’s нанять Грэндин для аудита своих поставщиков. Грэндин рассказала мне, что история забоя скота делится на две эпохи: «до McDonald’s» и «после McDonald’s, и они разнятся, как ночь и день». Можно себе представить, что там творилось «ночью»…
Вот как Грэндин описала то, что испытал бычок № 534 после того, как скрылся за синими воротами: «Животное переходит в узкий длинный желоб. Стенки его достаточно высоки, так что все, что он видит, – это зад животного, которое идет перед ним. Двигаясь по коридору, он проходит над металлическим брусом, в результате чего его ноги оказываются по разные стороны от бруса. В этой точке пандус начинает идти вниз под углом в 20 градусов, и, прежде чем бычок это замечает, его ноги отрываются от земли, и дальше он движется на конвейерной ленте. Здесь мы добавили в конструкцию фальшпол, так что он не может посмотреть вниз и увидеть, что он оторвался от земли, – иначе животное забеспокоится».
Тут я задал вопрос: чувствовал ли 534-й, что приближается его конец? Получил ли он какой-либо намек – скажем, запах крови или крик ужаса впереди на линии? Знал ли он, что для него это будет необычный день? Другими словами, страдал ли он? Темпл Грэндин ожидала мой вопрос. «Знает ли животное, что его собираются убить? Я нередко задавалась этим вопросом. Я часто смотрела, как бычки ходят по сужающимся желобам на площадках интенсивного откорма скота, и сравнивала их поведение с тем, как они идут по пандусу на бойне. Разницы не было. Если бы они знали, что скоро умрут, то демонстрировали бы гораздо более возбужденное поведение».
«В общем, конвейер идет вперед примерно со скоростью движущегося тротуара. На подиуме над ним находится станнер. Станнер – это пневматический “пистолет”, который стреляет стальным болтом на расстояние около семи дюймов (18 сантиметров) в длину, диаметром с толстый карандаш. Станнер наклоняется вперед и загоняет болт точно в середину лба. Если все сделано правильно, то животное погибает при первом выстреле».
«После того как животное застрелено, рабочий накидывает ему петлю на одну ногу и привязывает ее к тросу, который идет над желобом. Висящее на одной ноге животное перемещается в область выпуска крови, так называемый блидер, где ему перерезают горло. Защитники прав животных утверждают, что мы режем живых коров, потому что часто они рефлекторно дергают ногами. Я лично смотрю на то, умерла ли у него голова. Она должна болтаться как тряпка, с высунутым языком. Голову лучше не удерживать, иначе можно остаться на том же рельсе. На всякий случай у них имеется еще один станнер в области сбора крови».
Рассказ Темпл Грэндин и обнадежил меня, и встревожил. Обнадежил потому, что система, которую она описывает, выглядит гуманной (хотя я учитываю, что в данном случае она рассказывает о системе собственной конструкции). Встревожил – потому что я не мог не вздрогнуть при словах «можно остаться на том же рельсе». На конвейере, который забивает четыреста голов крупного рогатого скота в час, невозможно действовать без ошибок (McDonald’s допускает пятипроцентный «коэффициент ошибок»). Так все-таки, можно ли вести убой животных в промышленных масштабах, не заставляя их страдать?
Думаю, каждый из нас должен в конце концов сам ответить на вопрос, сможет ли он есть мясо животных, забитых таким способом.
Могу сказать только о себе: лично я не уверен, что смогу, потому что сам эту процедуру не видел.
Но зато я теперь понимаю, почему идея скотобойни под открытым небом, которую проповедует Джоэл Салатин, обладает такой моральной мощью. Дело в том, что любой клиент, который захочет увидеть, как встречает смерть его курица, может это увидеть и затем решить, будет он есть такое мясо или нет. Конечно, мало кто из нас примет это предложение; напротив, многие предпочтут возложить такую работу на плечи правительственного чиновника или журналиста. Но сама возможность взглянуть на эту процедуру и ее прозрачность – это, наверное, лучший способ гарантировать, что животных убивают таким образом, с каким мы можем смириться. Без сомнения, найдутся среди нас и такие, кто решит, что нельзя поощрять убийство животных. Им, наверное, лучше отказаться от мяса.
Когда я был на ферме, я спросил у Джоэла, как он смог заставить себя убить курицу. «Легко, – ответил он. – У людей есть душа, у животных – нет. Это краеугольный камень моей веры. Животные не созданы по образу и подобию Божьему, поэтому когда они умирают, то они просто умирают».
Идея о том, что только в наше время людям стало отвратительно убивать животных, – это, конечно, миф, лестный для наших современников. Вопросы жизни и смерти всегда имели для людей первостепенную важность, поэтому они тысячи лет напряженно работали над тем, чтобы найти оправдание убийству животных и преодолеть стыд, который вызывает это убийство даже в том случае, если оно необходимо для выживания человека. Огромную роль в этих процессах играют религия и ритуал. Так, коренные американцы и другие охотники и собиратели благодарили животных за то, что они отказываются от своей жизни ради того, чтобы смог выжить поедающий их человек. Сегодня подобная практика сохранилась в виде молитвы перед едой, которая для большинства является проходной. В библейские времена сложились правила, регулирующие ритуальный убой; в частности, возникла практика ротации, согласно которой никто не должен убивать животных на постоянной основе, каждый день, чтобы у него не притупилось ощущение тяжести содеянного. Во многих культурах убийство животных обставляли как принесение жертвы богам – возможно, чтобы убедить себя в том, что это не аппетиты людей, а аппетиты богов требовали убивать. В Древней Греции жрецы, совершавшие ритуальный забой (жрецы! А сегодня мы оставляем эту работу мигрантам, получающим минимальную оплату), поливали голову жертвенного животного святой водой. Если жертва трясла головой, это воспринималось как необходимый знак согласия на убийство.
Что позволяло древним присутствовать при убийстве животных, смотреть на это действо, а затем поедать мясо? Существование ритуалов, то есть закрепленных в культуре норм и правил. Сегодня у нас нет ритуалов, регулирующих убийство животных и употребление в пищу их мяса. Возможно, именно поэтому мы постоянно сталкиваемся с дилеммой и должны постоянно делать выбор всего лишь из двух вариантов: отвести взгляд или отказаться от мяса. National Beef работает на первый вариант, Питер Сингер предлагает второй…
Но мне кажется, что где-то существует и еще один путь, и его поиски надо начинать с того, чтобы научиться снова смотреть на животных, которых мы едим, и на их смерть. Когда люди заглянут в глаза свинье, курице или бычку, то они увидят много разного: и существо без души, и «субъект жизни», имеющий право на права, и вместилище удовольствия и боли, и, конечно, невероятно вкусный обед…
Что мы не должны делать – так это разводить философию, призванную привести нас к однозначному ответу… Я хорошо помню одну историю, которую рассказал мне Джоэл. Это был рассказ о человеке, который однажды появился у него на ферме в субботу утром, чтобы «просто посмотреть». Когда Джоэл заметил на бампере его машины наклейку организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), он подумал, что сегодня ферму ждут неприятности. Но у человека были другие планы. Он пояснил, что шестнадцать лет был вегетарианцем, но сегодня решил, что единственный способ заставить себя снова есть мясо – это самому убить животное. Джоэл схватил курицу и потащил человека в сарай, где проходила переработка.
«Он перерезал птице горло и смотрел, как она умирает, – вспоминал Джоэл. – Он увидел, что животное не смотрит на него с укоризной, не бросает на него повторный удивленный взгляд, как в диснеевских фильмах. Он увидел, что здесь к животному относятся с уважением при жизни и обеспечивают ему достойную смерть, что его не считают сгустком протоплазмы». Тут я уяснил, что тоже увидел все это, – и, наверное, поэтому оказался в состоянии в один прекрасный день убить цыпленка, а уже на следующий – есть его мясо. Хотя история, рассказанная Джоэлом, заставила меня пожалеть о том, что я проделал эти манипуляции не столь сознательно и внимательно, как гость Джоэла. Надеюсь, что охота даст мне второй шанс…
Иногда мне кажется, что для того, чтобы окончательно прояснить наши чувства по поводу употребления в пищу мяса и искупить все грехи животноводства, нужно просто принять один закон. Этот закон должен потребовать сделать стеклянными все стены всех откормочных площадок (сейчас они выполняются из листового металла) и даже заменить бетонные стены скотобоен стеклянными. Иными словами, если мы хотим установить в этой области какие-то новые права, то это должно быть право видеть. Несомненно, многие люди, увидевшие эти места, станут вегетарианцами, а многие другие начнут искать источники мяса в иных местах, например на фермах, владельцы которых выращивают и забивают домашних животных в условиях полной прозрачности. Такие хозяйства уже существуют: несколько небольших перерабатывающих заводов уже готовы позволить клиентам присутствовать на скотобойнях. А в одном из них – Lorentz Meats, расположенный в Каннон-Фоллс, штат Миннесота, – настолько уверены в том, что правильно обращаются с животными, что сделали стены своей скотобойни прозрачными…
Индустриализация (и брутализация) переработки животных в Америке – это относительно новое, неизбежное и местное явление: ни в одной другой стране не выращивают и не убивают мясных животных столь же интенсивно и жестоко, как это делаем мы. Ни один другой народ в истории не жил на таком большом отдалении от животных, которых он ел. Если бы стены наших мясокомбинатов стали прозрачными – пусть не в буквальном, но хотя бы в переносном смысле, – мы бы недолго продолжали выращивать, убивать и поедать животных так, как делаем это сейчас. Я думаю, что за одну ночь мы бы отказались и от отрезания хвостов свиньям, и от отсечения клювов птицам, и от забоя четырехсот голов крупного рогатого скота в час – ибо кто бы смог на это смотреть? Конечно, мясо стоило бы дороже, да и ели бы его меньше. Но зато мы бы поедали животных после проведения нужных церемоний, сознательно и с уважением, которого они заслуживают.
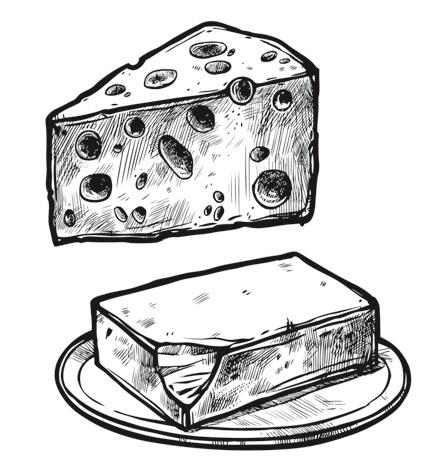
Назад: Глава 16 Дилемма всеядного
Дальше: Глава 18 Охота. Мясо

