Черная книга
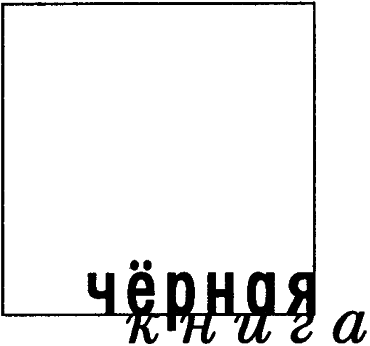
V
Песнь о ревности
1
Постоянно повторяется: Мари! Мари! Неужели это действительно было необходимо?
Какое странное слово: необходимо. Как будто только необходимое.
Вовсе нет.
В «Книге вопросов» несколько кратких, на первый взгляд ничего не значащих встреч Поля и Мари, записанных Бланш с откровенной небрежностью или в спешке.
После смерти Пьера Поль показал Мари некролог и спросил, как он ей нравится.
— Прекрасный некролог, — сказала она. — Справедливый. Очень хороший.
— Я постарался.
Она вздрогнула, точно услышав оскорбление или робкий, потаенный намек, и спросила:
— Постарался?
— Ради тебя, — ответил он, быстро добавив: — Ради него.
— Спасибо.
Короткие разговоры Мари с Полем, а в промежутках — испуганное молчание!
2
Почему листы вырваны именно из «Черной книги»?
В этой книге много говорится о начале катастрофы Мари. А о Шарко почти ничего, кроме одного до абсурда самоуверенного предложения: Мари, пишет Бланш, возможно, вообще бы не выжила, если бы не я с моим опытом, почерпнутым в Сальпетриер и из уроков доктора Шарко, если бы я из дружеских чувств не даровала ей жизненную силу и тем самым не спасла бы от обморожения души и научной строгости, которая чуть не лишила ее жизни и рассудка.
Научная строгость?
Вероятно, Бланш хочет оправдаться. И придать какой-то смысл своей кошмарной жизни. Ничего удивительного.
Ведь каждому хочется, чтобы его жизнь имела смысл.
Необходимо понимать, что представляла собой жизнь женщины-ученого в начале потрясающего и эпохального в научном отношении двадцатого века.
Однако какая самоуверенность. Когда же исчезли самоуверенность, оптимистическое видение будущего и надменность двадцатого столетия? Когда катастрофа Мари Кюри достигла кульминации — к счастью! — началась Первая мировая война, и Мари пошла добровольцем в рентгенологи просвечивать истерзанные тела двадцатого столетия. Может быть, где-то около 1914 года надменности двадцатого века и был положен конец?
Поэтически воплощенный Мари Кюри в рентгеновском автобусе.
Но до этого — жизнь женщины-звезды научного мира! Среди ненависти! На ярко освещенной сцене! В окружении враждебно настроенных диких зверей!
И какое разразилось безумие, когда эта звезда научного небосклона, которая получила Нобелевскую премию и вскоре должна была получить еще одну, влюбилась в женатого мужчину с четырьмя детьми и не пожелала отказаться от своей любви! Смертный грех!
Мари, Мари. Еще чуть-чуть — и понеслось.
В «Черной книге» Бланш записывает сон Мари.
Мари идет по заснеженной равнине, потом по льду, возможно, по ледовым просторам Арктики, подходит к какой-то расщелине, там кто-то похоронен, стекшая на его лицо талая вода замерзла, и за тонкой корочкой льда угадываются черты покойного, Мари всплескивает во сне руками от удивления или радости и восклицает:
— Но Бланш! Это же я!
Бесчисленны свидетельства ненависти к женщинам, которым сопутствует успех, особенно к женщине-ученому. Даже те, кому Мари нравилась и кто любил ее, полагали, что предпосылкой ее гениальности является холод.
Нет холода — нет гения.
1 июня 1913 года, когда уже почти все осталось позади и Мари обморозилась, но все-таки выжила, еще до начала Первой мировой войны, принесшей ей освобождение и спасительную работу в карете «скорой помощи», Мари прогуливается с Альбертом Эйнштейном в Швейцарии, неподалеку от Энгадинского парка. Он пишет кузине: «Мадам Кюри очень умна, но холодна как рыба, то есть не умеет проявлять радость и печаль, а чаще всего выражает свои эмоции просто хмыканьем».
Кого же она видела в ледяной могиле?
Мари говорила, что ее любовника Поля притягивало к ней, «как к свету», — виделся ли он ей при этом в образе мотылька или птицы, или человека в темном лесу? Что за свет она излучала?
То самое голубое сияние?
Холодная как рыба. Свет в лесу. Человек в ледяной могиле, покрытый коркой льда.
У Мари было много лиц.
Поль заходит в лабораторию Мари неожиданно и безо всякой необходимости.
Приносит в корзинке чайник. О, Поль! Как приятно!
Наливая чай, он стоит совсем рядом с ней. Она вдруг замечает, что у него красивые руки. Ночью она просыпается посреди взволновавшего ее сна, вся в поту, обе простыни влажные. Снова заснуть не удается. Во сне эти руки касались ее. Мне сорок один год, я еще молода, пытается думать она. Не помогает. Никак не успокоиться. Уже слишком поздно?
Она тихонько шепчет в темноту:
— Бланш?
Никакого ответа. В соседней комнате спят дети, а они — это всё.
— Бланш? Ты спишь?
Ведь у Мари было все. Слава, известность, дети, влиятельные друзья. Зачем же тогда любовь?
Но это медленно пульсирующее воспоминание! Зуд! Слабость внизу живота! И не обращенный к кому-либо конкретному, совершенно безымянный жар! Это слова Бланш — о безымянном жаре. Но она, должно быть, их слышала. Желание, лишенное направления! словно стрелка компаса на Северном полюсе! Она вертится и вертится по кругу, только бы отыскать какое-нибудь направление!
И так внезапно.
3
Впервые Мари прикоснулась к нему около десяти часов вечера 4 марта 1910 года.
Местом стала точка вплотную к рабочему столу в сарае на улице Ломон, где десятью годами раньше были впервые обнаружены полоний и радий и где когда-то, еще при жизни Пьера, проводились эксперименты с пьезоэлектрическими явлениями в кристаллическом кварце. Местом, где все изменилось, стала точка, расположенная примерно в метре слева от стола, но потом они передвинулись к столу, да так, что были раздавлены стеклянные колбы. Вот то самое место, думала обычно Мари, я отмечаю место с ни к чему не обязывающей точностью, словно я и там была научным работником, а не любящей женщиной.
Хотя потом она смотрела на этот стол уже другими глазами.
Бланш записывает слова Мари о точке. Она знает: всегда существует точка, откуда повествование становится возможным. Если эту точку не отыскать, история оборвется.
Поэтому у Бланш три книги: стрелка компаса вращается, только бы у рычага любви имелась точка опоры!
Чтобы перевернуть мир.
По прошествии времени все видится по-другому. Даже столы изменяются и становятся священными местами. Еще через несколько лет посещение этих мест причиняет такую боль, что делается невыносимо.
Она ведь ничего не замышляла, чистая случайность, что мы с Полем встретились в тот роковой — ей не следовало бы употреблять слово «случайность», ее вызывающее платье не было случайностью, иначе откуда смятение и трепет сердца, — роковой день, когда меня впервые потянуло перебороть женскую робость, и он — интересно, что переборол он?
Тем вечером, в десять часов, он стоял в комнате, у стола. Возможно, они на какое-то мгновение поделились друг с другом своей темнотой, и это захватило их настолько, что возник свет. И потом он должен был носить ее, как носит свою лампочку рудокоп.
Как давно она его знала!
Все дело в глазах! его глаза! иногда совершенно мертвые и погасшие, она была почти уверена, что виной тому его несчастливый брак и эти ужасные сцены, о которых ей давно было известно: тогда его глаза становились совершенно погасшими и мертвыми.
Ей это было знакомо.
Она знала, что у нее самой — иногда, иногда! — бывал такой мертвый взгляд, словно лицо покрыто льдом! Но вот глаза Поля менялись, он становился прямо-таки ребенком и по-младенчески боялся, глядя на нее уже совершенно другими глазами, как будто был абсолютно живым человеком.
Внезапно она увидела его, когда он стоял именно там.
Точка! — откуда история делается обозримой и становится реальной! — в метре от стола, где когда-то! — при жизни Пьера! — она обнаружила то самое таинственное вещество! и голубой радиоактивный свет! разве это не подходящее место, чтобы перебороть страх!
Тут она произнесла, в десять часов вечера, (позднее она сообщила об этом так, словно «Черная книга» Бланш была научным журналом), и произошло это в ее лаборатории, возле стола со стеклянными ретортами:
— Поль, я действительно живой человек?
Сколько же времени они были знакомы? Пятнадцать лет?
При нем вечно была семья или друзья, он всегда улыбался ей, не обмениваясь с ней ни словом, что же все-таки постепенно закралось? Тяга к запретному? или ощущение, что перед ней человек, возможно, совершенно уникальный и теплый, который мечтает о ней почти так же, как и она в глубине души мечтает о нем, и вот контроль потерян: Поль, я живой человек? — так прямо? что означали эти слова? что она мертва? как рыба?
Она стояла, вероятно, метрах в двух от него, а он стоял в точке. И тем не менее он, должно быть, понял.
Что заставляет людей иногда вдруг понимать, что может рассказать живой живому, как мне выбрать слова для того, кто мне дорог, лишь вопросы звучат в тишине, как будто ножи в руках у жонглера, а то, что я должен сказать, беззвучно лежит у реки, как улитка; нет, это стихотворение еще не было написано, она говорила и думала не так, просто пришло в голову. Всю жизнь она будет знать: то было главное мгновение.
Он лишь смотрел на нее, ничего не отвечая.
— Поль, — сказала она, — я боюсь, иногда мне кажется, что я мертва.
— Что ты имеешь в виду?
Объяснить она не могла, просто подошла ближе, вплотную к нему.
— Я сама не знаю, — сказала она.
Обстановку той ночи она запомнит навсегда. Стол. В комнату почти не проникает свет. Только эта теплая темнота, такая живая, заставившая ее подойти к границе, столь притягательной и отчетливой, что ее можно было потрогать рукой.
Она прикоснулась к нему.
— Это опасно, — сказал он.
— Я знаю.
— Это опасно, — повторил он.
— Какая разница, — ответила она. — Какая разница.
И она продолжала прикасаться к нему. В полумраке.
Свет был не похож на радиевое излучение, нет, этот свет излучал теплую темноту, создававшую возможность подойти к точке, где находился он и откуда можно было взглянуть на свою жизнь. Темнота была теплой и не смертоносной, хоть и полной страха и желания, и внезапно путь назад оказался отрезанным.
Он поцеловал ее, прижал к столу, и она раскрыла ему свои объятия.
Она услышала звук бьющегося стекла.
Одним взмахом руки она очистила стол, его глаза больше не были глазами ребенка, не были мертвыми, нет, теперь они казались глазами совершенно живого человека, Поль, прошептала она, понимая, что час настал, Поль, это не опасно, и он задрал ей юбку и поднял Мари на стол, где когда-то кто-то, нет, она сама! в одиночку! измеряла радий и где делались открытия, которым предстояло изменить историю. Теперь она вплотную приблизилась к другому открытию, полная решимости и теплоты. В его взгляде не было уже панической готовности защищаться, которую она, казалось, читала в нем раньше, она знала, что он ее очень любит, возможно, впервые осмелившись переступить пугавшую его границу, все стало теплым и темным, и Мари сразу поняла, что его темнота слилась с ее темнотой воедино. Она лишь сказала: о, медленно! осторожно! — и он медленно проник в нее.
На столе по-прежнему осколки стекла. Боли это не причиняло.
Она кончила почти сразу, мягкими ритмичными толчками, и кончать ей было не страшно, и она тут же поняла, что и он уже преодолел границу страха и тоже кончил в нее, столь страстно желанную в течение пятнадцати лет, денно и нощно, в нее, в Мари — самую запретную, убийственную и самую вожделенную. Она ведь сама подняла руку и коснулась его щеки, потом опустила ее и дотронулась до члена, столь же твердого, каким всегда бывал у него во сне с тех пор, как он впервые увидел ее. Но не получал ее, не осмеливался: Мари — самая запретная и потому смертельно опасная, которую он любил, все время сознавая, что коснувшийся Мари касается смерти, и поэтому она обладала безумной притягательностью.
Таким было начало.
Потом он положил ее на пол и сел рядом, и они оба понимали, что это неизбежно.
— Ну что, понеслось? — спросила она.
Почему она так сказала? Он ничего не ответил.
Около часа ночи Мари вернулась к себе в квартиру, вошла в комнату Бланш, разбудила ее и все ей рассказала.
На спине у Мари были пятна крови, поскольку осколки стекла впивались ей в спину. Она сняла платье и бросила его в угол. Порезы были незначительными, но Бланш протерла их спиртом. Мари была совершенно спокойна.
— Что он за человек? — спросила Бланш, хотя и знала, о ком идет речь.
— Будущее покажет, — ответила Мари.
Бланш отметила ее невероятное спокойствие.
— Будущее покажет, — снова повторила Мари, но на лице у нее было написано такое спокойствие, что в этих словах нельзя было услышать или уловить ничего другого. Она почти всю жизнь ждала возможности произнести их: не о страхе или границах, не о самом запретном или смертельном искушении, а о чем-то более простом и внушающем куда больший страх: Мари! Мари! Вот и понеслось!
4
Что же он был за человек?
Можно в нескольких словах передать, возможно, и не правду, но существовавшее в Париже общественное мнение о нем и о ситуации вокруг них с Мари, сложившейся, например, осенью 1910 года, и ничего не преувеличивая, а просто объективно резюмируя публиковавшееся в прессе, сказать, что его звали Поль Ланжевен, что он был уважаемым французским исследователем и отцом четверых детей, чей брак и счастливая французская семья оказались разрушенными женщиной-иностранкой с девичьей фамилией Склодовская и, возможно, еврейского происхождения! еврейского! что следовало рассматривать как еще одну атаку на французские устои после трагического национального поражения в борьбе против еврея Дрейфуса и победы его защитников!
Да, она наверняка еврейка! Откуда бы иначе взялось ее второе имя Саломея?
Женщина-иностранка, возможно еврейка, но в таком случае скрывавшая и отрицавшая свое еврейское происхождение, вполне вероятно, по сути своей, как позднее будет утверждать одна из газет, была человеком столь же преступным в области морали, сколь Дрейфус в военной!!! и, как и он, наверняка была виновна.
Но, во всяком случае, — полячка.
И совершенно ясно, что эта иностранка Склодовская, заполучившая путем замужества французскую фамилию Кюри, была не просто женщиной, а еще и богохульствующей интеллектуалкой со связями в эмансипированных кругах, например, в Англии! где она общалась с печально известными суфражистками; женщиной, пытавшейся, когда ее скандальное поведение разоблачили, скрыться от общественного мнения, но под конец все-таки выставленной прессой и общественностью на заслуженный публичный позор, чему позднее способствовало, например, «скандальное присуждение ей еще и второй Нобелевской премии» — премии, которую она не заслужила и которая по-своему положила конец ее связи с невиновным, по сути дела, Полем Ланжевеном.
Приблизительно так.
Что же он был за человек?
В 1907 году Поль внес свой главный и самый уникальный вклад в развитие физики: им стало применение электронной теории магнетизма; по существу это было объяснение экспериментов с магнетизмом, проведенных Пьером Кюри в 1895 году.
Он с успехом обобщал и пояснял опыты Томсона и Кюри, принадлежа к типу людей, умеющих увидеть взаимосвязь, но не способных находить корень необъяснимого; поэтому Мари за него всегда очень переживала. Он соединял отдельные звенья цепи, но к нему относились с известным пренебрежением, поскольку ему самому никак не удавалось создать что-нибудь уникальное, получить уникальный результат.
Полю, говорила Мари друзьям со слезами на глазах, никогда не воздают по заслугам, ведь ему дано только обобщать.
Сам Поль вполне довольствовался своим жребием, не проливая по этому поводу слез.
Постепенно он все-таки добился широкого признания.
Во время Первой мировой войны работа Поля Ланжевена над феноменом пьезоэлектричества (для генерации ультраакустических колебаний) предопределила возможность с помощью эхолотов обнаруживать подводные лодки противника и тем самым внесла значительный вклад в успех военных действий. Он отнюдь не предполагал в себе способности любить, но его сразила болезнь под названием Мари Кюри, которая, как он понимал, лечению не поддавалась. Между тем уже в 1895 году он получил докторантскую стипендию и работал в Кавендишской лаборатории вместе с Эрнстом Резерфордом; этот самый Резерфорд и шел на три шага позади Мари и Пьера в парижском саду ночью 1903 года, когда наполовину покрытая сульфидом цинка и содержащая раствор радия трубка ярко светилась в темноте и Мари, внезапно обернувшись к Полю, увидела, что у него живые глаза, это был великолепный финал незабываемого дня.
Но Поль увидал Мари значительно раньше.
Пьер Кюри был учителем Поля Ланжевена в Школе индустриальной физики и химии еще в 1888 году, Полю тогда было семнадцать лет. С Мари он встречается в 1895 году, сразу после ее свадьбы с Пьером. Пьер вызывает у него восхищение. Поль преклоняется перед ним: Пьер всего достиг, ему принадлежит и такая уникальная собственность, как Священный Грааль — тело Мари. Она — Священный Грааль.
Поль знает, что коснувшийся Священного Грааля должен умереть — в этом таинство и глубинная движущая сила любви.
Он уверен в справедливости теории философов-просветителей, утверждающих, что поиски счастья являются уникальной привилегией человека, но, поскольку единственным возможным для себя счастьем он считает Мари, а поиск этого счастья для него исключен, теория рушится. Он начинает думать об этом как о «неизбежности человеческой трагедии». Легче не становится. Он рассматривает жену своего учителя как символ невозможности любви. Потом Поль становится коллегой Мари, но уже позднее, по прошествии нескольких лет. Она пребывает совсем-совсем рядом с ним. Невозможное преследует его.
Ему кажется, что он съеживается.
Как мучительно, что она так близко. Недостижимое не должно находиться в такой близости, что его можно коснуться. Мари двигается совсем рядом, но на бесконечном расстоянии. По мере того, как возрастает его восхищение Пьером, увеличивается и нечто другое: расстояние? жажда Грааля? или ненависть?
Сперва он разговаривает с Мари почтительно, потом по-дружески, потом чуть ли не гневно. Мари, Мари, чем это кончится, такая красивая, мягкая и недоступная для прикосновений.
«Поль — странный физик-ядерщик, он верит в ионы, как в религию!» — снисходительно говорит его учитель Пьер; разве не следует ненавидеть такую снисходительность и дружелюбие? К тому же Поль — республиканец, критически настроенный к французской системе образования и ненавидящий какие бы то ни было иерархии, в 1898 году он подписал петицию Золя в защиту Дрейфуса, что делает волну возмущения в прессе, связанную со скандалом вокруг Мари Кюри, менее понятной.
Может быть, Поль заслужил свою иностранку? Вероятно, еврейку? Возможно, так все и должно было быть?
Однажды, осенью 1901 года, она накрывает его руку своей. Еще раз — в марте 1903-го. И улыбается!
Дело происходит еще при жизни Пьера: дружеская улыбка. Поль приходит в невероятное возбуждение, долго представляет себе, как эта рука касается его обнаженного тела.
Ее рука! Она ведь деформирована! но он не обращает внимания на следы облучения. Рука заменяет ему ее тело: белоснежное, пышное, абсолютно недоступное тело. Хоть бы раз в жизни излить себя в это тело! — принадлежащее, принадлежащее! — его уважаемому учителю и образцу для подражания. Мари, Мари, чем все это кончится?
Какова химическая формула страсти?
И почему не существует «архивного метра» любви, почему любовь постоянно изменяется, в отличие от эталонного метра — десятимиллионной части парижского меридиана, почему никто не получил премии за атомный вес страсти, установленный для всех, навеки, на все времена?
Полстраницы из «Черной книги». Дальше оторвано. Вопрос: Зачем же как животное тавром?
Начатый ответ: Однажды, когда Поль зашел в гости, Мари в шутку пригласила его на кухне потанцевать и на несколько мгновений так тесно прижалась к нему, хотя у нее в это время и были месячные, что он
Остаток страницы оторван. Она его провоцировала? Сознавала ли она, что он бессонными ночами будет вновь и вновь переживать эти секунды, словно бесконечно пребывая во власти сексуальности, как будто его навсегда пометили, как животное тавром.
К чему эта запись о месячных?
Когда умер Пьер Кюри, лучший и самый обстоятельный некролог написал Поль Ланжевен. Мари очень понравилось. Он сумел все понять.
Поль постарался.
Он пытался разобраться в Мари. Ему казалось, что у нее много лиц. Мари запросто общалась с Полем и его женой Жанной Ланжевен и с их четырьмя детьми. Мари расстраивается, когда Жанна жалуется на резкое обращение мужа. Она возмущается, узнав, что Жанна разбила о его голову бутылку! Она отмечает «ужасные стычки» супругов. Однако ничто не предвещает, что любовь вот-вот разрушит жизнь Мари, она волнуется за него, но он, на первый взгляд, не играет сколько-нибудь существенной роли.
А тикающие звуки бомбы любви? Неужели непонятно?
Возможно. В «Книге» Бланш вплоть до весны 1910 года лишь разрозненные и курьезные записи о Поле, только неуверенные комментарии — (месячные!) — намекают на то, что ему предстоит сыграть какую-то роль.
Он прочно и безболезненно, как раковая опухоль любви, затаился в ее жизни.
Бланш тоже дожидается своего часа. Он должен наступить.
В «Книге вопросов» она много рассказывает о своих ночных беседах с Мари, но их разговоры касаются только Сальпетриер, тамошних женщин и врачей. Мари, похоже, все больше увлекают рассказы Бланш. Ей хочется побольше узнать об экспериментах, о сексуальных домогательствах и побегах.
О чем она думает?
О чем думал Поль, неизвестно никому. Его жена Жанна слышала в темноте его дыхание, но он не спал — ведь именно в темноте Мари представала перед ним особенно отчетливо. Она появлялась из темноты, словно голубое мерцающее сияние, ему нравилось так думать, темнота точно озарялась Мари, и тогда его дыхание так учащалось, так учащалось, что Жанна Ланжевен ночь за ночью шепотом спрашивала: — Поль? О чем ты думаешь? Ты спишь?
Но он не ответил.
5
Мари сказала: нам следует все устроить. Он спросил, что она имеет в виду, она повторила: нам следует все устроить, надо снять себе квартиру.
15 июля 1910 года они сняли двухкомнатную квартиру на улице Банкье, 5. Там они могли встречаться. Обстановка квартиры была скромной, однако включала гостиный гарнитур, обитый светло-зеленой тканью, — Мари, к своему удивлению, обнаружила, что этот гарнитур ей очень нравится, особенно его зеленый цвет, напоминавший ей о летнем луге в Закопане.
Спальня очень простая: одна кровать.
Поль особенно не утруждался и был скорее поражен практичностью Мари, но в глубине души счастлив. Его первые записочки к ней полны почти безмятежного счастья. Он завладел Граалем и еще не понимает, что это означает. Пишу впопыхах, чтобы сказать, что если ты утром не появишься, то я вернусь в наше гнездышко где-то после двух. Я с таким нетерпением жду встречи с тобой, что почти не думаю об ожидающих нас трудностях. Так хочется снова услышать твой голос и заглянуть в твои прекрасные глаза. Я пытаюсь придумать, как создать сколько-нибудь приемлемую для нас обоих жизнь, и согласен с тобой относительно того, что именно необходимо, чтобы это стало реальностью.
Все казалось таким простым.
Мари, бывало, ходила в их квартиру, chez nous, пешком — ведь это было совсем недалеко, она шла по улицам бодрым шагом, не испытывая ни малейшего напряжения, и была способна преодолеть тысячу миль и нести на своих плечах все беды Польши, без всякой одышки, — цитата поражает, поскольку это единственный раз, когда она в разговоре с Бланш упоминает о бедах своей родины. Иногда она встречала Поля прямо в дверях, обнимала и с улыбкой, медленно и деловито, начинала раздевать, не обращая никакого внимания на его застенчивость.
Загнанную в подполье польскую культуру и свободу Мари однажды уподобила подспудной силе подавляемой любви.
Поль хотел заниматься любовью в темноте, но она зажигала свет. Доносившиеся с улицы звуки им не мешали, за исключением одного раза, когда Мари прямо посреди жарких объятий вдруг в ужасе широко распахнула глаза, подумав, что слышит грохот девятиметровой груженой телеги, весящей шесть тонн, и управляемой кучером по имени Манен, и на такой скорости выворачивающей из-за угла, что Мари с возгласом удивления или страха на какое-то время прекратила заниматься любовью, так ничего и не сумев объяснить своему любовнику. Как-то раз, придя, он застал ее на кровати обнаженной и был едва ли не шокирован, остановился в дверях и стал ее рассматривать. Она сказала: заходи! ты не спишь! это я! — он подошел к кровати, упал на колени и заплакал, не надо, сказала она, но если тебе самому хочется поплакать, тогда, конечно, плачь.
— А вдруг все это кончится, — сказал он.
Возможно, она чувствовала себя так свободно именно потому, что их квартира была тайной и запретной.
Когда все заканчивалось, Мари могла неподвижно лежать, глядя в потолок, и наблюдать, как колышутся отбрасываемые горящей свечой тени, сознавая, что польские борцы сопротивления неоднократно скрывались в таких же квартирах, обсуждая, как сохранить польский язык и культуру. Конечно, она должна была видеть разницу: их любовное гнездышко сильно отличалось от гнезда сопротивления, а может быть, нет? возможно, для нее и не отличалось? В их тайной квартире было нечто теплое и сокровенное, создававшее ощущение, будто она плывет по теплому морю, укачиваемая теплой водой, нет, словно она покоится в зародышевых оболочках, как эмбрион в матке? можно ли было так думать? разве этот зародыш не покоился в животворных околоплодных водах? Вместе с тем она внушала себе, что переживаемое ею было чем-то более значительным: глубинным смыслом жизни, открывающимся только невинным детям.
И мне тоже, думала она.
Мари пыталась сказать об этом Полю, сознавая, что ему не понять, каково это — жить в ссылке, когда тебя, где бы ты ни находился, вечно тянет отыскать своего рода материнское лоно!
Ты словно бы постоянно пытаешься вернуться обратно в лоно — понимал ли он? — где бы ты ни находился! вечно!
Мари забирала из своей квартиры постельное белье и несла его в корзинке, как рыночная торговка яйца.
Она ежедневно приносила эту сверкающую белизной «яичную» корзину к их ложу любви. Зачем ты это делаешь, спрашивал он, кто-нибудь может увидеть и заинтересоваться. Все равно кто-нибудь однажды увидит и заинтересуется, отвечала она, разве ты этого не понимаешь? Он часто засыпал, и она с любовью смотрела на его лицо, наблюдая, как оно утрачивает неприступность и становится смущенным и детским. Вот куда завело нас бегство, в самую глубинную ссылку, мы обрели покой в материнском лоне Европы, сказала она ему однажды.
Мысль показалась ему забавной, но немного гнетущей, и больше она этого не повторяла.
Поскольку все, что они делали, было запретным, Мари совершенно перестала чего-либо бояться. Я неопытна, сказала она как-то раз, все, что она проделывала, занимаясь с ним любовью, выходило за рамки ранее испытанного и было новым. Ее заинтересовало, в чем смысл человеческого опыта. Уже испытанное становится мертвой материей. Ты — физик, сказала она, Вселенная заключена в атоме, представляющем собой эту постель, не надо ни во что верить, почему ты боишься?
— Я не боюсь, — повторял он, возможно, излишне часто, чтобы она смогла ему поверить.
Мари не хотела бояться. И не хотела, чтобы боялся он. В этом отношении ей хотелось взять его с собой. Поэтому она рассказала о поездке в Ном.
Этого нельзя было делать. Но откуда она могла знать.
Поначалу она боялась, что он сочтет ее опытной. Потом она уже больше не боялась. Не беспокойся, сказала она. Мы ведь можем представить, что встретились совершенно случайно, что ты собираешься на Аляску и никогда не вернешься. Какие на Аляске города, спросил он. Кажется, Ном, ответила она. Это, во всяком случае, не в Гренландии, произнес он. Тем лучше, сказала она. Ты уезжаешь в Ном и останавливаешься в Париже только на одну ночь, а во время поездки в Ном ты умрешь. И тебе уже никто не страшен, и ведь нам было так хорошо.
Зачем я должен умереть? Чтобы никому из нас в эту ночь в Париже не было страшно.
И потом мы будем так думать ночь за ночью, во веки веков. Ты пойдешь по бесконечной ледовой равнине и умрешь, так и не добравшись до Нома. Почему я должен умереть? Потому что иначе ты будешь бояться того, чем мы занимаемся в Париже. Никто ничего не знает, и никто не узнает. Мы тоже забыли. Все вычеркнуто.
Так и думай. Все до этой ночи и после нее вычеркнуто, и потом, во веки веков, тебе ничто не страшно, и мне ничто не страшно. Представь, что ты уезжаешь в Ном. И никогда, никогда меня больше не увидишь, и мне ни перед кем не будет стыдно, поскольку ты умрешь по пути в Ном.
Он не понял.
Только очень обиделся, что правда, то правда. Но, рассказав ему о поездке в Ном, она почувствовала себя как-то свободнее, может быть, совершенно свободной. Они занимались любовью. Все было лучше, чем когда-либо, и лучше, чем когда-либо будет. Но она понимала, что на самом деле история про Ном ему не понравилась.
— Ты хочешь, чтобы я умер, — напрямик, почти по-деловому, сказал он потом в темной комнате, когда свеча уже давно погасла, подступила ночь и уличный шум практически стих.
Она бурно запротестовала, спросив, как он может говорить такие глупости, точно он сомневается в ее любви.
— Смерть в Номе не поможет, — сказал он в ответ.
Тремя неделями позже он вновь вернулся к этой мысли, словно просто прерывал свои размышления, а теперь их продолжил:
— Ты помнишь поездку в Ном? Она не поможет. Жанна что-то подозревает. Должно быть, дошли какие-то слухи.
— Ты боишься?
Он мог и не отвечать, поскольку ей и так уже все было ясно.
6
Когда все правильно, не нужны никакие слова, думала она в лучшие мгновения.
Она размышляла следующим образом: в лучшие мгновения он совершенно спокойно и молча лежал, погрузившись в нее, и она ощущала едва заметные движения его члена; и думать было нельзя! надо было просто чувствовать, что пребываешь в самом центре жизни. Вот как должно было быть. И тихонько, словно собачьим носом! — как это делала в детстве ее собака! — именно так им и следовало принюхиваться друг к другу, когда он — в ней, безо всяких мыслей! так, словно их слизистые оболочки осторожно принюхиваются друг к другу, будто его член — это нос собаки, которая робко вылизывает шерсть ее матки.
Когда им было хорошо, именно так и бывало.
Словами она объяснять не хотела, потому что он всегда неверно истолковывал ее слова. В лучшие мгновения они обходились без слов. Он входил в нее глубоко, спокойно, но вместе с тем с любопытством; и она вообще ни о чем не думала. Все мысли стирались, это она и имела в виду, говоря о ледовом путешествии в Ном. Никакой истории, никакого наказания и никакой вины, прежде всего никакой вины! никакой вины! Надо сконцентрировать все мысли на собачьем носе, таком любопытном и очень нежном. Почему же так трудно объяснить ему, как все должно быть, ведь он же разбирается во всем, что касается излучения и физики.
Но не понимает про Ном.
Она не решалась сказать, что все ее ткани и мышцы, все ее тепло и свобода собраны там, у нее в глубине; и в лучшие мгновения она почти не шевелилась.
Когда бывало лучше всего, все происходило почти без движения.
Тогда они лежали спокойно. Этому следовало продолжаться бесконечно, они обнимали и обрамляли друг друга. Этому следовало продолжаться бесконечно, потому что именно такой и должна быть любовь: как остановка на пути в Ном, и только в этот миг, с любопытством и осторожностью, как собачий нос, именно так, навсегда и вне реальности, но только в этот миг, только в эту ночь.
Такой она представляла себе любовь. Под поездкой в Ном она и подразумевала, что не существует никаких «до» или «после» и, уж во всяком случае, не существует ничего за пределами их маленькой общей комнаты. А он вдруг взял и сказал, что Жанна что-то подозревает.
Это было почти равносильно предательству.
7
По прошествии времени кажется совершенно непостижимым, что недолгое счастье Мари продолжалось всего шесть месяцев. С марта по август 1910 года. Затем все делается столь некрасивым, что ничего уже не возможно исправить, хотя решающий взрыв и происходит только в ноябре 1911 года.
Потом она уже больше никогда не сможет сблизиться с мужчиной, найти себе любовника, начать все сначала. Шесть месяцев.
Внезапно все разом ухудшается.
Долгое время все было так замечательно, почти шесть месяцев, но, став неприглядным, делается по-настоящему некрасивым. Появляется ряд свидетелей, с разной степенью возмущения или злорадства рассказывающих о том, что Жанна действительно что-то заподозрила и не желает ничего скрывать, а хочет вступить в борьбу и нанести смертельный удар.
Уж такова любовь, и ее любовь тоже. В этой истории Жанна почти незрима. Я полагаю, что и у нее есть своя собственная история, что ей тоже доводилось лежать, глядя в потолок.
Если начать рассказывать все истории, под конец незримым сделается все. Приходится выбирать.
Служанка выудила из почтового ящика письмо Мари к Полю и передала мадам Ланжевен. Это уже доказательство.
Профессор Жан Перен, друживший с Мари и Полем и все знавший, навестил Жанну Ланжевен и попытался ее успокоить, но та упорно стояла на своем, утверждая, что убьет польскую шлюху, посягнувшую на их брак. Во всяком случае, она доведет это до сведения французской прессы.
Несколькими днями позже Перен поздно вечером возвращался домой и у самого дома, к своему невероятному изумлению, столкнулся с обладательницей Нобелевской премии Мари Кюри, бежавшей по бульвару ему навстречу. Ожидая его, Мари несколько часов просидела возле его дома и теперь наконец смогла рассказать, что на нее прямо посреди улицы набросились мадам Ланжевен и ее сестра мадам Буржуа, осыпав грубейшими оскорблениями, и что эта разъяренная женщина угрожала ей и кричала, чтобы Мари «уезжала из Франции к себе домой».
Мари выглядела, как «затравленное животное». Она была в полной растерянности, совершенно не понимая, что ей делать.
На следующий день профессор Перен нанес мадам Ланжевен визит с целью все уладить. Та потребовала, чтобы Мари в течение восьми дней покинула страну, в противном случае ее убьют.
Это было некрасиво. И будет еще хуже. Поездка в Ном потеряла всякий смысл.
Что мне делать, спросила она у Бланш.
Но Бланш ничего не могла ей посоветовать, она ведь жила в другом мире, хоть и куда в более неприглядном, но неприглядном совсем в другом отношении.
Уезжай, сказала она. Вон из Парижа. Тебе опасно здесь оставаться. Куда же мне уезжать, спросила Мари.
Только не в Ном, ответила Бланш.
8
Выбор пал на Ларкуэ.
Ей впервые предстояло бежать от любви. Раньше ее бегство было наступлением. Теперь же это побег.
Маленький рыбацкий поселок Ларкуэ располагался на побережье Бретани и состоял из горстки домов, зажатых между скалистым обрывом и морем, камни здесь были рыжими, и тут можно было гулять вдоль берега и смотреть на море. Женщина, пребывавшая в отчаянии и видевшая, что ее любимый колеблется, могла лишь гулять по берегу в шторм или в одиночестве сидеть на молу на следующий день, когда набегала мертвая зыбь, а дождь усиливался. Мари сознавала, что должна принять решение и что ей нельзя колебаться. С кем же ей было разговаривать?
Бланш осталась лежать в своем ящике дома, в Париже.
Позднее Мари, по ее собственным словам, вспоминала время в Ларкуэ как время, проведенное в ледяной могиле, но она не была мертва и покрыта коркой льда, она понимала, что поставлено на карту, но не находила решения.
Именно тогда, в августе 1910 года, она пишет Полю письмо, которое приведет ее жизнь к катастрофе.
Мари, Мари, зачем же ты его написала!
О, как легко задаваться вопросами: зачем она это написала! к чему такая откровенность, такая деловитость, к чему такая вежливая жестокость, такой цинизм, зачем эта невероятная решимость сохранить любовника, — Мари, зачем ты написала это письмо! — как будто она не знала, что Поль слаб. Как будто его можно было сделать мужественным и сильным, способным выдерживать бури, тем более такие, какие могут разбушеваться вокруг той Мари, что является всемирно известной — первой! — женщиной-лауреатом Нобелевской премии и окружена огромным восхищением и ненавистью, а вовсе не вокруг той, что в перепачканной одежде, отчаянно рыдая, бежит ночью по бульвару навстречу другу по фамилии Перен и говорит, что все ужасно, что она умрет и что скандал неизбежен. Что эта всемирно известная женщина должна лишиться своего доброго имени и что все мгновенно — за секунду! — изменится, уважение превратится в презрение.
Падать, вероятно, тяжело, но падать с такой высоты! так низко! а дети! а позор!
И вот она пишет письмо Полю, где говорится, что ничего еще не потеряно.
Но этот невыносимо деловой тон! Прямо-таки менторский тон! Твоя жена не в силах сохранять спокойствие и предоставить тебе свободу; она всегда будет стараться держать тебя под контролем по любым мыслимым причинам: из соображений материальной выгоды, от неугомонности и, вполне возможно, просто из лени; не забудь также, что вы не сходитесь во всем, что касается обучения детей и домашнего хозяйства, — разногласия такого рода мучают тебя с самой женитьбы, мне же эти темы совершенно чужды.
Она напоминает ему о его бедах — со знанием дела! — этот невероятно деловой тон просто невыносим, но нет ли тут и чего-то иного?
Инстинкт, приведший нас друг к другу, был, должно быть, невероятно сильным, поскольку он помог нам преодолеть столько недопонимания в наших представлениях об альтернативном способе устройства нашей личной жизни. Чего только не может возникнуть из этого чувства, столь инстинктивного и спонтанного и притом так хорошо согласующегося с нашими интеллектуальными потребностями. Я полагаю, что мы могли бы почерпнуть из этого единения все: плодотворное сотрудничество, надежность и нежность, жизненные силы и даже замечательных детей любви в самом прекрасном смысле этого слова.
Пока что обычное любовное письмо. Но оно имеет продолжение.
И это уже не холодная рыба, не ученый-аналитик, не пламенная революционерка, не суфражистка, не нежная, обходительная жена, не защищенное статусом официальное лицо и не вызывающая всеобщее восхищение обладательница Нобелевской премии, служащая примером женщинам всего мира: это Мари — зверь посреди враждебных джунглей и человек, ведущий беспощадную борьбу за жизнь. Нет никаких сомнений в том, что твоя жена не согласится просто взять и расстаться с тобой, поскольку она ничего на этом не выиграет; целью ее жизни всегда было использовать тебя, и в таком решении она усмотрит лишь одни минусы. Еще хуже то, что как раз в ее характере — остаться, если только она заподозрит, что ты больше всего хочешь, чтобы она тебя покинула.
Поэтому, как бы трудно это тебе ни далось, необходимо, чтобы ты принял решение предпринимать все, что в твоих силах, чтобы методично и целенаправленно делать ее жизнь невыносимой.
Если она скажет, что согласна расстаться, если дети останутся с ней, ты должен без колебаний согласиться на это предложение, чтобы положить конец шантажу, к которому она, в противном случае, попытается прибегнуть. На первое время достаточно, если Жан будет продолжать учиться в школе-интернате, а ты будешь жить в EPCI в Париже и встречаться с остальными детьми в Фонтене или договоришься, чтобы их привозили к Перенам; перемена окажется не настолько кардинальной, как ты думаешь, и так наверняка будет лучше для всех сторон. При наших встречах мы сможем, пока все не успокоится, по-прежнему прибегать к тем же мерам предосторожности, что и сейчас, и так далее, и так далее.
Она хочет спасти его и завладеть им, оказавшись во власти смертельной болезни — любви, которая далеко не всегда красива. Ты должен предпринимать все, что в твоих силах, чтобы методично и целенаправленно делать ее жизнь невыносимой.
Это некрасиво. Но ее впервые в жизни поразила любовь, сметающая все на своем пути: и все время кошмарная мысль о том, что другая, ненавистная, обманом вернет его в супружескую постель, к эротике и, возможно, постарается забеременеть.
И тем самым навсегда отстранить Мари.
Первое, что ты должен сделать, это занять отдельную комнату. Я переживаю, что мне никак не подготовить тебя к тому, что может произойти. Я боюсь рыданий, которым тебе всегда бывает так трудно противостоять, уловок, способных заставить тебя зачать с ней ребенка, ты должен относиться ко всему этому с недоверием, я прошу тебя, не заставляй меня долго ждать того, чтобы ваши постели оказались в разных комнатах. Только тогда я смогу с меньшим страхом следить за вашими шагами к расставанию. Никогда не спускайся из спальни на втором этаже, работай допоздна и, если тебе понадобится предлог, говори, что тебе необходим отдых, поскольку ты работаешь до позднего вечера и должен рано вставать, что тебе мешают ее требования спать в одной постели и что тыне можешь как следует отдохнуть.
Да, это невыносимо. Мари, Мари, это невыносимо!
Ее терзают мысли, пронзающие тело словно меч, разнообразные картины и образы хороводом проносятся у нее в голове, это причиняет боль! боль! боль! и если ты вдруг, просто от изнеможения, уступил ей во время отпуска, отказывайся от любых продолжений и, если она начнет упорствовать, оставайся ночевать в Париже с Жаном, да, возможно, это и некрасиво, но отчаяние редко бывает красивым.
И ей это известно. И она заканчивает, в тихом отчаянии. Но пока я знаю, что ты с ней, мне приходится переживать кошмарные ночи, я не могу спать, с огромным трудом я заставляю себя подремать часа два-три; я просыпаюсь, точно в лихорадке, и не могу работать. Сделай, что в твоих силах, чтобы положить этому конец.
Мари написала очень длинное письмо — некрасивый, но захватывающий портрет любви, рисующий любовь именно такой, какой она порой и бывает. Письмо, в сущности, довольно хорошее. Но, в любом случае, не предназначенное для публикации в «Л’эвр» 23 ноября 1911 года, письмо, которое вызвало кульминацию шума вокруг Мари, бурю, направленную против «иностранки, разрушившей французскую семью, нового дела Дрейфуса, хоть и в новом обличье. Оно теперь, правда, уже больше не раскалывает Францию, но показывает, что Франция находится в руках толпы грязных иностранцев, разоряющих, разлагающих и бесчестящих нашу страну. Именно Израиль мобилизует всех своих левитов, наемных убийц и живодеров».
Мари, Мари, чем же все это кончится.
Часто вспоминаются Паскаль Пинон и его Мария.
В цирке монстров он повстречал женщину по имени Анн, и они полюбили друг друга. Мария — женская голова, которую он носил, как рудокоп свою лампочку, от отчаяния и ярости злобно запела.
С ее губ не слетало ни звука, ведь у нее не было голосовых связок. Но она злобно пела душераздирающую, злую песню, неслышную никому, кроме Паскаля, и проникавшую в него. Под конец он лишился рассудка и пытался покончить с собой. Его обнаружили в каньоне к югу от Санта-Барбары, изувеченным, лежащим посреди высохшего ручья. Он был без сознания. Глаза Марии были распахнуты, словно от ужаса или от облегчения. Злобных песен она больше не пела. Четыре человека отнесли Паскаля и Марию обратно.
Я часто думаю об этом «злобном пении». Каким оно могло быть. Какой-то некрасивый, душераздирающий напев и пронзительное отчаяние — вот что, вероятно, ощущала беспомощная Мария, приделанная к голове Паскаля, словно бессловесная шахтерская лампочка, не способная абсолютно ничего предпринять, кроме как злобно запеть.
Такова, наверное, и есть злобная песнь ревности.
9
Поль получил письмо, прочел и послал корректный, любезный и несколько прохладный ответ. Он прочел ее письмо, даже два раза, пишет он, но не имеет времени отвечать подробно. Насколько он еще в силах оценивать ситуацию, он тоже полагает, что «расстаться с женой было бы лучшим выходом», но желательно без бурных сцен.
Он, вероятно, побаивался.
Несколькими месяцами раньше Мари предложили выдвинуть ее кандидатуру в Академию наук.
Это было неслыханное, глубоко шокирующее предложение, но ведь во Франции было только трое здравствующих лауреатов Нобелевской премии, одним из которых являлась Мари, и она согласилась. При голосовании ее кандидатура не прошла, прилив повернул в обратную сторону, поднялась волна ненависти, и «сообщив прессе о выдвижении своей кандидатуры, она обнажила неподобающее ее полу отсутствие чувства меры. Общественность восприняла такого кандидата враждебно».
Против Мари Кюри стала нарастать глухая ярость.
Хотя всего о ее тайнах пока еще не знали. Не знали о написанном Полю ужасном, откровенном письме — злобной песне любви.
Но скоро узнают. Уже следующей осенью.
Годом позже, в переломный момент, когда Бланш записывает в «Книге» вопрос: Когда я узнала о дилемме Мари? Мари ворвалась к ней в комнату, бросилась на колени возле ее передвижного деревянного ящика, с мертвенно-бледным лицом и растрепанными волосами, не рыдая, но всем своим видом выражая крайнюю степень отчаяния и изнеможения, и стала рассказывать.
В их с Полем гнездышко вломились. Кто-то вскрыл дверь, обыскал квартиру и выкрал письма Мари к Полю.
Среди них было и длинное письмо, написанное ею из Ларкуэ в августе 1910 года. Теперь Жанна знала, что владеет оружием — письмом, равносильным убийству личности в глазах консервативной французской общественности или самоубийству Мари. Уже на следующий день мадам Ланжевен сообщила через своего адвоката, что «обладает неопровержимыми доказательствами» постыдного поведения Мари и, не колеблясь, использует их в суде и предаст огласке, если Мари немедленно не покинет страну, а будет продолжать навязывать ее семье свое позорное присутствие.
Приблизительно так. Мари была слишком взволнована, чтобы фиксировать угрозы. Она знала лишь, что Жанна завладела бомбой, то есть письмом, способным навсегда погубить ее, Мари, репутацию, и что она, не колеблясь, им воспользуется.
Она пела по-настоящему злобно. И всю эту ночь Мари тихо и спокойно просидела возле Бланш, раскачиваясь взад и вперед, точно покинутый ребенок, и непрерывно шепча, что теперь потеряла его.
Что можно было сказать ей в утешение?
Ближе к утру Мари легла на пол и уснула. Она напоминала загнанного зверя, теперь уже настигнутого. Она спросила Бланш, что бы та сделала на ее месте, но Бланш не ответила.
Ей подумалось, что Мари внезапно превратилась в ребенка, который очень сильно ушибся, но был уже больше не в силах плакать и хотел просто полежать на коленях у матери, но под конец прошептал: расскажи. Что рассказать? Расскажи о любви так, чтобы я поняла. Расскажи, какой она была и какой должна быть. Этого не понять, прошептала ей на ухо Бланш, понять любовь невозможно.
От любви могут исходить свет или тьма. Любящие могут делиться друг с другом своим светом или своей темнотой; отсюда — жизнь или смерть. Понять этого нельзя.
Расскажи о Сальпетриер, попросила Мари той ночью, расскажи, чтобы я смогла пережить и эту ночь, а может быть, и все остальные ночи, во веки веков, возможно, на пути в Ном, да, на пути в Ном.
Amor omnia vincit, могла бы начать Бланш, но так и не начала.
Назад: IV Песнь о сыне каретника
Дальше: VI Песнь о бабочке

