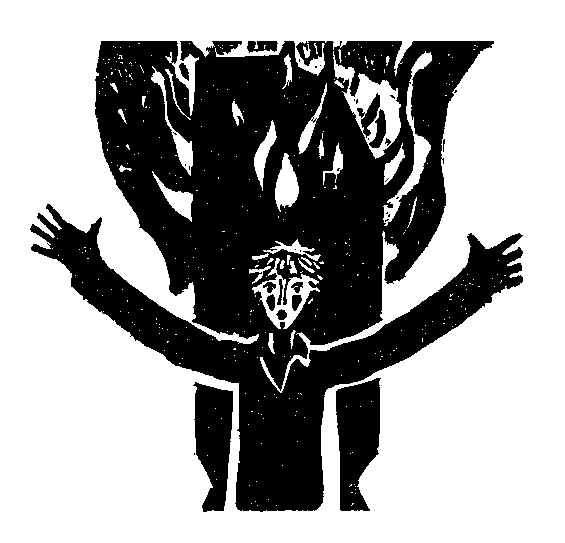
Глава XVI
Страх
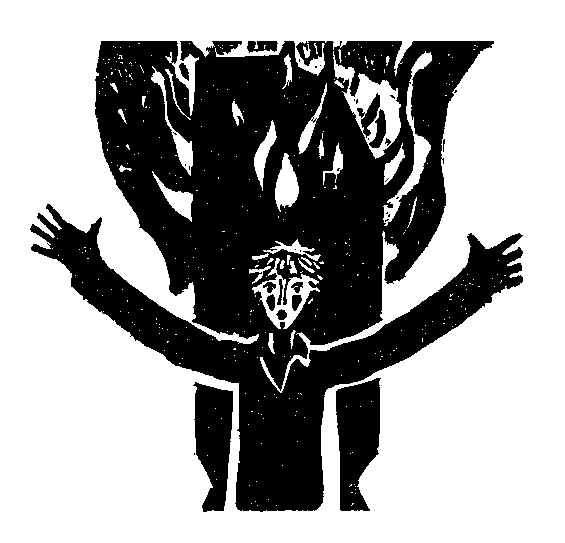
С одной стороны, о гимназии имени Теодора Шторма в Глюзерупе все отзывались с почтением, с другой стороны, дорога в школу отнимала у меня втрое больше времени. С одной стороны, мне уже не приходилось удирать от какого-нибудь Йоста или Хайни Бунье, с другой стороны, столько задавали на дом, что вторая половина дня была вконец испорчена. С одной стороны, учителя там не смели и пальцем нас тронуть, с другой стороны, хотя учитель Плённис, не скупясь, раздавал весьма чувствительные затрещины, мне его недоставало. С одной стороны, я соглашался с матерью, твердившей мне, что учение — свет и что средняя школа послужит мне хорошим «трамплином для вступления в жизнь», с другой стороны, я спрашивал себя, зачем мне зубрить греческие вокабулы, если я не собираюсь ехать в Грецию. С одной стороны, я понимал, что не каждому в средней школе могут предоставить стипендию, с Другой стороны, мне было непонятно упорство, с каким отец всем рассказывал о моем поступлении в гимназию.
Но то, что мое отношение к гимназии имени Шторма было и осталось двойственным, мне ничем не помогло: мои родители заставили меня принять стипендию, подарили мне новенький школьный портфель, достали мне почти новый велосипед, пытались пробудить во мне большее рвение, почему-то остававшееся во мне сокрытым, засовывали два лишних бутерброда на завтрак, осматривали рубашку, носки и ногти перед тем, как мне выходить из дому, а когда я, пригнувшись к рулю, нажимал на педали, махали мне вслед, иной раз Даже мать. По дамбе туда: слева — Северное море, справа — равнина; по дамбе обратно: справа — Северное море, слева — равнина, следуя тем давно знакомым путем, который так часто проделывал отец и по которому он и теперь иногда ездил со мной: «Цепляйся, я тебя повезу, держись только в кильватере». И я соглашался на все, чего они от меня хотели, и получал за это мзду в виде сластей, бутербродов, лишних карманных денег и — что для меня было всего ценней — свободного времени в моей комнате. Возможно, отец вычитал из «Полицейского справочника», что среднее образование дает право претендовать на более высокую должность в полиции, и все его поблажки объяснялись этим. И ради того, чтобы из меня получился начальник городской полиции или на худой конец начальник участка, Хильке не разрешалось после обеда ни петь, ни слушать радио, за что она на меня сердилась, да это и понятно.
Если даже путь этот был мне давно знаком, если я с закрытыми глазами мог бы найти там любую ответвляющуюся дорогу и тропинку, поездки из школы и в школу никогда не надоедали мне, хотя при встречном ветре они бывали тяжелы и утомительны. Все было на месте, и все каждый день выглядело иначе, в изменившемся освещении, под изменившимся небом, а сколько сюрпризов готовило мне Северное море: когда я ехал в школу, еще распластанное, почти сонное, оно лизало прибрежный песок, а при моем возвращении, бушуя и вздымаясь, швыряло о буны зелено-синие чернила волн. А крестьянские усадьбы: то убогие и словно обреченные под длинными полотнищами дождя, затерянные в серой мгле, то, когда на них ложился молочный туман или когда луга впереди или сзади вспыхивали на солнце, крепкие и самонадеянные, с вьющимся из труб полуденным дымком. Или ветер: то посвистывает в спицах, смерть как доволен и готов хохотать до упаду, когда тебя заносит, то в бешенстве кидает тебе в лицо накидку или треплет ее и рвет, а то еще норовит спихнуть тебя с дамбы. Как быстро все здесь меняется, ежедневно, ежечасно, наводя на размышления об этих переменах, а иной раз заставляя и сердиться на эти перемены, если, конечно, охота.
Я на пути к дому. Осень. Около двух часов дня. Морские птицы, опустевший пляж. Ветер дует с северо-запада почти мне в спину, раздувает пальто, и оно бьется, как мокрый парус; следы на прибрежном песке, кто бы это мог пройти? Ветер был сырой. Пахло солью и йодом. Затиснутый в багажник портфель был весь в водяной пыли и блестел. На горизонте — флажок дыма, а корабля не видать. Песочники, их крик: вит-вит. Скотина на лугу опять в попонах от ночного холода, от пронизывающего дождя. И опять какой-то человек роет дренаж. Впереди замаячили контуры «Горизонта», с которого осыпается краска, с тех пор как Хиннерк Тимсен, наэлектризованный перспективами нового дела — оптовая торговля топливом (он из какой-то статистики вычитал, что зимы становятся все холодней), — продал гостиницу государству, превратившему ее с небольшими затратами в приют для слабоумных детей. Флагшток покривился, но никто его не поправляет. И куда девался вымпел с двумя скрещенными ключами? Четверо, нет, пятеро сестер столпились на видовой площадке на самом ветру и говорили, убеждали в чем-то моего отца, который стоял, опустив голову, и что-то на свой лад принимал к сведению. Там же были птичий смотритель Кольшмидт и инспектор плотин Бультйоганн, он теперь носил на отвороте пальто и пиджака маленький бронзовый спортивный значок. Я приподнялся с седла, налег на педали и все-таки не поспел: прежде чем я достиг площадки, сестры и мужчины спустились по узенькой лестнице в сторону моря, разделились, образовав цепь, и пошли, объясняясь знаками, в сторону полуострова. Редкая сеть: в таком порядке цепочка продвигалась наискосок к полуострову, затем одно крыло ее загнулось назад, и, все время держа дистанцию, цепь поползла вперед через впадины, через холмы, вдоль берега и по дюнам к оконечности полуострова, где два противоположных течения сталкивались, бешено закручивая воду и все легкое, что по ней плавало.
Они искали что-то. И вот-вот что-то выловят, ну кто же тут не захотел бы участвовать! Скорей за ними! Я оставил велосипед на площадке и побежал сначала за всей бредущей цепочкой, потом по следу одного только птичьего смотрителя, и на холмах, где ветер трепал недавние посадки волоснеца, я нагнал его, вместо приветствия улыбнулся и стал подстраиваться к его шагу. Мне не хотелось спрашивать, что они ищут, да мне и не потребовалось, потому что немного погодя Кольшмидт сам вслух сказал, чего боится, и тут я узнал причину их поисков.
Ушло двое детей, по-видимому, еще на рассвете, до завтрака, мальчик и девочка. Сначала сестры искали их только в доме, и слишком долго, по мнению Кольшмидта. Когда дети исчезли, был отлив и надо было также искать на отмели. Он боялся, что они убежали на отмель, и он, птичий смотритель, ждал самого худшего. То и дело он останавливался и с холма смотрел на пляж, всматривался в прибой и в морскую даль, видимо, он предполагал, что дети скорее там, чем на полуострове. Нас задержали жидкие заросли лозняка, мы прочесали кусты: ни следа, ни признака. Одна из сестер, высокая, костлявая, в грубошерстном дождевике, подозвала отца и показала ему что-то в песке, отец ковырнул носком башмака, нет, это не могли быть следы; они расстались, пошли дальше. Мы поднялись на дюны, и тут не было следов, и возле кабины художника тоже, мы, не входя, обошли ее вокруг. Я зарыл торчавший из песка обугленный клочок бумаги. Ну, а как наша блуждающая цепь? Лишь вначале все видели друг друга; чем дальше мы искали, все больше при этом углубляясь в гряды дюн, тем труднее было угадать, кого увидишь, выбравшись из дюнной долины; иногда пропадало левое крыло, иногда правое, потом вдруг исчезали ищущие посередке или отдельные звенья цепи, а бывало и так, что я мог разглядеть лишь обе крайние точки крыльев — инспектора плотин Бультйоганна и старшую сестру.
Но почему отец вдруг отклонился в сторону? Почему он отстал? Кольшмидт заметил это и послал меня занять его место, я отыскал следы отца и продолжил их, пополнив бредущую цепь, но ненадолго. Вдруг старшая сестра остановилась, знаки, восклицания, опять знаки, она всем махала, все повернули на девяносто градусов и поспешили к ней. Старшая сестра все стояла и показывала протянутой рукой на идущие бок о бок следы, которые выходили из Северного моря и шли дальше, к оконечности полуострова, пока мы все не собрались вокруг и пока каждый не признал, что отпечатки на песке детские; легкие отпечатки, очень близко расположенные друг к другу, возможно, дети держались за руки, когда прошли по отмели и поднялись сюда.
— Это они, — заключила старшая сестра, и, так как она, не проронив больше ни слова, пошла по следам, мы тронулись за ней. Разбиваясь о почти затонувший баркас, Северное море подбрасывало фонтаны такой высоты и такой силы, что нас всех обдало брызгами. Волнистые линии в песке, словно бы продолжавшие волны Северного моря, Пересекали поперек всю оконечность полуострова до самой будки птичьего смотрителя, до шестов и сетей. Все прибавили шагу. Никого в будке, никого под скамьей и столом, и на берегу никого, хотя следы вели туда, зато там, в сетях…
В крыльчатой сети, кончавшейся мотней — мотня была слабо натянута и бечевки закреплены к колышкам, — на земле, среди мечущихся птиц, обманутые, как и они, четким теневым рисунком сети, сидели пропавшие дети; увидев нас, они не испугались и не обрадовались, только посмотрели коротко и равнодушно. Они сидели спиной к спине на песочке в глубине мотни, девочка душила засаленную тряпичную куклу, а мальчик пытался оживить своим дыханием мертвую птицу. У девочки было старообразное, тупое лицо, коротенькие, торчащие в стороны крысиные косички, она была в клетчатом платье. Мальчик был босой, тяжелая голова, казалось, оттягивала его к земле, затылок сильно выдавался. Когда, пытаясь оживить птицу, он прижимал ее к толстым губам, голова его болталась из стороны в сторону, и я слышал, как он издавал какие-то хрюкающие звуки, выражавшие не то нетерпение, не то удовольствие. Девочка, расставив загорелые ножки, тыкала тряпичную куклу лицом в песок и крутила, стараясь ее удушить.
Птицы метались и били крыльями над головой девочки, проносились мимо самого ее лица, но она их не замечала, не пыталась отогнать. Мальчик, засунув мертвую птицу в вырез полотняной рубашки, засмеялся и стал раскачиваться всем туловищем, с губ его стекала слюна, он зацепил пальцами сеть и хотел приподняться, но не смог» Девочка запела резким, пронзительным голосом и повернула к нам лицо. Но тут старшая сестра наконец отыскала обращенный к морю вход в сеть, ощупью пробралась по крыльям, залезла в мотню, ухватила девочку и вынесла наружу; эта костлявая женщина с холодным взглядом все держала девочку на руках и прижимала к груди, в то время как девчурка колотила ее тряпичной куклой по голове, пока белый накрахмаленный чепец не слетел на землю и не посыпались шпильки. Даже после того, как старшая сестра ее поцеловала, девочка продолжала тупо колошматить ее куклой.
А мальчик? Две сестры, призвав на помощь Кольшмидта, с трудом вытащили его из мотни, он не сопротивлялся, но и не понимал, что от него хотят; опустив голову, будто собираясь боднуть, обмякший, ничего не соображающий, невозмутимый в своей отъединенности, дал он себя извлечь и, тяжело дыша, стоял окруженный нами.
— Все хорошо, Йохен, — сказала одна из сестер, — сейчас пойдем домой, и ты выпьешь горячего какао, но сначала дай сюда птицу. — Мальчик привычным жестом обтер руки о штаны. — Дай сюда птицу, — мягко повторила сестра и засунула руку мальчику за пазуху, опустила ее глубже, мальчик хрюкнул, рука сестры, шаря, скользнула по животу, задержалась и вытащила за хвостовые перья мертвую птицу. Мальчик хотел схватить птицу, но промахнулся. — Вот так, а теперь пойдем, как паиньки, домой, выпьете что-нибудь горячее, и спать. — Мальчик сложил руку горстью и приложил к уху, услышал то, что было доступно лишь ему одному, не стал артачиться, пошел своей охотой, только время от времени останавливался и сосредоточенно прислушивался к чему-то.
Итак, обратно к «Горизонту». Сестры, дети, экономка и даже обе кухарки вышли на площадку нас встречать; восклицания, объятия, исполненные облегчения порывистые поцелуи. Нашлись! Наконец-то! Я заглянул в открытую дверь, отца там не было, и вдруг увидел девочку, которая каждое утро неуклюже махала мне, когда я проезжал мимо, а иногда днем, сидя на подоконнике в синем халатике, тоже махала мне. Я даже придумал для нее имя: я называл ее Нина. Она переступила порог и, неуверенно двигаясь, вышла на площадку.
Я подал ей знак, она не поняла. Я кивнул ей, она это заметила, но не отвечала на приветствие. Стараясь по возможности не привлекать внимания, я пододвинулся к ней ближе, улыбнулся, закивал и, чтобы напомнить, кто я, подражая ей, неуклюже помахал, она не видела или увидела, но не вспомнила, а когда я протиснулся К ней на такое расстояние, что мог бы дотронуться до нее рукой, она вдруг завизжала от страха и обхватила сестру, ища у нее защиты. Мне не оставалось ничего другого, как молча убраться, я протолкался сквозь оживленную группку детей и взрослых, провожаемый удивленным взглядом сестры, которая рассеянно гладила девочку и утешала ее. А вот и мой велосипед, я повел его на дамбу, встал на педаль, оттолкнулся, как отталкивался отец, вскочил в седло и, всем весом нажимая на педали, покатил в сторону Ругбюля.
— Придешь ты когда-нибудь или нет? — крикнула Хильке с крыльца. — Сколько мне еще греть для тебя рис? — Значит, рис с сахаром и корицей, а может, даже и с фруктовым супом. Я сказал:
— Нечего себя нарочно взвинчивать, — а она уже потише и примирительно:
— Я два раза его разогревала, Зигги. Где ты пропадаешь? — Указание обращаться со мной если не почтительно, то, во всяком случае, предупредительно побудило ее отобрать у меня портфель, подмигнуть и слегка провести рукой по моему затылку. Она собиралась взять меня за руку, но я счел это неуместным и затрусил вслед за ней на кухню.
— Отец дома?
— Нет, его нет, отца вызвали в «Горизонт», там опять что-то стряслось — двое будто бы сбежали, утонули, может.
— Дай мне лучше поесть, вместо того чтобы толковать о том, чего не знаешь. — Значит, все-таки рис с фруктовым супом. Тарелка опустилась передо мной и была небрежно отодвинута. Хильке обиделась. — Просто двое ребят заблудились, я как раз оттуда и сам помогал искать, представляешь, они забрались в сети птичьего смотрителя.
— Так вот почему, а мы боялись, не случилось ли что с тобой.
— А как сегодня в школе?
— Да ничего. — Это спросила вовсе не Хильке, последний вопрос задала мать, которая незаметно вошла с распущенными волосами и переброшенным через плечо полотенцем, она собиралась мыть голову. Мне незачем было оборачиваться, чтобы узнать, как она выглядит и что делает, я и так знал, что на ней салатного цвета комбинация, на ногах стоптанные, в засохших брызгах пены кожаные шлепанцы; вот она берет из шкафа шампунь, вот ополаскивает таз, вот спускает с мясистых плеч, усеянных веснушками и родинками, бретельки. Наливает в таз теплую воду.
— Я не хочу, чтобы ты ходил в «Горизонт», Зигги. Ты меня понял?
— А я вовсе и не заходил-туда. — Вода, вероятно, была слишком горяча, она ее охлаждала, опустив в таз руки и взбивая волны.
— Достаточно и того, что этих детей сюда прислали, ты-то по крайней мере не ходи туда.
— Двое заблудились, я просто помогал искать. — Она встала, широко расставив ноги, пригнула голову, рассыпала волосы над тазом и заговорила сдавленным голосом:
— Там теперь вечно будет что-нибудь случаться, все и будём, значит, трястись. Ублюдки несчастные, от них только одно беспокойство. И чего их сюда принесло!
— А куда им деваться? — Ответа не последовало, она зачерпнула воды, сперва смочила волосы, затем, пыхтя от напряжения, опустила голову в таз.
— Если б они были просто больные, а то ведь ублюдки, они всем в тягость. Какое к ним вообще может быть чувство, если они ничего не соображают? Слышишь, Зигги! Я не хочу, чтоб ты туда ходил, на них смотрел, да еще играл с ними.
С волос стекала и капала вода, теперь она плеснула себе на затылок вязкий, медового цвета шампунь и начала его втирать, взбивая сперва жидкую, затем все более густевшую пену; пена, дрожа, лежала у нее на шее, хлопьями сползала на ухо, в лицо и, судя по ее шипению, попала в глаза, тут на помощь пришла Хильке. — От одного их вида, Зигги, повредишься, и думать не думаешь, а беда пришла. Впечатления — они, знаешь, могут так крепко засесть в голове, что и рассудок помрачится.
А я сидел, ел рис и слушал, еще немножко тихонько посидел, пока Хильке споласкивала и отжимала рыжеватые волосы матери и затем вытирала их полотенцем. Можно мне теперь идти готовить уроки? Да, можно.
— Но подумай о том, что я тебе говорила, Зигги.
— Подумаю.
— А что вам задали на сегодня?
— Сегодня? Задачки, потом по истории и сочинение.
— О чем?
— «На кого я хочу походить».
— Ну, это не так трудно.
— Да.
— Любопытно посмотреть, что ты напишешь. — Салатная комбинация туго обтягивала ее широкий зад. Кожа на шее покраснела. Она тяжело дышала в полотенце. В тазу колыхалась темная жижа, по которой еще плавали языки пены, но пена садилась на глазах, опадала и растворялась. Я был рад уйти из кухни и сесть за уроки.
Поскольку к истории я всегда был равнодушен, я начал с сочинения, и то, что случалось всегда, произошло и сейчас. Сперва тема показалась мне вполне преодолимой, благодарной и даже как бы нарочно созданной для меня; когда нам задавали сочинения вроде «Лучший день каникул», «Посещение краеведческого музея» или, как сегодня, «На кого я хочу походить», это никогда не представлялось мне чрезмерным требованием: каждая тема внушала мне вначале одинаковую уверенность. Но все эти доступные темы сразу оказывались непосильными, едва лишь — а этого от нас требовали — я начинал их расчленять. Ни одно сочинение без четкого плана. Вступление, развитие, главная часть, заключение: все должно было катиться по этому конвейеру, и кто его не придерживался, тот не справился с сочинением. Хоть мне почти всегда удавалось освоиться с темой, я всякий раз терпел неудачу, и все из-за своей нерешительности. Я никак не мог заставить себя определить, что является главной, а что второстепенной проблемой, у меня не хватало духу зачислить одних лиц в главные, а других — во второстепенные персонажи, Вежливость, или жалость, или недоверие мешали мне, но всего хуже было то, что я не в силах был давать заключение, а именно на этом наш учитель немецкого, доктор Треплин, был просто помешан. Он требовал, чтобы всему давалась оценка: хитростям Одиссея, характеру Валленштейна, грезам Бездельника и поведению горожан при пожаре города Магдебурга. О том, чему не давалась оценка, не стоило и говорить. Оценка! Еще сегодня мне сжимает горло, и я задыхаюсь, как об этом вспомню.
На этот раз тема была «На кого я хочу походить». Кто же послужит мне примером? Отец, ругбюльский полицейский? Художник Макс Людвиг Нансен? Может, доктор Бусбек, это воплощенное терпение? Или мой брат Клаас, чье имя нам запрещено было произносить не только вслух, но и мысленно? На кого же я хотел походить? Если не на отца, то почему нет? А если на художника, то почему именно на него? Я уже чувствовал, что все в этой теме исходит из оценок, сводится к оценкам, и, так как мне никогда не удавалось и не удается оценивать знакомых мне людей в том смысле, в каком этого желал Треплин, надо искать для себя образец в другом месте, в другое время, с этим легче будет справиться, — а что, если взять выдуманный образ, состряпанный из кусочков, а не существующий в жизни? Но каким же должен быть этот образ, чтобы я желал походить на него?
Я помню, что сначала придумал фамилию, а именно — Мартенс, выбрал имя, а именно — Хейнц, и этого Хейнца Мартенса сделал одноруким, подарил ему длиннейший шарф, снабдил резиновыми сапогами и отправил на унылый остров Кааге, который по неизвестным причинам служил не только местом гнездования красным уткам-пеганкам, но после окончания войны и излюбленным районом целей для еще неопытных летчиков британских военно-воздушных сил.
Хейнц Мартенс получил лопату с короткой рукояткой, ею он мог вырыть себе убежище, получил продукты и несколько рубашек на смену, снабдил я его также жевательным табаком и сигнальным пистолетом, которым он должен был предостерегать как высиживающих яйца уток, так и пилотов. Первые бомбардировки он претерпел никем не замеченный, но потом стало известно, что на Кааге кто-то сидит, чтобы сохранить пеганкам их гнездовье, об этом заговорили, слух распространился в Гамбурге, Лондоне и, главное, среди членов английского общества защиты животных, а отчасти и среди пилотов британских военно-воздушных сил, которых Хейнц Мартенс встречал красными ракетами, однако без особого успеха, ибо после каждого налета ему приходилось собирать бесчисленное количество более или менее пригодных на жаркое уток.
Едва заслышав певучее гудение моторов, Хейнц Мартенс выскакивал из убежища и прежде всего выпускал несколько ракет почти полого над заповедником, тотчас в небо панически поднимались тучи уток, но затем быстро перестраивались в круговой порядок, после чего он уже стрелял вертикально, навстречу летящим бомбардировщикам, до той самой минуты, когда начинали рваться первые бомбы. Хлопанье и свист крыльев. Певучее гудение моторов высоко летящих бомбардировщиков. Трепетный свет падающих ракет.
Красноватый отблеск отразился в моем окне, лег на мои руки, на тетрадь с сочинением, заплясал на стенах комнаты, вдруг послышались крики и шаги, внизу у нас в доме поднялась беготня, захлопали двери, и голос Хильке:
— Пожар, скорей, Зигги, пожар!
— Где?
— Да вон же! Спускайся.
Горел мой тайник! Горела моя постель. Моя выставка, моя коллекция замков и ключей горели. Горели картинки с всадниками и «Человек в алой мантии». На земляной насыпи над прудом горела старая беекрылая мельница, моя любимая мельницу. Что это, сирена пожарной машины? Я слышал, как она выла, но машины было не видать, она, вероятно, еще не выехала. Горел купол. Пламя выбивалось из верхних люков и разбитых окон, полыхая, взмывало кверху. А там, в мельничном пруду, мельница тоже горела, но потише. Сверху и снизу взлетали искры, сноп желтых и красных ракет, которые ветер, ветер пожарища, гнал над равниной к Хольмсенварфу. Горели князь Юсупов и Изабелла Бурбонская и объезжающий Мюльбергское поле сражения император Карл V. Горели две невидимые картины и принадлежащий Клаасу «Сборщик яблок». Языки пламени соединились над куполом, и их понесло в сторону. Завывание метели. На фоне белесосерого неба кружились хлопья сажи. А купол все держался и держался.
Я бежал и видел, что бегут многие: с усадеб, напрямик по лугу и вдоль дамбы, люди бежали на пожар, боясь не поспеть вовремя. Как они спешили! Как торопливо протискивались сквозь проволоку изгородей, прыгали через рвы, обгоняли друг друга, и только чтобы обеспечить себе хорошее место.
Прыгая через ступеньки, я спустился с лестницы. Хильке кричала, чтобы я вернулся. Мать кричала, чтоб я вернулся. Я побежал через двор, по кирпичной дорожке, мимо шлюза; во рву, вдоль которого я мчался, на воде лежал отсвет пламени. Срезав угол, я побежал через окаймляющие пруд камыши и как раз выскочил на дорогу, когда рухнул купол. Горящий купол рухнул в башню, раскололся на мукомольной платформе и подбросил кверху целый вихрь искр; теперь пламя полыхало, как из широкой трубы, тяга открыла огню полный простор. Я остановился и смотрел, как распространяется огонь, как пламя лизнет что-то, разделится, подскочит, прислушивался к жесткому треску, совсем как полощет на ветру парус. Горящий ком вылетел из открытой двери и с шипением упал у моих ног на траву, я не стал его затаптывать. Я стоял под дождем кружащегося пепла. Я смотрел на огонь. Двое мужчин пытались бревном вышибить дверь, но ничего не получилось: дверь под их ударами только приподнялась из петель и повисла наклонно. Пожар не тушили, хотя все кричали, что надо тушить. Вот пламя выбилось из нижних окон и побежало вверх по внешней стене башни.
Когда же я последний раз смотрел на пожар? Вероятно, в начале войны, когда у Хольмсена горел хлев и мужчины во дворе только заботились о том, чтобы не дать спасенной скотине броситься обратно в огонь. Я не заметил, как кольцо зевак отступило от жара.
Я вдруг оказался один, закрыл глаза, ощутил только пульсирующую все быстрее боль, что-то напирало, подталкивало, вонзалось в меня острием, обдавая холодом и жаром, но я не хотел, нет еще, я сопротивлялся давлению, которое возрастало; все зашаталось, горящая мельница, тени глазеющих, я увидел, как моя каморка стала вращаться, кружиться вместе с постелью, ящики с замками, стены с картинками, все это кружилось вокруг меня, картинки слились в один нескончаемый ряд, я протянул вперед руки и бросился к входу, к стене пламени, к колышущейся завесе. Под снятую с петель дверь, вверх по огромным стертым ступеням: там горели мучные лари, и стремянка, и грубо обтесанные балки перекрытия.
Слишком много света, просто там слишком много света, чтобы что-то разглядеть, мне пришлось локтем защитить лицо, я задыхался, и я подумал о тале, но тут они меня схватили и поволокли вниз по лестнице на воздух, двое мужчин, даже не знаю кто. Как я ни рвался, ни выворачивался, даже падал, они держали меня крепко. Один сказал: «Смотри, чтоб не вырвался, а то опять туда полезет», после чего оба так меня стиснули, что я поднялся на цыпочки и разинул рот. Через кольцо неохотно расступившихся зевак они потащили меня вниз по дороге к пруду, там они меня отпустили, я упал на землю и, как они велели, ополоснул лицо, шею и плечи водой.
Когда я поднял голову, они рассмеялись, и один сказал: «Здорово опалился малец», потом повернулись ко мне спиной и стали глядеть на пожар.
И я тоже глядел на пожар или на его разбегающееся отражение в воде, но недолго; когда подъехали пожарные из Глюзерупа, развернули шланг, подтащили к пруду помпу, я поднялся и ушел, не оглядываясь, оставив им мельницу и пожар, оттеснивший от равнины наступающие сумерки. Но и тогда, когда я проходил мимо пруда и по лугу, мимо неподвижно стоящих коров, меня все еще продолжало колоть, боль поднималась по позвоночнику, ударяла в виски, проникала внутрь холодом и жаром. Раз я остановился, я различил голос отца, значит, он на месте, он выкрикнул какое-то приказание, и все. Колья ограды, коровы и я — все отбрасывало колеблющиеся тени, я шел в сторону Блеекенварфа, словно это само собой разумелось, словно меня там ждали. Ветер усилился, Возгласы позади, там, на пожаре, что-то, видно, случилось, я не оглянулся. Надо мной, довольно низко, прижатый к земле ветром, стлался дымовой столб и наконец повис на живой изгороди Блеекенварфа, вероятно пожарные принялись тушить. Дорога поднималась, а вот и бревенчатый мостик.
Я остановился, но художник давно меня приметил, он стоял неподвижно на конце бревенчатого мостика, остывшая трубка свисала на подбородок, руки он сунул глубоко в карманы плаща, слегка бившегося о его ноги. Он стоял так неподвижно, что почти сливался с живой изгородью.
— Поди сюда, — сказал он, — не бойся ничего.
Я подошел, он положил мне руку на плечо, и мы стали смотреть на горящую мельницу. Не качается ли башня? Я подумал о Закадычном друге мельницы, о старике с коричневыми пальцами, подсвеченными красным, исполински выраставшем из картины: разве не в подобных же сумерках пытался он, прищелкивая пальцами, возвратить одряхлевшую мельницу к жизни? Одна сторона башни обломилась и осела, проливаясь огненным дождем. Много ли помогла ему его сердечность, его простодушная уверенность?
— Да стой же спокойно, Вит-Вит, — уговаривал меня художник, — что тебе не стоится? Или тебе нужно что-то мне рассказать? Стой спокойно, мой мальчик!
Он способен был стоять неподвижно, наблюдая, как горит бескрылая мельница, которая и ему была далеко не безразлична. У него доставало выдержки стоять здесь, на бревенчатом мостике, возможно, он ходил смотреть на пожар вблизи и лишь потом сюда вернулся — не знаю, но вполне могу это допустить.
Над нами тянулся длинный столб дыма, словно от чадящего парохода. Художник стоял, прищурюсь, взгляд его был тверд, ноги крепко упирались в тяжелые брусья. Но вот дрогнула вся башня; надломившись на середине своей высоты, она накренилась и, рухнув на дорогу, развалилась на части, извергая вращающиеся ядра и подскакивающие огненные комки, горящие обломки скатывались со склона, одни погружались в мельничный пруд и с шипением гасли, другие от каждого толчка рассыпались фонтаном искр. Дымовой столб теперь изменил свой цвет на серо-желтый, а свой запах — на едко-удушливый, ветер нес нам в лицо дым, и художник немного спустя сказал:
«— А теперь все кончено, Вит-Вит, пошли ко мне, и через живую изгородь садом потащил меня к себе в мастерскую.
Он зажег свет, надел очки и приподнял мне лицо за подбородок.
— Уж не побывал ли ты в огне? Твои брови, твое лицо опалены, словно ты и вправду воевал с огнем. Да тебя, кажется, лихорадит? — Я пожал плечами, а он все так же озабоченно, склонясь ко мне: — Приляг, Зигги, на минутку, я принесу тебе попить, стакан пахты тебе, во всяком случае, не повредит. — Все так же заботливо он подвел меня к одной из пятидесяти пяти коек, которые, как я долго думал, были у него припасены на ночь для всех действующих лиц его картин: для словенцев, для танцующих пляжников и желтых пророков, для согнувшихся на ветру крестьян в поле и для лукавых зеленых торговцев. Как-то в веселую минуту художник подтвердил мою догадку, заявив, что здесь и правда ночует фосфоресцирующий народец, представленный в его картинах, а уж тут боже сохрани сделать удивленную мину: раз он что сказал, значит, так тому и быть.
И вот с одной из коек было сорвано покрывало, обнажившее застиранный брезент, а под брезентом — соломенную подстилку. Я сел на приготовленное мне ложе, Мако Людвиг Нансен бережно поднял и уложил мои ноги, укрыл меня и нарочито строго на меня поглядел.
— А теперь ложись безо всяких, нравится это тебе или нет. Спокойно лежать и не двигаться до моего возвращения. Слышишь? Я мигом обернусь.
— А как же свет? Свет ты мне оставишь? — Он кивнул.
— Свет будет гореть, чтобы ты без меня не сбежал.
Он взбил мне подушку в полотняной наволочке, и я снова улегся, чувствуя себя под защитой его заботы и ласковых слов. Уходил он с весьма серьезным видом, и я прислушался к его шагам, нерешительно направлявшимся к порогу; резкий порыв ветра ворвался в дверь и произвел переполох среди беспорядочно накиданных листочков на письменном столе, несколько листков спорхнули на пол. Я не видел художника, но почувствовал, как он замедлил шаг у окна и еще раз на меня поглядел, до того как направился к дому. Затем…
Мне надо как следует подумать, восстановить то, что произошло затем, потому что это произошло со мной впервые, я ведь собирался спокойно ждать и лежал дрожа под одеялом, до этой минуты мне удавалось почти все себе объяснить путем сравнений. Итак, света хватало, обстановка знакомая, время, каким я располагал, ограничено — я примерно представлял, когда художник вернется с моим питьем. Я не чувствовал себя здесь в гостях. Пока что все ясно: я вижу, как лежу на койке, укрытый до подбородка коричневым одеялом, окруженный знакомыми картинами. Но где же переход, мне нужен переход — или это произошло со мной без всякого перехода?
Вот, пожалуй, с чего началось: я заметил, что кто-то на меня смотрит и, пожалуй, даже узнает меня. Тут были словенцы, они сидели за круглым столом, с довольными, слегка остекленевшими от настойки глазами. Рыночные торговцы вперились в пожилую женщину, равнодушно проходившую мимо, а согнувшиеся под ветром крестьяне торопились убирать сено перед наступлением грозы. А танцующие пляжники? Пророки? Они были всецело заняты собой.
Должно быть, вся суть заключалась в двух менялах с зеленовато-золотистыми руками и похожими на маски лицами: они смотрели на меня, они больше не перемигивались украдкой от сидевшего перед ними согбенного человека, чье отчаяние их не трогало, чье несчастье было их удачей. Мне чудилось, что они уставились на меня, и в их льдисто-серых глазах не было обычного выражения превосходства. Я не мог этого объяснить, да и не желал никаких объяснений, картина как-то стянулась, я ощущал боль в висках, их сдавило тисками — что-то светящееся, колеблясь, надвигалось на картину из ее глубины; менялы, казалось, затаили дыхание; я обеими руками схватился за одеяло; я уже отчетливо видел, как маленькое открытое пламя надвигается о заднего плана, приближаясь неуклонно, необратимо. Что перевесило мой страх? Ошеломление? Слабость? Испуг? Какое-то время, несмотря на страх, я лежал и всматривался, я помню только одно: картина. Маленькое открытое пламя. И страх. Вот, пожалуй, и все. И тут я недолго думая скинул одеяло и вскочил, что-то заставило меня сорвать со стены картину, повернуть тыльной стороной, отогнуть картонку и вынуть из рамы менял. Куда бы их лучше спрятать? Под подушку? В шкаф?
Я вытащил рубашку из штанов и обернул менял вокруг тела, как когда-то «Наводчика туч»; потом одернул рубашку и растянулся на своем ложе, решив никому ничего не рассказывать — даже художнику. Я только хотел отнести картину в безопасное место, я еще сам не знал куда, лишь бы вон отсюда, где она Могла в любую минуту загореться. Как приятно она холодит кожу! Как спокойно ей там лежится, думал я и закрыл глаза, чтобы не видеть других картин. Не лучше ли рассказать? А вдруг он не поверит? Или убежать? У меня и в мыслях не было оставить картину себе, да и в дальнейшем я вовсе не собирался завладеть картинами, которые мне доводилось уносить в надежное место, видя, что им угрожает опасность. Я забирал их только на временное хранение. Я не мог допустить, чтобы они сгорели по случайному недосмотру. Я обязан был что-то сделать. Обязан был прислушаться к тому, что диктовал мне страх. Ошибка моя заключалась лишь в том, что мне слишком рано открывалась опасность, и я слишком рано уносил картину в сохранное место.
Я не убежал. Я лежал и дожидался, пока художник вернется. Он с трудом закрыл дверь. Присел на край моего ложа.
— На, пей! — Я пил и поглядывал на него через край стакана. Не изменилось ли что в его лице, в его обращении? Для того ли только он уходил, чтобы принести мне попить? — Что с тобой, Зигги? — спросил художник. — Здесь тебе нечего бояться. Да не жар ли у тебя? Отдохни немного, и я отведу тебя домой.
Он снял со шкафа бутылку, крепкими желтыми своими зубами вытащил пробку, налил стакан и сразу опрокинул, потом налил другой и закурил трубку. Поглядел в окно.
— Огня уже не видать, Вит-Вит, с пожаром, должно быть, управились, завтра нам будет очень недоставать нашей старой мельницы. Ты ведь в ней частенько бывал. Я то и дело видел, как ты оттуда выходишь. Почему ты убежал с пожара?
Мне нужно было в уборную, Я лежал в напряженной позе, боясь пошевельнуться, вес картины уже давал себя знать, да и новый страх парализовал мои движения. Если он заметит исчезновение картины, если обнаружит ее на мне, что он со мной сделает? — спрашивал я себя, косясь на опустевшую раму, которую снова повесил на место. Может, никогда больше не пустит в мастерскую? И стало быть, между нами все кончено? Рама висела безобразно криво, я чересчур поспешно ее повесил, грубое коричневое одеяло облепило меня, словно собиралось выдать, А тут эта невыносимая жара, волнами ходившая по моему телу, — как уж тут дышать ровно? К тому же мне отчаянно хотелось в уборную.
— Два насоса, — сказал художник, глядя в окно, — теперь они заливают в два насоса, как будто еще нужно что-то спасать или оберегать от огня. Ночью пойдет дождь, можно бы остальное предоставить дождю. Как ты считаешь?
— Да.
Он отвернулся от окна и направился ко мне своими Короткими шагами, в то время как я уставился в потолок. Сколько же нужно плестись, чтобы пройти такое расстояние, почему он тянет так долго? Наконец он подошел. Поставил стакан на пол и, слегка покряхтывая, опустился на край койки. Скажи же наконец, что тебе известно, торопил я, что ты успел открыть?
Он вытащил свой большущий, пропитавшийся табаком платок и насухо обтер мне лоб и виски.
— Прежде всего успокойся, Вит-Вит, — сказал он, — когда-нибудь ты убедишься: все, что мы сотворили или собрали в этом мире, не так-то легко из него уходит. Оставленные нами следы сохраняются куда дольше, чем мы предполагаем. Возьми хоть старика Фредериксена, что жил здесь до меня, ведь я почти ничего о нем не знаю, а он, видишь ли, каждые полгода измерял рост Своего сына и делал на дверном косяке зарубки, — казалось бы, пустяк, но что-то непременно остается. — Он похлопал меня по колену. — Чтобы что-то осталось твоим, не обязательно опять его увидеть, а кое-что лучше даже потерять из виду, чтобы владеть им безо всяких забот. Вот я и думаю, пусть у меня было семьсот или даже восемьсот картин. Они ведь не перестанут быть моими, оттого что я, может быть, никогда их больше не увижу. А ты? Да, я знаю, у тебя их было порядочно.
— О чем это ты? — спросил я. А он, ни капельки не сердясь на мой вопрос:
У тебя был отличный тайник и немало хороших Вещей, я иногда даже просто поражался и готов был подарить тебе что-нибудь от себя.
— Ты заходил наверх? И все знал?
— Да, я все знал, я бывал наверху, и не раз.
И человека в алой мантии?
— Да, я опять увидел человека в алой мантии, да и не только его.
— Как ты догадался?
— Лежи спокойно. Ты видишь, я все тебе оставил, даже две невидимые картины, которые ты урвал для себя, и я уже подумывал о том, чтобы украдкой что-нибудь тебе повесить в качестве сюрприза.
— Это все он, — сказал я, — все он, и так оно и будет продолжаться, он только про то и думает, только и ждет случая.
— Успокойся, мой мальчик, ты сам не знаешь, что говоришь.
— Его это работа, что в кабине, что на пляже, да и вот теперь, я это точно знаю, он все вынюхивает, от него ничто не укроется, и он не уймется никогда.
— Мы найдем тебе новый тайник.
— Он и до нового доберется, так и знай.
— А тогда мы найдем несколько тайников и будем пользоваться ими попеременно, но только успокойся и отпусти мою руку.
— Ты должен что-то сделать, дядя Нансен, — сказал я, — ты один только можешь что-то сделать, то ли он с каким-то вывихом, то ли ему чего-то не хватает, я прямо до смерти его боюсь, когда он так вот стоит и к себе прислушивается.
— Я знаю твоего отца дольше, чем ты его знаешь, — сказал художник, — быть того не может, чтобы он поджег мельницу, еря ты себе это внушаешь. Хочешь еще пахты?
— А я говорю тебе, что от него все нужно прятать.
Художник заставил меня снова лечь, и тут взгляд его сказал мне, что он знает больше, чем я думаю; в его голосе не слышалось ни разочарования, ни огорчения, ни тем более гнева, когда он раздельно сказал:
— За менялами я уж как-нибудь сам присмотрю. — Полагая, что картина под моей койкой, он быстро нагнулся и, не найдя ее там, озабоченно посмотрел на меня. — Давай ее сюда, — сказал он, — она будет у меня в сохранности.
— Огонек, — сказал я, — я видел, как к картине подбирался огонек.
— Не беспокойся.
— Я видел огонь, все равно как тебя вижу.
— Я в этом не сомневаюсь, но теперь дай ее сюда! — Он в два приема сорвал с меня одеяло, нащупал картину под моей рубашкой и, решительно отказываясь от моей помощи, вытащил рубашку из штанов. — Руки прочь! — приказал он спокойным тоном. — Я все сделаю сам. — И ни разочарования, ни гнева, как я уже сказал.
До чего же узкие и бледные были у него запястья, выглянувшие из широких рукавов, когда он снимал со стены раму; не говоря ни слова, он вставил картину и повесил на место.
— Есть хочешь?
— Нет.
— Видно, тебе и в самом деле нехорошо, — сказал он, улыбаясь. — Надо привыкать, Вит-Вит, привыкать к утратам! Ведь это даже к лучшему: нельзя останавливаться на достигнутом. Надо опять и опять начинать сызнова. Когда мы на это способны, мы можем еще чего-то ждать от себя. Не бывало случая, чтобы я остался собой доволен, и тебе, Зигги, советую: будь недоволен — по возможности.
Он испугался моего вида. И снова укрыл меня.
— Господи, мальчик, как ты выглядишь! Пойдем, я отведу тебя домой.
— Я не хочу домой, я хочу остаться здесь, — сказал я.
— Это невозможно.
— Но раз мне хочется!
— Можешь поесть с нами, а потом я отведу тебя домой.
Назад: Глава XV Продолжение
Дальше: Глава XVII Болезнь

