Книга: Просветленные не ходят на работу
Назад: Глава 1. Неправильный монах
Дальше: Глава 3. Колесо судьбы
Глава 2. Дыхание смерти
Я вспотел до такой степени, что веревка выскальзывала из мокрых пальцев.
Чтобы затянуть узел, мне понадобилось ухватить ее зубами и потянуть так, что челюсти хрустнули. Зато потом я смог испустить полный удовлетворения вздох и откинуться назад, созерцая творение рук своих.
Место хлипкого бревнышка, что не выдержало моей тяжести, заняли два куда более толстых и надежно скрепленных друг с другом.
На то, чтобы срубить деревья, лишить их веток и сделать все остальное, у меня ушло целое утро. Я заработал еще несколько мозолей вдобавок к старым, не успевшим зажить, получил тройку царапин, но ничего, к собственному удивлению, себе не отрубил.
— Хорошо сделано, — сказал брат Пон, непонятно откуда появившийся у меня за спиной; когда я оглядывался пару минут назад, рядом никого не было.
— Как вы ухитряетесь ходить так бесшумно? — спросил я, обернувшись.
— Грохот создает то барахло, что носишь внутри. Пустота рождает безмолвие, — отозвался монах. — Пойдем, тебя ждет еще одно важное дело… не бойся, копать или рубить не придется.
Шагая за ним в сторону храма, я размышлял, какую пакость он мне уготовил…
Прополку маленького огородика, что спрятался за храмом? Поход за водой? Таскаться за ней нужно к источнику, примерно за километр, а ведра носить, используя что-то вроде хорошо знакомого всякому русскому коромысла.
Мутную жидкость, что текла под боком, в Меконге, не стал бы пить и усмиряющий плоть аскет.
Хотя нет, все емкости мы наполнили на рассвете, по холодку, и они не могли опустеть…
Что еще? Помощь на кухне? Новый поход в деревню?
— Смотри сюда, — с казал брат Пон, когда я положил топор в сарай к прочим инструментам. — Хватит тебе совершать подвиги телесные, настало время перейти к духовным… Видишь колокола? Ты должен обойти храм по ходу солнца, позвонив в каждый. Потом вернешься ко мне и скажешь, сколько их.
Задание выглядело настолько простым, что я заподозрил подвох.
— И все? — уточнил я.
— Да, и все, — вид у монаха был невинный, как у ребенка, еще не выучившегося лгать.
Петля из колоколов, развешенных в ряд под узким навесом, окружает многие тайские храмы. Я не раз видел верующих, которые совершали обход святилища, ударяя по каждому и шепча молитву.
Но зачем этим заниматься мне?
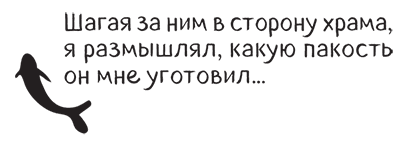
Ладно, брат Пон обещал, что будет объяснять все, пусть кое-что и не сразу…
И я принялся за дело… Бомм — первый колокол, бомм — второй, бомм — третий… Примерно на пятом я заметил, что они хоть одинаково старые, потускневшие от времени, а некоторые со сколами и трещинами, но все разные — одни побольше, другие поменьше, с орнаментом или без, в форме тюльпанов или напоминающие гильзы от снарядов.
Бомм… бомм… бомм… сто пять.
Подойдя к навесу, под которым сидел брат Пон, я озвучил получившееся число.
— Нет, ты ошибся, — сказал он. — Попробуй еще раз.
Я нахмурился, проглотил возражения и зашагал обратно.
На этот раз вышло сто восемь — насколько я помнил, священное для буддистов число.
— Ты ошибся, — разочаровал меня брат Пон. — Попробуй еще…
Третья попытка принесла мне результат в сто четыре.
Узнав, что и это неверно, я просто закипел от ярости.
— Почему я должен считать эти дурацкие колокола?! — выпалил я, сжимая кулаки. — Какая от этого польза?
— Чтобы извлечь пользу, ты должен выполнить задание, — монах не обратил внимания на мою вспышку, голос его остался ровным, а лицо — бесстрастным, как у статуи Будды.
Я едва не зарычал…
Проклятые колокола словно издевались надо мной, их очертания сливались, казалось, что я не иду, а стою на месте, а мимо проплывают эти уродские медные штуковины. Я пробовал загибать пальцы, отсчитывая десятки, но в какой-то момент сбился, и пришлось начинать снова.
Еще две попытки, и если одна вновь закончилась сто пятью, то вторая дала совершенно невероятный результат в сто двадцать. С ним я даже не стал подходить к брату Пону, а двинулся по очередному, непонятно уже какому кругу, но почти тут же остановился, сам не зная почему.
Ярость и раздражение, только что заполнявшие меня, как говорится, по горлышко, отступили. Я осознал, что понемногу вечереет, из джунглей долетают обезьяньи вопли, а где-то очень далеко визжит бензопила.
Спокойно, не думая, зачем я этим занимаюсь, не зацикливаясь на том, чтобы сделать все правильно, я обошел храм.
Сто семь.
— Очень хорошо, — сказал брат Пон, услышав это число. — Ты понял, что случилось?
Я пожал плечами:
— Я перестал злиться.
— Не совсем. Просто твой ум признал свою неудачу и вынужден был отступить. Рациональный ум, дискурсивное мышление, как называют его на Западе, всегда занято операциями, похожими на математические, — взвешиванием и сравнением.
— Но эти расчеты помогают жить правильно! — возразил я.
— Да ну? — изумился монах. — Почему тогда умные люди так часто бывают идиотами? Обычно смысла в подобной калькуляции не больше, чем в подсчитывании колоколов или песчинок на пляже.
— Но вы же говорили, что осознание — единственное оружие, что у нас есть?
— Конечно, но ум — это не осознание, это лишь громогласное и грубое его подобие. Настоящему, истинному осознанию постоянная трескотня ума не дает себя проявить. Спрятанная в голове тираническая машина, которую тот, кто хочет изменить свою жизнь, должен научиться останавливать. Способов много, мы начнем с самого простого… Называется он — внимание дыхания.
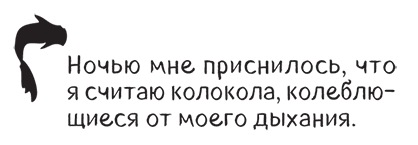
Из дальнейшего рассказа стало ясно, что теперь мне придется считать собственные вдохи, начиная с единицы и доходя до десяти, а затем вновь начинать сначала. Причем заниматься этим предстоит постоянно, что бы я ни делал, во время работы, еды, на ходу и лежа.
— Но зачем? — спросил я, когда мы попробовали и стало ясно, что до десяти я могу сосчитать без проблем.
— Затем же, зачем ты бродил вокруг храма последние два часа.
Ого, а я и не заметил, что прошло столько времени!
— Твой ум будет, во-первых, сосредоточен на той задаче, которую ты выполняешь: подметаешь, пьешь чай или чешешь за ухом. Во-вторых, ему придется вести счет столь же бессмысленный, как и любой другой, но находящийся под твоим контролем. Ресурсов на что-либо еще у него не останется, хотя не думай, что все у тебя получится так легко. Останови-ка разогнавшийся грузовик!..
Довольно быстро стало ясно, что брат Пон не ошибся.
Когда я ничего не делал, считать вдохи было легче легкого, но стоило заняться чем-то еще… Я сбивался, пропускал числа и раз за разом начинал заново, иногда просто замирал в ступоре, не понимая, что я делаю, и будучи не в силах вспомнить, о чем только что думал.
Ум мой метался в пределах черепа, точно прижатая вилами змея, и это было мучительно почти до физической боли. Но я упорно практиковался до вечера, а ночью мне приснилось, что я считаю колокола, колеблющиеся от моего дыхания…
Будда в святилище вата Тхам Пу имелся, но роскошные золоченые изваяния храмов Бангкока он напоминал мало. Грубо высеченная из камня фигура, покоящаяся на бесформенной глыбе, едва намеченное лицо, поднятая для благословения рука и гирлянды цветов на шее.
В мои обязанности входило подметать тут каждый день, убирать сгоревшие ароматические палочки, огрызки которых торчали из чаши с песком, менять сам песок на чистый.
Более серьезными делами занимались двое молодых монахов, чьих имен я так и не узнал, хотя провел в Тхам Пу неделю. Попытался спросить у брата Пона, но тот лишь нахмурился и велел мне не заниматься ерундой.
За семь дней я привык к своему жилищу, к скудному рациону и к тому, что слова «отдых» тут не знают вообще. Мозоли мои зажили, а проблемы, еще недавно разрывавшие сердце на части, стали казаться чем-то эфемерным, вроде миража над барханами.
О том, что есть такие вещи, как деньги или сотовая связь, я даже и не вспоминал.
Утром восьмого дня я, как обычно, побрызгал водой на пол и взялся за метлу. Шварк-шварк, шварк-шварк, надо сделать так, чтобы пол стал идеально чистым, иначе придется мести заново… Первый вдох, второй, третий… десятый, снова первый, и для дурацких мыслей в голове не осталось места, смолк тревожный нервный монолог, который мы обычно не осознаем.
— Не знаю, что ждет тебя в будущем, но если что, ты сможешь работать уборщиком, — голос брата Пона, донесшийся со стороны входа, заставил меня вздрогнуть.
Обычно в это время он медитировал под навесом в одиночестве.
— Э, да… — сказал я, не зная, что и думать.
За очень краткий период само понятие «работа за деньги» стало для меня предметом из области страшных снов.
— Пойдем, — он поманил меня. — Ты с первого дня ожидаешь от меня чуда. Сегодня будет тебе чудо.
Честно говоря, такое сообщение меня вовсе не обрадовало: учитывая склонность брата Пона к шуткам, он вполне мог обозвать красивым и многообещающим словом какую-нибудь подковырку.
Но если за эти дни я чему и выучился, так это повиноваться без возражений.
Отставив метлу в угол, я следом за братом Поном выбрался из храма.
Вскоре стало ясно, что он ведет меня на то место, где я не так давно выкорчевал дерево. Начавший сох нуть ствол валялся там, где его оставили, чернела оплывшая яма, а рядом с ней, скрестив ноги, сидели двое молодых монахов.
Между ними стояло ведро, до верха наполненное водой.
— Братья согласились нам помочь, — сказал брат Пон. — Для наглядности, так сказать. Размещайся вот тут…
Плюхнувшись наземь, я вспомнил, что позорным образом забыл о внимании дыхания, и принялся заново считать… один… два… три… четыре…
— А теперь закрой глаза и постарайся ни о чем не думать, — продолжил монах. — Спокойно дыши и не подглядывай.
Еще бы он предложил мне не вспоминать о белой обезьяне!
Брат Пон сказал что-то по-тайски, его соратники откликнулись короткими смешками. Потом ушей моих коснулся звук, которому просто неоткуда было взяться посреди джунглей — шкрябание лопаты по льду и снегу, с которого много лет начиналось мое зимнее утро в детстве!
Дворничиха, тетя Люда, принималась за дело около шести, и меня будили, когда она пахала вовсю.
Он был такой же частью привычной жизни, как школьная форма или запах папиного одеколона… Сейчас же он пугал сильнее, чем рык голодного тигра, ведь полосатые кошки в окрестностях Нонгкхая встречаются, а лед и снег — нет, и тетя Люда давно умерла…
Искушение открыть глаза было настолько сильно, что мне казалось — веки тянут вверх канатами.
Но я сдержался.
Брат Пон и его помощники нараспев читали что-то, и голоса их порождали эхо, словно мы сидели не под сводами деревьев, а в большом зале вроде того, где меня когда-то учили танцам… родители загоняли меня туда из-под палки, мне самому не нравилось, и я ненавидел это помещение, само здание Дома пионеров, желтое, с колоннами у входа…
Я словно лишился веса, парил в пустоте, и образы из прошлого наплывали один за другим, ошеломляюще ясные, четкие, детальные воспоминания о таких моментах, которые я напрочь забыл.
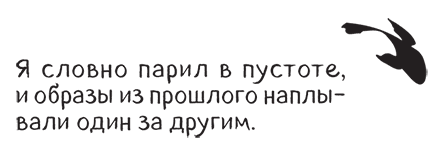
Запах весны, сырой земли, когда мы без спроса уходили на берег только что вскрывшейся речки и возвращались грязные, мокрые и счастливые, получать неизбежную родительскую взбучку…
Кудрявая Маша, с которой мы едва не поженились, два года прожили вместе…
Безобразная пьянка с «партнерами по бизнесу» в девяносто третьем, когда в моду входили красные пиджаки, а сами «партнеры» даже и не думали избавляться от бандитских привычек.
Ресторан «Золотое кольцо» мы тогда чуть не сожгли.
Голоса монахов упали до шепота, потом они одновременно вскрикнули, и этот резкий звук вернул меня к реальности. Я обнаружил, что дрожу, как в лихорадке, а пот буквально капает с бровей, щекочущие струйки текут по спине и бокам.
— Открой глаза, — сказал брат Пон, взяв меня за плечо.
От этого прикосновения я чуть не вскрикнул, настолько горячей мне показалась его ладонь. Затем я осторожно поднял веки и застыл как громом пораженный, пытаясь осознать, что именно вижу.
Прямо напротив меня, рядом с ямой от выкорчеванного дерева, сидел один из молодых монахов. За его спиной клубилось нечто черное, бесформенное, угрожающее — облако тьмы, внутри которого укрывается чудовище, или нет, скорее даже сам монстр, умеющий менять облик!
Я почти увидел острые когти, усеянную бородавками морду, слюнявую пасть…
Страх ударил, точно холодная вода из брандспойта, я сделал движение вскочить, но брат Пон навалился на меня, не давая этого сделать. Переведя взгляд, я обнаружил, что за спиной второго монаха маячит точно такая же штуковина.
— Смерть приходит в этот мир вместе с нами, — проговорил брат Пон нараспев. — Стоит у изголовья колыбели и в ногах кровати старика, рядом с мужчиной и с женщиной. Никто не знает, когда она нанесет удар, но рука с кинжалом занесена и может упасть в любой момент.
— И за-за мн-ной? — от ужаса я едва мог говорить, язык заплетался, губы не слушались.
— Поворачивай голову медленно и осторожно, — не удовлетворившись словами, брат Пон взял меня за макушку и придержал, не давая мне сделать излишне резкое движение. — Только не обделайся…
Черное облако волновалось в каких-то сантиметрах от моих лопаток, от него веяло холодом. Не знаю, каким образом, но я ощущал, что внутри ничего нет, но что пустота, спрятанная за клубящимся пологом, может выпить всю мою жизнь за считанные мгновения.
Неужели так выглядит смерть? Не может быть… это бред…
Нет, я не обделался, но зубы мои застучали друг о друга, как настоящие кастаньеты. Жесткая конвульсия пробежала от копчика до макушки, и голова закружилась с чудовищной силой.
В следующий миг я обнаружил, что лежу мордой в землю и что мне на голову льют воду.
— Что… — сказал я, пытаясь опереться на дрожащие руки, чтобы подняться, — это… было?
— Ты видел смерть, — сказал брат Пон, опуская ведро. — Сейчас ты ее не видишь. Только это не значит, что она ушла. Она всегда рядом, наблюдает и ждет. А ну оглянись!
Новый приступ паники заставил меня рухнуть наземь и прикрыть затылок руками, будто ладони могли защитить меня от безжалостного выпада той клубящейся тьмы, присутствие которой я так остро теперь ощущал.
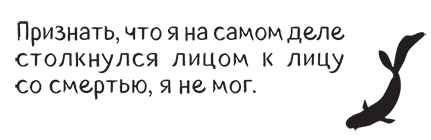
— Оглянись, не бойся, — повторил брат Пон.
Я осторожно повернул голову, скосил глаза и понял, что не вижу ничего особенного. Судя по положению солнца, давно перевалило за полдень, двое молодых монахов исчезли неизвестно куда.
— Это была галлюцинация, — сказал я. — Вы загипнотизировали меня… или нет… Подмешали какую-то дрянь в рис… или дали чего-то понюхать…
Брат Пон молчал и улыбался, и я заткнулся, осознав, что несу ерунду.
Но признать, что я не метафорически, а на самом деле столкнулся лицом к лицу со смертью, я не мог: в том мире, в котором я прожил почти четыре десятилетия, не было места таким событиям.
Голова трещала, руки подергивались, и страх все так же крепко держал меня в леденящих объятиях.
— Вы со всеми так поступаете? — спросил я с упреком. — С каждым послушником?
— Нет, не так, — отозвался брат Пон. — Кому-то это не нужно, кому-то повредит. Общих правил и принципов не существует, ведь учение — это всегда конкретное послание конкретному человеку, и всякий раз выбираются особые средства, чтобы доставить его по назначению. Ну что, ты пойдешь сам или мне придется тебя нести? Такую-то тушу, ха-ха.
Шутка меня не развеселила, я даже не улыбнулся.
Кое-как сумел подняться, и мы зашагали в сторону вата.
Но при каждом шорохе в зарослях я вздрагивал, пугливо съеживался и втягивал голову в плечи. Смерть была рядом, неумолимая и безжалостная, готовая нанести удар, — это я ощущал всеми печенками.
Даже следующим утром я окончательно не пришел в себя.
Шарахался от каждой тени, ловил себя на постоянном желании оглянуться, посмотреть, что там за моей спиной, а воспоминания об увиденном вчера заставляли меня обливаться холодным потом.
Да, если это чудо, то лучше жить без чудес.
После того как я закончил с утренними делами, брат Пон позвал меня к себе.
— Садись, — велел он. — И смотри. Сейчас поймешь, к чему это все было.
Я опустился на землю, скрестив ноги, — принимать позу лотоса я так и не выучился, несмотря на все старания. Монах взял прутик, нарисовал на земле круг и разделил его на шесть частей, так что получилось нечто вроде колеса с тремя спицами.
— Это — Вселенная, — объявил он с преувеличенной серьезностью. — Шесть миров. Шесть мест, где может воплотиться разум… Три благих, они у нас сверху, и три… мягко говоря, не особенно благих.
Пока было не очень понятно, какое это имеет отношение ко вчерашнему жуткому опыту.
— К благим у нас относится рождение в мире богов, которые хоть и живут долго, но все равно смертны, в мире полубогов-асуров и среди таких, как мы с тобой, человеческих существ. К неблагим — существование в теле животного, одного из голодных духов или прямиком в аду.
— И все эти миры реальны? — спросил я.
— Реальны, но в какой степени — каждый решает сам. Можно считать этот рисунок, — брат Пон потыкал прутиком в середину круга, — картой человеческой психики, и не более. Можно полагать, что где-то и вправду есть адские вместилища, где мучаются грешники, и небеса, на которых обитают пребывающие в блаженном состоянии боги… Какая разница?
— Ну как? Хотелось бы знать, как все обстоит на самом деле.
— И так, и так, обе версии истинны.
— То есть я, — я указал по очереди на все сектора, — был и зверем, и асуром, и духом?
— В общем так, если убрать слово «я».
— Но есть же предыдущие жизни, которые повлияли на нынешнее воплощение? — продолжал я.
— Конечно.
— А можно узнать, где и когда я жил? — любопытство, одолевшее меня в этот момент, оказалось сильнее даже того страха, что грыз мои внутренности со вчерашнего дня. — Пожалуйста!
— Тебе мало одного чуда? — спросил брат Пон с лучезарной улыбкой.
Это было хуже, чем удар под дых, — я вздрогнул и поежился, ощутил на затылке холодное дуновение, и если бы на голове у меня оставались волосы, они наверняка встали бы дыбом.
— Тогда забудь, — монах погрозил мне прутиком. — Вспомни, о чем мы говорили… Шесть миров, но для того чтобы развить полное осознание и вырваться за пределы круга Сансары, годится только один. И угадай какой.
— Человеческий.
— Совершенно верно. Богам и полубогам слишком хорошо, чтобы менять себя. Животные практически лишены разума, духи одержимы неутолимыми страстями, грешникам чересчур плохо. И что у нас в результате выходит… — он стер большую часть круга, оставив единственный сектор. — Какова вероятность, что один из нас попадет сюда?
— Одна шестая.
— Даже меньше. Из ада не выберешься быстро, боги живут миллионы лет, и все зря. Тут же у тебя есть каких-то семьдесят-восемьдесят лет на то, чтобы обрести свободу, и если не успеешь, то придет то, что ты видел вчера, и скажет «ам».
— Но к чему страшиться гибели, если будет новое рождение человеком?
— А кто тебе сказал, что будет? Ты уверен? И если будет, то когда? Через век? Спустя миллион лет или целую кальпу? Какую карму ты накопишь за это время? Возможно, ты воплотишься в таких условиях, что не позволят тебе даже задуматься об осознании! Поэтому то, что ты в теле человека, надо воспринимать как подарок, и не тратить этот краткий отрезок времени на мимолетные удовольствия, погоню за богатством или нытье. Никто не знает, когда смерть ухватит тебя за глотку, и поэтому действуй так, словно у тебя совсем не осталось времени! Не бойся, но живи и осознавай! Продвигайся, развивайся, не забывай о том, что именно расположилось у тебя за плечами, но и не давай мысли об этом овладеть тобой, прорасти семенем ядовитых эмоций.
Я нахмурился, пытаясь осмыслить концепцию: помнить, что кончина неизбежна, что она рядом, но воспринимать этот факт не как источник страха и неуверенности, а как стимул.
— Как говорил один из просветленных, — сказал брат Пон после короткой паузы, — монах, что вкушает пищу так, словно надеется дожить до конца трапезы, — ленив и празден. Тот же монах, что делает каждый глоток так, словно в нем содержится смертельный яд, внимателен и радостен.
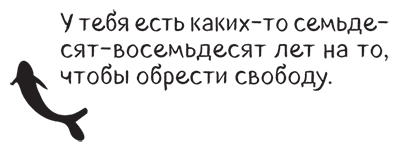
— Но если моя душа… — начал я, намереваясь упомянуть о том, что опыт этого воплощения никуда не денется, что если я трудился над своим развитием в этой жизни, то это должно сказаться и в следующей.
— Нет никакой «души», — прервал меня брат Пон.
— Но что же тогда переходит из жизни в жизнь?
— Вот тут ты меня поймал, — монах рассмеялся и стер с земли остатки рисунка. — Объяснять это тебе сегодня я не собираюсь, поскольку рано еще, все равно не поймешь. Осознай для начала то, что я сказал тебе только что…
Страх рассеялся без остатка уже к вечеру, и спал я, в отличие от предыдущей ночи, спокойно, без кошмаров.
А утром брат Пон сказал мне, что нужно сходить в деревню.
— Пойдешь на этот раз один, — сказал он. — Надо зайти в магазин, забрать кое-что.
— Но я не говорю по-тайски!
— Продавец видел тебя со мной. Так что тебе нужно будет только поздороваться. Остальное сделает он сам.
Мне выдали объемистую холщовую сумку из тех, что монахи носят, собирая подношения, и я отправился в путь. Мостик, изготовленный мной же, хоть и захрустел, но не сломался, то ли потому, что на него пошли два бревнышка, то ли из-за того, что за проведенное в храме время я похудел.
Рис с овощами два раза в день — неплохой вариант, чтобы сбросить вес.
Шагая через джунгли, я практиковал внимание дыхания, и получалось у меня на редкость хорошо. Посторонние мысли если и возникали, то приятные, о том, например, что гастрит, которым я мучился последний год и обострившийся пару месяцев назад, куда-то исчез, испугавшись, похоже, монашеской диеты.
Мозоли, потертости, солнечные ожоги, все то, что досаждало в первые дни в Тхам Пу, — все это заживало. И даже одежда становилась привычной, словно ходил подобным образом не первый год; большую часть времени я вообще не вспоминал, что именно на мне надето.
Лес остался позади, показались деревенские дома.
И в этот момент ушей моих достигло рычание, полное искренней, неподдельной злобы. Черный лохматый кобель, тот, что в прошлый наш визит в деревню едва не лизал руку брату Пону, выбежал из зарослей и встал на дороге.
Зубы его были оскалены, клыки выглядели огромными, точно у тигра.
— Тихо-тихо… Ты чего? — забормотал я, замедляя шаг и пытаясь задавить колыхнувшийся внутри страх.
Но вслед за вожаком объявились другие собаки, настроенные столь же «дружелюбно». Самая мелкая загавкала, наскакивая на меня и тут же отпрыгивая, и я вынужден был остановиться.
Нельзя показывать, что боишься, и вообще лучше не бояться.
Сказать легко, а вот сделать, когда оказался один на один с такой вот сворой…
— Тихо, — повторил я. — Мне нужно пройти в деревню. Я вам не помешаю.
Но человеческий голос, пусть даже спокойный, тайские собаки слушать не пожелали. Вожак зарычал вновь, в глазах его блеснула злоба, и я инстинктивно вздрогнул, отступил на шаг.
Тут на меня прыгнули сразу две псины, причем с разных сторон.
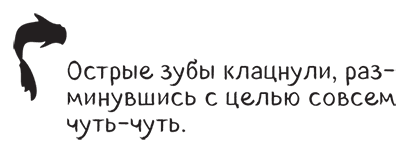
Первая мигом отпрянула, зато вторая ухватила зубами край монашеского одеяния. Дернула так, что ткань затрещала, и отскочила, стоило мне замахнуться.
— Прочь! — заорал я, оглядываясь в поисках крепкой палки.
Если треснуть одну собаку по хребтине, то другие разбегутся.
Но ничего подходящего рядом не нашлось, а свора продолжала наседать, вытесняя меня обратно в лес. Вожак медленно наступал и время от времени порыкивал, словно подбадривая своих «бойцов».
Сердце бешено колотилось, благостное настроение улетучилось вместе с вниманием дыхания. Я сжимал кулаки, ежился от страха и молился только о том, чтобы меня не цапнули всерьез.
Гноящаяся рана — штука серьезная…
Наконец я ухитрился нагнуться и подхватить с земли какую-то ветку, не особенно толстую, но длинную. Собаки остановились, но едва я попытался сделать шаг вперед, как меня оглушил многоголосый лай.
Нет, гнусные твари не собирались пропускать меня в деревню!
Я отступил еще дальше, надеясь выждать некоторое время в зарослях, чтобы самому успокоиться, а собакам дать возможность забыть про меня и убрести по своим делам…
Но нет, не помогло.
Свора вроде бы исчезла, но едва я опять зашагал вперед, как меня атаковали снова, с еще большим остервенением. Ветка моя сломалась, когда я заехал по морде самому наглому псу, и почти тут же мне едва не откусили палец — острые зубы клацнули, разминувшись с целью совсем чуть-чуть.
Тут я не выдержал и обратился в бегство.
Я стоял перед братом Поном, и лицо мое горело от стыда.
Меня трясло от только что пережитого, я потел и часто дышал, а мысли неслись бешеным потоком.
— Для начала сядь и успокойся, — сказал монах. — А потом мы поговорим.
Минут двадцать мне понадобилось на то, чтобы восстановить внутреннее равновесие.
— Так куда лучше, — проговорил брат Пон с улыбкой. — Ты меня хотя бы услышишь. Нет ничего удивительного в том, что собаки на тебя напали. Тишина рождает тишину. Внутренний шум и суматоха провоцируют еще больший шум, только снаружи… Вещи, которыми мы тут с тобой занимаемся, нацелены на то, чтобы опустошить тебя, но для того чтобы добиться пустоты, нужно расшевелить тот хлам, что хранится внутри тебя. Поэтому сейчас, если можно так выразиться, ты громыхаешь куда сильнее, чем обычно, и мир вокруг тебя отзывается соответственно… Вылезают все острые углы, которых ты ранее не ощущал, проблемы, забытые много десятилетий назад, детские страхи и прочий мусор. Понимаешь?
Я шмыгнул носом и кивнул.
— А теперь расскажи мне, кто мог пострадать от нападения своры?
— Ну как же, я, — сказал я.
— А что такое это «я»? — он наклонился вперед и впился мне в лицо испытующим взглядом.
— Ну… рука, нога… задница, наконец!
— А что, ты и есть твоя задница? — брови на лице брата Пона взлетели, черные глаза отразили изумление.
— Нет!
— А может быть, ты — это рука?
— Нет.
— Нога?
— Я — все тело целиком, от пяток до макушки! — поспешно заявил я. — Разве не так?
Голос мой звучал обиженно-агрессивно, но поделать с этим я ничего не мог: сначала собаки, теперь еще и брат Пон норовит меня покусать, а ведь день так здорово начинался!
— Очень хорошо, — сказал монах. — Ты — это ломоть мяса, обтянутый кожей. Наполненный кровью, нечистотами, соплями и прочими видами слизи, кусками кости, хрящами и жилами. Такому объекту на самом деле может угрожать другой объект такого же примерно типа, снабженный острыми зубами, который мы именуем «собакой». Повредить твой разум или твои чувства она не может… ведь так?
С последним утверждением спорить я не мог, но картинка, нарисованная братом Поном, мне не понравилась — неприятно видеть себя куском мяса, не говоря уже о нечистотах внутри, о которых как-то не принято упоминать в приличном обществе.
— И пока ты воспринимаешь себя таким образом, пока ты видишь себя огрызком плоти с четкими границами, ты постоянно будешь в опасности, ведь этот ломоть мяса так хрупок, так уязвим. Острая веточка — и нет глаза, попавший под ногу камень — и сломанное бедро, крохотный паразит внутри — и такую гладкую кожу уродует короста…
— Но разве можно видеть себя иначе? — воинственно поинтересовался я.
— Конечно. Ты — это поток восприятия, вечно текучий, изменчивый, пластичный. Тело, которым ты так гордишься, всего лишь один из его компонентов, не набор деталей, а струя телесных ощущений, которые обновляются каждое мгновение: движение мускулов, ток крови, биение сердца, дыхание, нечто воспринимаемое глазами, ушами, обонянием или осязанием… там чешется, здесь болит, что-то упирается в бок, кусает комар, в животе приятная тяжесть от съеденного — все это единое целое, и все это реально.
— Есть еще и другие компоненты… струи?
— Конечно. Вторая — эмоции, радость и печаль, тревога и волнение, гнев и умиротворение, ощущение приятного, неприятного или нейтрального. Обычный человек не может ни остановить эту струю, ни контролировать, умеет лишь ставить неуклюжие плотины и тем самым уродует себя. Третья — мысли, постоянно щелкающий ум, о котором мы говорили, расчеты, взвешивание и сравнение, классификация и размышление. Порождение чисто ментальных образов.
— Это мне понятно, — сказал я.
— Еще бы, почему нет? Ведь западный человек если с чем себя и отождествляет, помимо тела, так это с умом. Ты же не будешь спорить, что это бесконечный поток? Абсолютно нестабильный, неостановимый, над которым ты имеешь не так много власти…
Еще минут десять назад я нашел бы, что возразить, но к этому моменту мой воинственный пыл начал угасать.
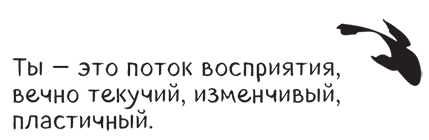
Брат Пон испытующе глянул на меня, но убедившись, что перечить я не собираюсь, продолжил:
— Четвертая струя в нашем потоке — события, точнее их конструкции, схемы, шаблоны, что определяют содержание нашей жизни. Те, которые происходят с нами сейчас, во многом обусловлены прошлой кармой, сформированы давно — может, год, может, сто лет назад, а может быть, и пять тысяч, а сейчас лишь воплощаются. От того, какой выбор мы сделаем сегодня, как поступим в нынешних обстоятельствах, зависят события будущего. А пятый поток — это осознание, точнее, осознавание предыдущих четырех.
— А чем оно отличается от ума? — спросил я. — Это не одно и то же?
— Когда ты практикуешь внимание дыхания, ты же ощущаешь, как твой ум затихает?
— Ну да…
— Но осознавать ты не прекращаешь? Наоборот, осознаешь все четче и лучше?
И с этим я вынужден был согласиться.
— Все пять струй переплетаются, образуя единый поток, — сказал брат Пон. — Телесные ощущения порождают эмоции и мысли, все это вместе служит основой событиям. Действуя определенным образом, мы делаем так, что ощущаем нечто новое, думаем иначе и переживаем другое. Осознавание стоит за всем этим, тонкое, почти неуловимое, тихое. Каждый момент времени, куда меньший, чем секунда, пять струй изменяются. Это как многомерный калейдоскоп, что вечно вращается, и цветные стеклышки образуют новые и новые рисунки. Если смотреть с этой точки зрения, то ты — текучее существо без четких границ, которому никто и ничто не в силах причинить вреда.
— Но если собака укусит меня, я почувствую боль!
— Чувство боли возникнет, но никто не заставит тебя считать его своей собственностью. Да, оно породит эмоции и мысли и будет частью шаблона событий. Только почему ты обязан воспринимать это как неприятность, как источник раздражения? Пусть это будет мимолетное впечатление, картинка из калейдоскопа, имеющая так же мало значения, как и остальные. Нечто мгновенное, обреченное на исчезновение в следующий момент…
Я поскреб в затылке.
Да, воспринимать себя как поток, нечто струящееся во времени очень даже неплохо… Но собачьи зубы, которые вырвут кусок мяса из моей ноги, имеют вполне определенные границы, да и возможное бешенство обещает сериал из не самых приятных впечатлений длиной с «Санта-Барбару»…
Как быть с этим?
— Я вижу, ты понял меня не до конца, — сказал брат Пон. — Давай, лови момент… Сейчас ты находишься рядом со мной в пределах вата Тхам Пу — это событийная схема. Теплый ветерок овевает твое тело — это приятно, ты ощущаешь запах листвы — это нейтрально, вот тебе материальные стимулы и эмоции по их поводу. Ты активно думаешь. Вертишь в голове то, что я тебе сказал, — это мысль. И осознаешь все это одновременно. Перенесись на окраину деревни, в середину своры… Там будет все то же самое! Поверь!
— Что вы говорите? То есть как «то же самое»? — я вновь закипел от возмущения. — Здесь мне хорошо, а там будет плохо!
— Я и не ждал, что ты уловишь концепцию сразу, — брат Пон улыбнулся. — Я помогу. Давай… — и он, нагнувшись вперед, похлопал меня по плечу, легонько-легонько, едва дотрагиваясь.
Но это прикосновение сотрясло меня до глубины души.
На какое-то время я словно потерял вес и форму… нет, тело никуда не исчезло, я по-прежнему ощущал его, вплоть до зуда в районе копчика и капли пота на лбу. Просто оно стало лишь одним из многих объектов внутри того, что называло себя «мной».
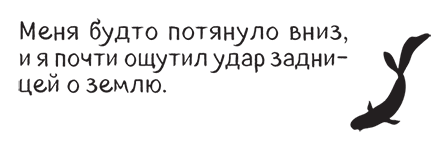
Ритмичное колыхание сразу во многих направлениях: запахи, эмоции, мысли, мельчайшие движения, какие-то структуры, едва уловимые разумом, и наблюдающее за всем этим нечто, такое же изменчивое, как и все остальное, находящееся с каждым элементом «меня» в неразрывной связи. Пульсирующие обрывки, тысячи живых осколков, клочков не пойми чего, что существуют лишь мгновение, а затем исчезают, уступая место новым.
А потом меня будто потянуло вниз, и я почти ощутил удар задницей о землю.
— Вот так это примерно и выглядит, — сказал брат Пон, удовлетворенно потирая руки.
Я попытался что-то сказать, но не смог, лишь подвигал губами, изображая выброшенную на берег рыбу.
— В магазин надо сходить сегодня, — продолжил монах. — И сделать это должен ты. Отправляйся.
Я кивнул и поднялся.
О собаках я в этот момент и не вспомнил.
До деревни я добрался в совершенно спокойном душевном состоянии.
На том месте, где меня не так давно встретили лаем, рычанием и щелканьем клыков, даже не приостановился. Про испытанный страх подумал, но не дал ему овладеть собой, не ускорил хода, не стал озираться по сторонам, продолжил дышать так же ровно и шагать неспешно.
Может быть, оттого, что я не боялся, а может, потому, что солнце нещадно палило… Но ни одной собаки я не встретил.
В деревне все было точно так же, как и несколько дней назад, — неподвижный старик под навесом, жужжащие над ним мухи, наполовину пустая бутылка рома. Взрослые смотрели на меня без любопытства, дети таращили глазенки и шептали «фаранг».
Занервничал я, только входя в магазин…
Вдруг брат Пон ошибся или хозяин забыл, что он должен передать в Тхам Пу?
— А, хай-хай, — сказал тщедушный обладатель цветастой рубахи и гнилых зубов. — Реди-реди.
Последнее означало, видимо, что он готов к моему визиту.
Из-под прилавка явился тяжелый угловатый сверток, источавший горький аромат. Осторожно, чтобы ни в коем случае не уронить, я положил его в сумку и, не произнеся ни единого слова, покинул магазин.
Пересек деревню в обратном направлении, последний дом остался позади, и тут в кустах справа мелькнула мохнатая черная тень.
— О нет… — успел прошептать я, и тут свора ринулась на меня.
Ожесточенное гавканье разорвало послеполуденную тишину в клочья.
Рыжий пес с подпалинами оказался шустрее всех, и именно ему я залепил ногой по морде. Он взвизгнул, отскочил, но черный вожак уже вцепился в край моего одеяния, а еще кто-то тяпнул меня за лодыжку.
Боль вызвала не только страх, но и ярость.
— Ах вы твари! — заорал я и, к удивлению своры, бросился в атаку.
Взвизгнул получивший пинок по ребрам пес, второй захромал, припадая на отдавленную лапу. Злобный лай сменился обиженным скулежом, и собаки бросились врассыпную, поджав хвосты.
Я остался в одиночестве, дрожащий, тяжело дышащий, со вскинутыми кулаками.
Укус на лодыжке выглядел неглубоким — несколько царапин, выступившие там и сям капли крови. Но кто знает, какую именно гниль и дрянь жрала собака до того, как попробовать меня на вкус?
Так что в сторону храма я зашагал в мрачнейшем настроении.
Брат Пон, выслушав мой эмоциональный рассказ, не выразил ни сочувствия, ни печали, ни возмущения.
— Сейчас рану обработаем, — сказал он, забрав у меня сумку, после чего удалился в сторону своего жилища.
Вернулся с глиняным горшочком, выглядевшим так, словно его изготовил гончар из древнего Вавилона. С негромким «чпок» покинула место крышка из дерева, и ноздри мои пощекотал резкий травяной запах.
Укус вскоре скрылся под слоем бурой мази, и его начало немилосердно жечь.
— За несколько дней заживет, — сказал брат Пон, вставляя крышку на место.
— Сомневаюсь, — буркнул я. — Может быть, мне лучше обратиться в больницу? Поехать в Нонгкхай?
— Ты можешь это сделать, — он пожал плечами. — Но тогда я не приму тебя обратно.
Я заколебался: с одной стороны, я боялся, что неизвестно из чего сделанная мазь не поможет, а с другой — я совершенно не хотел покидать Тхам Пу, не желал закончить обучение раньше времени.
Сомнений в том, что брат Пон поступит именно так, как обещал, не было.
Вернет мне шмотки, помашет на прощание и забудет о моем существовании.
— Но почему так вышло?! — спросил я сердито. — Отчего эти твари снова напали? Честно скажу, я пытался быть текучим, без границ, как вы и говорили…
— Во-первых, знание нельзя получить, вычитав что-то из книги или послушав мудрого человека, — брат Пон заговорил так тихо, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. — Знание должно стать частью тебя. А это достигается только практикой. Услышанное сегодня для тебя лишь сведения, нужно время и упражнения, чтобы они проросли внутрь тебя, изменили тебя и изменились сами, став настоящим знанием.
— Но…
— Погоди! — он вскинул ладонь, и я прикусил язык, хотя раздражение и обида требовали выхода в словах. — Во-вторых, сегодня должен был реализоваться некий кармический потенциал. Кто знает, какие поступки ты искупил, ощутив маленькую боль? Согласись, что такой укус лучше, чем отрезанная рука.
— Ну да, — хмуро признал я.
— В-третьих, ты не мог пройти мимо собак нетронутым, поскольку в тебе еще жив корень ненависти к другим живым существам. Он не столь извилист и ветвист, как невежество и алчность, о которых мы говорили, но в твоей душе пророс глубоко.
— Но я не испытывал к ним ненависти! И сумел победить страх! — выпалил я.
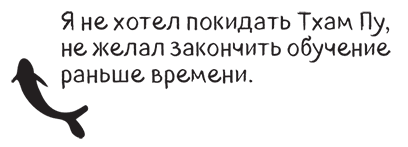
— А что, злоба и агрессия лучше трусости? — спросил он. — Это две стороны монеты. Переверни одну, и найдешь другую. Кроме того, если ты испытываешь гнев, сердишься на кого-либо, то ты подобен человеку, который пытается бросать в другого фекалии или куски раскаленного металла. Попадешь или нет — это еще неизвестно, но зато сам останешься грязным и вонючим, с обожженными руками. Нравится тебе такой исход? Радует ли тебя?
Метафора оказалась настолько живой, что я невольно бросил взгляд на свои ладони.
— Вот-вот, посматривай на них почаще, — сказал брат Пон. — А теперь пойдем. Корить себя за то, что оступился, — удел глупца, у мудрого на это просто нет времени. Поток течет дальше…
Он повел меня в лес, к тому месту, где я не так давно выкорчевал дерево, а затем видел смерть.
— Садись сюда, — велел монах, — и до самого вечера занимайся вниманием дыхания. Мысли, что будут появляться, не отгоняй, но и не пришпоривай, иди за каждой, пока она не исчерпает себя.
И он ушел, оставив меня в одиночестве.
Поначалу ничего не выходило, мешали эмоции, но затем я понемногу успокоился, и дело пошло. Дыхание стало равномерным, я перестал ошибаться в счете, уходить за десятку или пропускать цифры, и поток мыслей обмелел, стал настолько неглубоким, что я смог видеть каждую.
Воспоминание о том, что произошло сегодня… хочется отогнать, но нельзя…
Мысль насчет того, что неплохо бы и поесть…
Беспокойство о делах, оставшихся в Паттайе и в России, хоть и выглядит призрачным, но осталось… О том, как там поживает мой бизнес, точнее то, что от него осталось, как ни крути свое, родное…
В какой-то момент я осознал, что непонятно как, но вижу гору, вздымающуюся к небесам: увенчанная короной белых снегов, одна половина блестит золотом, другая испускает мягкое лазурное сияние, со склонов ниспадают водопады, и блики играют в чистейшей воде.
Этот образ настолько заполонил мое сознание, что я испугался и открыл глаза.
Почти ожидал, что гора окажется передо мной, вырастет над деревьями, закрыв половину неба.
Но нет, вокруг ничего не изменилось.
Я закрыл глаза и вновь обнаружил, что созерцаю белоснежные вершины.
Не оставалось сомнений, что это колоссальный хребет, сравнимый с Гималаями, что я нахожусь от него на приличном расстоянии, но могу видеть все до малейших деталей: роскошные дворцы, что поднимались там и сям на вознесенных к небесам плато, спрятанные в тени густых лесов хижины, черные отверстия пещер и белоснежных склонов, пруды с огромными цветами на поверхности и громадные, ярко раскрашенные птицы вроде попугаев.
И зрелище было настолько прекрасным, что я напрочь забыл о сегодняшних треволнениях.
БУСИНЫ НА ЧЕТКАХ
Мы привыкли думать — постоянно, натужно и много — и не замечаем, насколько часто это не имеет особенного смысла. Ум работает сам по себе, как бесконечно щелкающий калькулятор, изнуряя хозяина, не давая ему отдохнуть, обсчитывает даже то, что нет смысла обсчитывать.
Это тяжелая ноша, и мы взваливаем ее на себя добровольно.
Чтобы понемногу остановить эту машину можно использовать внимание дыхания: считать вдохи, начиная с единицы и заканчивая десятью, а затем начиная сначала. Практиковать эту разновидность медитации необходимо в то время, когда вы чем-то заняты, при любой ошибке, сбое, пропуске нужно возвращаться и начинать сначала.
Слишком усердствовать не стоит, начинать можно и с десяти минут в день.
Понемногу довести до часа, больше — если только процесс доставляет удовольствие.
* * *
Человеческая жизнь — редкостный дар.
Ситуация, когда у нас есть время и возможность задуматься над вещами, выходящими за рамки обыденного, на самом деле уникальна. Ее нужно использовать, причем не откладывая в долгий ящик, поскольку смерть всегда рядом и никто не знает, когда она нанесет удар.
Каждый день, каждый час может стать последним, поэтому у нас нет времени на то, чтобы ныть и заниматься пустяками. Откладывая что-то на потом, мы рискуем потерять единственную возможность, а следующая представится — если представится! — через миллион лет.
Зачем ждать так долго?
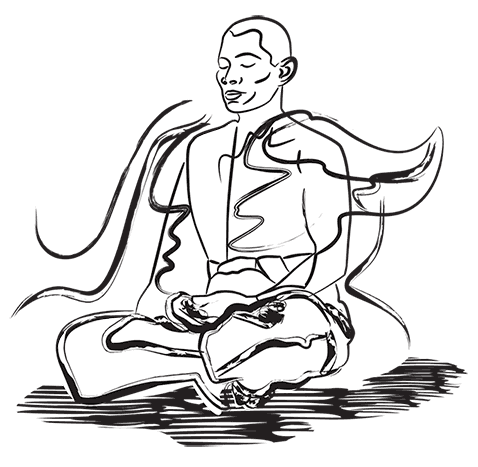
Обычный человек воспринимает себя в первую очередь как тело, как завернутый в кожу набор кусков мяса, костей, жидкостей и прочего. Такой взгляд имеет право на существование, но он делает того, кто его придерживается, уязвимым, хрупким существом.
Куда интереснее осознавать себя потоком восприятия, не имеющим четких границ, изменчивым, текучим. Над подобным существом материальный мир имеет не много власти, оно неуязвимо, для него то, что обычно считается агрессией, ущербом, вредом, является лишь мимолетным ощущением — секунда, и оно осталось позади, уступив место другим впечатлениям.
Поток состоит из пяти струй: текущие события организуют нашу жизнь определенным образом, тело и органы чувств изменяются, поставляют поток впечатлений, функционирует без перерывов механизм эмоций, ум тоже не дремлет, рождая мысли, и позади всего этого находится осознавание — тонкое, почти неуловимое.
Назад: Глава 1. Неправильный монах
Дальше: Глава 3. Колесо судьбы

