Глава 1. Неправильный монах
В городке Нонгкхай, что на севере Таиланда, я оказался, как и многие сотни иностранцев до и после меня, проездом, по дороге в столицу Лаоса, где проще всего оформить тайскую визу.
Автобус из Паттайи опоздал на полтора часа, и я выбрался из него, кипя от раздражения: мало того, что не выспался, ночь просидел в неудобном кресле, отчего все тело ноет, так еще и рискую пропустить «интернешнл бас» до Вьентьяна, а следующего ждать неведомо сколько!
Не глядя по сторонам и не обращая внимания на назойливых таксистов, я ринулся в сторону касс.
И налетел на монаха в потрепанном коричневом одеянии.
Открыл рот, чтобы высказать все о субъектах, что лезут под ноги в самый неудачный момент, но вовремя прикусил язык. Оскорбить служителя Будды прилюдно — верное средство сделать так, чтобы улыбчивые тайцы перестали быть улыбчивыми и кинулись бить нечестивцу морду.
— Прошу извинить… — пропыхтел я на английском, нервно оглядываясь.
Как бы кто не решил, что я обидел монаха!
Сам же обладатель бурой туники смотрел на меня без гнева, даже с легким интересом, темные глаза мерцали. Странно выглядело то, что на голове его имелись волосы, настоящая черная грива, заплетенная в сотни косичек — ведь тем, кто ушел от мира, в буддизме положено бриться наголо.
А затем монах заговорил, и я мигом забыл о его чудной прическе.
— Ничего страшного, — сказал он. — Столкновение пойдет нам на пользу. Обоим.
Язык Шекспира и Черчилля из его уст звучал четко и ясно, без тяжелого акцента, который делает английский среднего тайца неразборчивым до полной абракадабры. Мелькнула мысль, что это должно быть фаранг, чужак, много лет проживший в Стране улыбок и лишь похожий на местного.
— В следующий раз, когда будешь в этих местах, обязательно разыщи меня, — продолжил монах. — Мое имя — брат Пон, и обретаюсь я обычно в вате Тхам Пу, что на берегу Меконга. И я бы на твоем месте не откладывал визит в наши края. Ты переполнен. До опасной степени.
Протянув руку, он осторожно тронул мое предплечье, и от этого прикосновения меня слегка тряхнуло.
— Э, спасибо… — промямлил я, не вникая в смысл того, что мне сказал странный монах. После чего, обогнув его, заторопился туда, где мои соседи по автобусу штурмовали кассу «интернешнл баса».
Сам автобус пока стоял у платформы, но если не поспешить, то он уедет или места закончатся.
Билет мне достался последний и, шлепнувшись на жесткое сиденье, я вздохнул с облегчением. Когда автобус сдвинулся с места, я выглянул в окно, высматривая брата Пона, но его уже и след простыл.
Интересно, что имел в виду этот тип, сказав: «Ты переполнен. До опасной степени»?
Но тут начали раздавать миграционные карточки, и я выкинул монаха из головы.
Про встречу в Нонгкхае я забыл на следующий день — мало ли с кем столкнешься на дорогах Таиланда?
А вспомнил через три месяца, когда жизнь моя неожиданно покатилась под откос. Для начала я расстался с женщиной, с которой прожил несколько лет и даже называл женой, причем разошлись мы со скандалом, обвиняя друг друга во всех смертных грехах и чуть ли не швыряя в стену тарелки.
Затем на ровном месте возникла ссора с родней в России, докатившаяся до почти полного разрыва, и неприятности делового толка, в результате которых я оказался у разбитого корыта. Люди, которым я доверял, оказались пустыми и ненадежными, а тот бизнес, что кормил меня с прошлого века, что позволил мне перебраться на ПМЖ в Таиланд, обрушился, точно карточный домик, и самые отчаянные усилия не помогли его спасти.
И тут я вспомнил брата Пона, а также то, что он говорил о нависшей надо мной опасности.
Пару дней колебался, а затем купил билет на автобус.
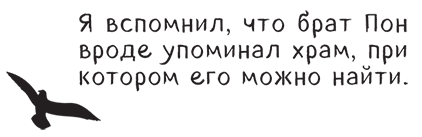
В Нонгкхае я сразу же отправился в ближайший ват, то есть храм, и попытался расспросить, где можно отыскать обладателя коричневой мантии по имени Пон. Первый монах, к которому я обратился, посмотрел на меня с равнодушной улыбкой и пожал плечами, намекая, что по-английски не понимает, второй же, услышав мой вопрос, вытаращил глаза и сбежал.
В другом храме мне без особого буддийского дружелюбия объяснили, что не стоит тратить зря время занятых людей.
Имелся шанс, что нонгкхайские монахи и вправду не знали, о ком я говорю, что наводило на мысли о розыгрыше или безумии того типа, с которым меня свела судьба три месяца назад… Но более вероятным казалось, что они просто не хотят о нем говорить, и тем более с белым иностранцем, с фарангом.
Съев тарелку том-яма в кафешке на набережной, я поскрипел мозгами и вспомнил, что брат Пон вроде упоминал храм, при котором его можно найти… Точно, ват Тхам Пу! И я зашагал в сторону автостанции, вокруг которой гнездятся тук-тукеры, местные таксисты, что должны знать в окрестностях каждый дом.
При виде потенциального клиента обладатели зеленых жилеток с номерами заулыбались, наперебой загалдели, предлагая отвезти меня на границу, в ближайший торговый центр или в «массажный салон» с девочками.
Куда еще может поехать фаранг?
— Ват Тхам Пу! — сказал я, и гвалт стих.
Взгляды, обращенные на меня, полнило удивление и даже опаска.
— Ват Тхам Пу, — повторил я.
Тук-тукеры загалдели вновь, замахали руками, а потом вновь смолкли, и заговорил самый старший, круглолицый и морщинистый.
— Плохо, — сказал он. — Место плохое. Ехать в другое… да?
И он заискивающе улыбнулся.
— Ват Тхам Пу, — сказал я в третий раз. — Монахи?
— Да… — с неохотой признал таксист. — Но… неправильные… талапоин…
Последнего слова я не знал, поэтому только пожал плечами.
Тук-тукер посозерцал меня пару минут, а потом, видимо, убедившись, что я от своей затеи не откажусь, назвал цену.
— За эти деньги я доеду до Бангкока! — возмутился я.
— Да, — подтвердил таксист. — И до ват Тхам Пу. Да, нет?
Я попытался торговаться и ухитрился сбить цену на сто бат, после чего мой собеседник уперся намертво.
Тук-тук у него был раскрашен так ярко, что болели глаза, с крыши свисала бахрома разноцветных ленточек, всюду болтались колокольчики, совсем крохотные и в кулак размером. Тарахтела эта конструкция громче самолетного двигателя, да еще и скрипела, угрожая развалиться на первой же кочке.
Особенно жутко стало, когда мы выехали за пределы города и покатили по проселку. Меконг оказался справа, и потянулись настоящие джунгли без малейшего признака жилья.
Ехали мы чуть больше часа, а остановились на неприметной прогалине.
— Ват Тхам Пу, — объявил мой возница, оборачиваясь, а поскольку имел дело с тупым чужеземцем, еще и показал в ту сторону, куда уходила тропинка.
— Правда? — уточнил я. — Не ошибка?
— Монахи. Талапоин, — вновь повторил он неведомое слово. — Давай-давай. Идти.
Таксист явно ощущал себя не в своей тарелке и хотел убраться отсюда как можно быстрее. Выглядело это странно, учитывая то, с каким почтением и любовью простые тайцы относятся к служителям Будды.
Я пожал плечами и выбрался из тук-тука.
Едва успел забрать с лавки рюкзак, как таксист дал газу и, заложив лихой разворот, укатил прочь.
Вот здорово будет, если он доставил меня не туда, и возвращаться придется пешком…
Минут через десять ходьбы стало ясно, что впереди над зарослями поднимается треугольная крыша храма. Я приободрился и зашагал быстрее — туктукер не обманул, привез к вату, вот только к тому ли, что мне нужен?
Тропинка вывела к откосу, что спускался к реке, и отсюда я увидел больше подробностей: лента узкого навеса с медными колоколами под ним, главное святилище, спускающаяся к реке тропка, мостки. Но в следующий момент я про все это забыл, поскольку дорогу мне загородил брат Пон.
Откуда он взялся, я не понял — справа обрыв, слева непролазные заросли, вперед дорога просматривается метров на сорок. Невысокий крепыш с гривой косичек, облаченный в коричневую тунику, будто сгустился из пустоты.
— А, торопыга с автостанции, — сказал он, разглядывая меня без особого удивления. — Приехал.
— Добрый день, — отозвался я. — А вы что, ждали меня?
— Конечно. С того дня, как Дхарма столкнула нас, я знал, что ты появишься здесь. Пойдем, разделишь с нами трапезу. Разговоры — потом.
И он, развернувшись, зашагал в сторону храма.
Мне ничего не оставалось, как потащиться следом.
Кормили в вате Тхам Пу скромно, вполне аскетически — рисом с вареными овощами. Ели мы под навесом, который располагался позади храма, в тени деревьев, и помимо меня и брата Пона вилками орудовали двое монахов лет тридцати, обритых наголо и похожих друг на друга, словно братья.
Трапеза прошла в полном молчании.
— Не суетись, — сказал брат Пон, когда я вслед за соседями сделал движение встать. — Пока ты гость, и посуду за тебя помоют…
Я благодарно склонил голову.
— Ты же приехал не просто так, — продолжил монах, изучая меня пронзительными черными глазами, в которых мерцали искорки. — Говори, какая нужда привела тебя сюда.
— Вы мне поможете? — спросил я. — Вы тогда… помню… ну, про опасность… полнота еще… и у меня все пошло… ну, наперекосяк… везде, и в личной, и в бизнесе… везде, короче…
Сам понимал, что говорю бессвязно, но язык мой, обычно послушный, в этот раз подводит хозяина.
И неудивительно!
Последние месяцы выдались адски тяжелыми, ведь рухнуло то, что казалось вечным раем, стало ясно, что стабильность и благополучие — всего лишь хрупкая иллюзия, построенная на самообмане.
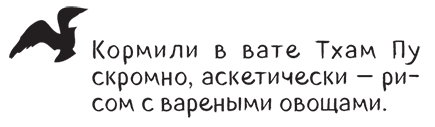
— Страхи, неуверенность, тревоги, надежды, раздражение на то, что идет не так, — полный ворох тех глупостей, которыми наполняет свою жизнь обычный человек, — сказал брат Пон со смешком. — Я могу изменить твою жизнь, но для этого ты должен перестать быть просто гостем.
— То есть?
— Тебе придется остаться здесь. Провести у нас месяц-другой.
— Но я не могу! — воскликнул я. — У меня дела! Я обещал! И вообще…
— Да, ты набит под горлышко разным мусором, — брат Пон более не улыбался, он смотрел на меня почти свирепо. — И этот мусор, который ты принимаешь за сокровища, удушит тебя, превратит твою жизнь в пытку… Чего ты ждал от меня? Мгновенного чуда? Заклинаний?
— Ну, я не знаю… — я смешался.
Впервые задумался, чего я на самом деле хотел от визита в окрестности Нонгкхая — наставления, скорее всего, как мне направить жизнь в нужное русло, действенных молитв или, может быть, каких-то особых буддийских ритуалов, которые помогут мне выбраться из жизненной ямы… не просто так, а в обмен на щедрое подношение.
— Денег твоих мне не надо, — сказал брат Пон, и я вздрогнул.
Он что, читает мысли?
— Возможность ступить на путь к свободе дается один раз в жизни, — продолжил монах, и его голос прозвучал настойчиво. — Ты должен решить до завтрашнего утра, остаешься или нет. Второго шанса ты не получишь. Даже если ты найдешь дорогу к вату, то меня здесь уже не будет.
— То есть как? Вы уедете? Или откажетесь со мной говорить?
Брат Пон не обратил на вопросы внимания.
— Но если ты согласишься принять меня в качестве наставника, пути назад не будет. Отпущу я тебя только тогда, когда сочту нужным, и любой мой приказ станет для тебя законом.
— Но… — попытался возразить я, дать выход поднимающемуся в душе возмущению: грязный хиппи, облачившийся в монашеское одеяние, хочет сделать из меня посмешище, ручную обезьянку?
Брат Пон наклонился и взял меня за запястье.
И вновь, как на автостанции, меня тряхнуло, словно через мускулы пробежал слабый разряд тока. В этот раз я осознал, что мне нравится это ощущение, что на миг я ощутил необыкновенную легкость в теле и голове, будто сбросил груз, который, сам того не замечая, таскаю на себе постоянно.
— Нет времени на споры, — сказал брат Пон. — Лишь на то, чтобы принять решение. Пустота вызывает в тебе отклик, и это значит, что ты небезнадежен. Гуляй где хочешь. Размышляй. Завтра на рассвете мне нужен ответ. Ты уходишь совсем либо ты мой ученик.
Он легко поднялся и утопал прочь, оставив меня, онемевшего, в плену мучительных сомнений.
— Что это? — осведомился я, разглядывая аккуратный сверток бурой ткани, поверх которого стояли плетеные сандалии.
Брат Пон вручил мне это все с крайне торжественным видом.
— Твоя одежда. Антаравасака и все прочее.
— Так вы все же хотите сделать меня монахом? — я сдвинул сандалии в сторону и обнаружил, что сверток состоит из нескольких кусков ткани разного размера, формы и оттенка.
— Ни в коем случае. Но на послушника ты походить должен. Иначе будут вопросы — кто ты такой и что здесь делаешь.
— Но кто их будет задавать?
— Не в такой уж глуши находится наш ват, — брат Пон покачал головой. — Переодевайся.
— Но… вы же не хотите, чтобы я поверил в Будду и все такое? — спросил я с беспокойством.
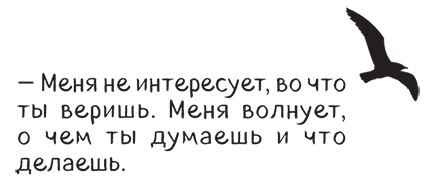
Откровенно говоря, не хотелось вылезать из привычных шорт и рубахи, облачаться непонятно во что. Кроме того, терзало подозрение, что, поддавшись на уговоры, я предам религию предков, хотя я в церковь не ходил ни разу в жизни, да и родители там не бывали.
— Меня не интересует, во что ты веришь. Меня волнует, о чем ты думаешь и что делаешь.
— Но вера горами двигает!
— Настоящая — да. Только часто ли ты ее встречал?
Я пожал плечами.
Ну да, я знал православных, которые блюдут пост, держат дома иконы и ходят на исповедь, но способны ради прибыли в сто рублей удавить ближнего. Видел мусульман, цитирующих по памяти Коран на арабском, но пьющих по-черному, сталкивался с типами, что гордо рассуждали о своей духовности, но бегали за каждой юбкой, попавшейся им на глаза.
Верил ли кто из моих знакомых искренне? Не знаю…
— То, что называет верой обычный человек, на самом деле нелепое скопление предрассудков. Дурацкая привычка, способ описывать себя, картинка, одна из граней иллюзии. Давай, переодевайся… ты же согласился остаться, а значит, должен исполнять мои приказы, — добавил брат Пон с улыбкой.
На это возразить было нечего, и я потянул с себя рубаху.
— Мне не нужно слепое подчинение, — продолжил монах, наблюдая, как я разоблачаюсь. — Смысл каждого действия будет тебе объяснен, только иногда не сразу. Сегодня ты должен отказаться от всего, что принес с собой, от того, что символизирует старую жизнь.
— От всего? — спросил я, чувствуя, как в душе закопошились когтистые подозрения.
— Давай, покажу, как это носить… — брат Пон легко вскочил и жестом велел мне встать.
Я поднялся, чувствуя себя дурак дураком, поеживаясь и морщась.
Тот навес, под которым меня кормили вчера, служил обитателям вата столовой и гостиной. Жилые «строения» располагались неподалеку — крохотные сарайчики со щелястыми стенами и матрасами на полу, вполне годные для того, чтобы защитить от капризов мягкой тайской погоды.
Один из них выделили для меня, и я провел бессонную ночь, ворочаясь на непривычном ложе и вслушиваясь в писк и визжание, доносившиеся из погруженных во мрак джунглей.
— Вот так, отлично, — сказал брат Пон, отступая на шаг. — Осталась только голова.
— Но я… — расставаться с волосами не хотелось. — Но вы же носите косички!
— О, на самом деле прическа не имеет значения, — заявил монах с ехидной усмешкой. — Для того, кто сам не имеет значения для себя… но это же не о тебе, правда? Кроме того, вспомни — нет времени спорить!
Я вздохнул и покорился неизбежному.
Брат Пон извлек откуда-то из недр своего одеяния огромную старую бритву с пятнами ржавчины на лезвии. Когда этот предмет очутился рядом с моей головой, я закрыл глаза, думая о том, что вскоре стану гордым обладателем исполосованного шрамами черепа и бонуса в виде заражения крови.
Но процедура оказалась на удивление быстрой и безболезненной: легкое прикосновение ко лбу, клочья волос щекочут лицо и уши, холодок расползается от макушки к затылку, и вот я уже сижу, ощупывая череп и пытаясь свыкнуться с новой прической.
— Зеркала не дам, — заявил брат Пон, убирая бритву. — Но выглядишь ты неплохо. Так, теперь давай сюда все, что ты привез с собой…
Я напрягся.
— Что там такого, без чего ты прожить не можешь? — взгляд монаха стал напоминать булавку, и я затрепыхался насаженной на него бабочкой. — Сотовой связи тут все равно нет. Одежду мы тебе предоставим… деньги тебе не понадобятся… ну, что?
Я открыл рот, собираясь сказать, что привык к определенным вещам, к тому, что у меня всегда… И тут же понял, что все это ерунда, что из крохотного сарая, ставшего моим жилищем, я не создам комфортного гостиничного номера и что никакие предметы мне в этом не помогут.
— Давай, неси вещи. Посмотрим, что у тебя там, — велел брат Пон.
Рюкзак он изучал с видом дотошного таможенника, разыскивающего контрабанду. Заглядывал внутрь мельком, ничего не вытаскивал, но возникало ощущение, что все взвесил и оценил.
— Зубную щетку и пасту можешь оставить, — сказал монах, вынимая названные предметы из кармана. — И еще бритву с кремом. Остальное пока будет храниться у меня.
Удивительно, но в этот момент я ощутил не раздражение по поводу того, что меня лишают практически всего, а горячую благодарность за то, что мне позволили оставить хоть что-то!
Завтрака обитателям вата Тхам Пу не полагалось, а на обед я получил тот же рис с овощами. Мне выделили старую деревянную миску, и на этот раз я помыл свою посуду сам, вместе с двумя монахами помоложе спустившись к Меконгу, да еще и помог им отскрести кастрюлю.
Попытка затеять разговор успеха не имела — то ли служители Будды и в самом деле не знали английского вообще, то ли брат Пон запретил им общаться со мной, но в любом случае они лишь улыбались и разводили руками.
Я же по-тайски мог произнести лишь несколько слов.
Но все это, как и скудная трапеза, меня не расстроило, поскольку, избавившись от вещей, я пребывал в неожиданно благодушном настроении. Проблемы, одолевавшие меня последнее время, отступили на приличное расстояние, остался только я сам, почти не имеющий к ним отношения.
— Пойдем, — сказал брат Пон, когда мы вернулись с реки. — Займемся делом.
Я приободрился, думая, что сейчас меня начнут учить медитации.
— Вон там, в сарае, ты найдешь лопату, — продолжил монах, и эта фраза опустила меня с небес на землю.
Лопата? Но зачем?
Ответ на этот вопрос я получил быстрее, чем хотелось бы.
Мы оставили храм за спиной и углубились в джунгли, но лишь для того, чтобы остановиться у дерева, что выглядело бы высохшим, если бы не небольшой пучок зеленых листьев на верхушке.
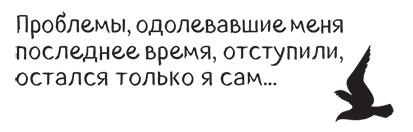
А так ничего особенного — серая морщинистая кора, ствол толщиной в руку, высотой метров в пять.
— Ты должен его выкорчевать, — сказал брат Пон.
— Зачем? — спросил я, ощущая разочарование и недовольство.
Ждал медитаций и великих истин, а вместо них подсунули скучную и тяжелую работу.
— Потом узнаешь. И надо справиться до заката, иначе толку не будет.
И он уселся чуть в сторонке, скрестил ноги и положил руки на колени.
Ну а я принялся за дело.
Земля оказалась мягкой, лопата, несмотря на помятый вид, острой, и я воспрянул духом. Прокопал вокруг дерева канаву и принялся ее углублять, насвистывая засевшую в голове мелодию к песне Земфиры.
Но вскоре стало ясно, что не все так просто.
Зловредное дерево обладало громадным количеством корней, узловатых и прочных, каких не разорвать руками, и даже лопатой разрубить получалось не с первого раза…
Солнце палило через кроны, и я быстро вспотел.
Лишенную волос голову жгло, непривычная одежда сковывала движения, мешала. Пыль и грязь оседали на лице, залезали в глаза, и те чесались все сильнее и сильнее. Хотелось пить, но воды мы с собой не захватили, и пересохшая гортань все более напоминала наждак.
— Чувствуешь ли ты жажду? — неожиданно спросил брат Пон.
— Да, — радостно отозвался я.
Да, вот сейчас он сотворит чудо и вытащит из-под одежды флягу…
— Это хорошо, — в голосе монаха было лишь удовлетворение и ни следа жалости. — Жажда — это то, что заставляет нас меняться, вынуждает нас двигаться, без нее мы были бы самодовольными ленивыми животными…
Я кивнул и еще более ожесточенно заработал лопатой.
Вскоре на ладонях у меня появились мозоли, а сандалии натерли ноги в нескольких местах. На запах моего пота из зарослей явились комары и с радостным зудением ринулись в атаку.
Яма под деревом достигла такого размера, что в ней поместилось бы трое пехотинцев, тайских, по крайней мере, но корни не заканчивались, а моя попытка выдрать мерзкое растение, дергая за ствол, ни к чему не привела. Я только сорвал одну из мозолей и вынужден был сунуть руку в рот, чтобы унять боль.
Кинул гневный взгляд на брата Пона… неужто он не видит, как мне фигово?
Но монах выглядел невозмутимым.
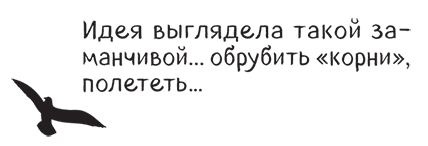
— Ты и это дерево очень похожи, — подал он голос, когда я снова взялся за лопату и едва не заехал острием себе по ноге: еще пара сантиметров, и я остался бы без большого пальца на левой.
— Чем же?
Но брат Пон промолчал.
В один момент я вынужден был встать на колени и рубить лопатой почти горизонтально, чтобы добраться до корней, уходивших прямо вниз. Затем удалось повалить дерево набок, и дело пошло веселее, да и солнце понемногу начало клониться к закату, и жара спала.
Когда последний корень лопнул с мерзким хрустом, у меня от усталости тряслись руки, голова кружилась от горького запаха древесины, и больше всего хотелось с проклятием отшвырнуть лопату прочь.
— Молодец, ты справился, — сказал брат Пон. — А теперь садись и слушай.
Я буквально рухнул наземь, мелькнула мысль, что, умирая от усталости, вряд ли сумею понять хоть что-то.
— Ты и это дерево — похожи, — повторил монах. — Обычный человек устроен так: ствол и сотни корней-привязанностей, толстых и тонких, хорошо заметных и едва различимых. Таких, которые он осознает как пороки, и других, которые считает безобидными привычками. Меж тем именно они мешают ему жить, не дают шанса сдвинуться с места. Чтобы изменить свою жизнь, необходимо перерубить их все.
— Но дерево без корней погибнет… — возразил я.
— Конечно, — брат Пон улыбался. — Но его существование не прекратится совсем. Сущность, известная нам как «дерево», станет чем-то иным… То же самое и с человеком… Не смерть ждет того, кто уничтожит свои привязанности, а лишь другой способ жизни, куда более вольной и легкой.
Идея выглядела заманчивой… обрубить «корни», полететь…
Но возможно ли такое? И сколько времени это займет?
Если их тысячи и нужно уничтожить каждую… десять, пятьдесят лет?
— Самый толстый корень-привязанность, из которого растут сотни других, — склонность лелеять свое невежество, отсутствие знания, — настойчиво продолжил брат Пон, не давая мне слишком углубиться в сомнения.
— Но знаний у меня более чем достаточно! — не выдержал я. — Высшее образование! Институт и…
— …и помогло тебе образование, — перебил монах, — когда дошло до реальной жизни? Да, почти любой западный человек таскает с собой ворох сведений о всякой всячине, и что с них толку, если они не делают его свободнее, сильнее, счастливее? Или я неправ? Вспомни!
Ну да, профессора, которых уличный мошенник облапошит на раз-два, несмотря на все их научные степени. Гордящиеся умом и кругозором всезнайки, поступающие как идиоты, во вред себе, неспособные контролировать себя даже в мелочах, тратящие жизнь на мелочные доказательства мощи собственного интеллекта.
— Я не хочу сказать, что наука и образование — это плохо, — мягко сказал брат Пон. — Надо лишь понимать, что они не дают истинного знания, не помогают использовать эту жизнь правильным образом.
— И самое тяжкое невежество — вера в то, что твой ограниченный разум постиг все, — продолжил он. — Человек, живущий по такому принципу, добровольно заключает себя в клетку и выкидывает ключ. И в этой жизни с ним уже ничего нельзя поделать. Совсем.
Я встрепенулся:
— А жизней у каждого много?
— О них мы поговорим в другой раз, — брат Пон поднялся одним движением. — Достаточно на сегодня.
— Но зачем было все это? — спросил я, указав на выкорчеванное дерево. — Нельзя… Нельзя было просто объяснить?
— А ты бы стал слушать? — улыбка на его физиономии сияла детская, проказливая. — Слова мало чего стоят, если не подкреплены делами и опытом, и я дал тебе такой опыт, который ты никогда не забудешь.
Тут он не ошибся…
Сорванные мозоли, натруженная спина, бедра и икры, болевшие так, что я с трудом смог встать. Обгоревшая, судя по саднящей коже, голова, зуд от комариных укусов и пересохшая от жажды глотка…
Такого опыта не получишь в офисе или даже когда работаешь на удаленке, прямиком с пляжа, посасывая через соломинку ледяной коктейль и лениво поглядывая на девчонок в бикини.
Да, если и все прочие «уроки» будут обставлены таким образом, то я просто не выдержу, дам дуба через пару недель или сбегу ночью потемнее, выкрав предварительно свои вещи…
— Собирайся, идем в деревню, — сказал брат Пон, заглянув под навес, где я медитировал над своими корнями-привязанностями.
Вчера вечером монах велел мне хорошенько подумать над ними, разобраться, на что я трачу свою жизнь, каким образом разбазариваю драгоценное время. Приказал составить перечень вещей, которым я предаюсь по своей воле, считая их источником удовольствия, нормой или социальным долгом.
По всему выходило, что я много лет не просто занимался ерундой, так еще и давал этой ерунде власть над собой.
Хотелось высечь себя хорошенько за то, на что я убил почти четыре десятилетия!
— Да, — отозвался я, поднимаясь.
— Не стоит отдаваться в руки печали, — брат Пон, как обычно, хорошо понимал, что творится у меня на душе. — Итогом размышлений должны быть не сожаления, а радость и готовность действовать.
— Но как? Я же не знаю как!
— Оружие у нас одно — осознание. Привязанности сильны, пока ты их не видишь. Разглядывай их со вниманием, не осуждая себя за то, что они у тебя есть, и они начнут чахнуть. Вытащи корни на солнечный свет — и что с ними будет? Засохнут и погибнут, — он сделал паузу и добавил: — Чего ты ждешь? Обувайся, и пошли.
Ну да, большой плюс того, что у тебя нет вещей, — не тратишь время на сборы.
— Э, давно хотел спросить… — начал я, когда храм остался позади и мы зашагали по тропе на запад, вдоль берега Меконга. — Почему вас называют «неправильным монахом»? И что такое «талапоин»?
Брат Пон, шедший впереди, оглянулся.
— И чем это знание поможет тебе? — спросил он с преувеличенной суровостью. — Дисциплинируй свой ум, не позволяй ему бродить точно бешеной собаке, и лишь тогда он станет оружием, подобным алмазной ваджре, способным… — тут монах рассмеялся. — Почему называют? Неужели не ясно?
И он встряхнул головой, которую венчала копна черных косичек.
— Много лет я был смиренным служителем Будды, одним из многих тысяч, — сказал брат Пон тихо и серьезно. — Но теперь я оставил все позади: Будду, смирение, молитвы. Так, разговоры в сторону…
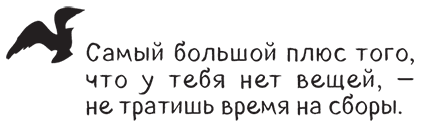
Впереди обнаружился овраг, не очень глубокий, но с крутыми стенками и зарослями кустарника на дне.
Перекинутое через него бревно изображало мостик.
— Идем по одному, поскольку оно не очень крепкое, — предупредил меня брат Пон и легко, с кошачьей грацией перебежал на другую сторону. — Твоя очередь. Давай-давай!
Я ступил на бревно с опаской — если потеряешь равновесие, то улетишь вниз, в сплетение усаженных шипами ветвей, где мало того, что обдерешься, можешь еще и сломать себе что-нибудь!
Еще эти сандалии — неудобные, со скользкими подошвами.
Деревяшка подо мной треснула с громким «крак», я судорожно замахал руками. Попытался прыгнуть вперед, туда, где ждал брат Пон, но под ногами оказалась только пустота.
А в следующий момент я вошел в кустарник, точно прыгун с вышки — в воду.
Вот только вода не бывает такой колючей.
К счастью, я ничего не сломал и не вывихнул, только оцарапался, но, выбираясь из оврага, кипел от злости. Брат Пон наблюдал за мной с самым серьезным видом, но в черных глазах его нет-нет, да и посверкивали смешинки.
— Вот так лучше, — заявил он, помогая мне привести в порядок одеяние послушника. — Вот видишь, даже бревна под тобой ломаются, настолько ты тяжел…
— Да неправда это! — обидчиво заявил я: — Если и есть лишний вес, то немного, килограмм пять-шесть.
— Да ну? — монах посмотрел на меня с сияющей улыбкой, и я не выдержал, отвел взгляд. — Я оставил позади все, а ты по-прежнему тащишь с собой баулы со всякой всячиной: иллюзии, привычки, страх опозориться, желание выглядеть хорошо и достойно. Или ты думаешь, что все эти вещи не весят ничего? Тяжелее свинца!
— Мост придется восстановить тому, кто сломал, — продолжил он после небольшой паузы. — Сегодня. И учитывая, что ты весишь как слон, используем не одно дерево, а два.
Я вздохнул, думая, что к не успевшим зажить мозолям добавятся новые.
— А ты как думал? — брат Пон похлопал меня по плечу. — Ты не в отпуск приехал.
Вскоре тропинка вывела нас к дороге, и на обочинах начали попадаться пустые бутылки из-под молока, колы и пива, упаковки из разноцветного пластика — верный признак того, что неподалеку живут тайцы, для которых в обращении с мусором существует один принцип: кидай под ноги.
Сзади долетело бурчание мотора, и мимо пронесся юнец на мотобайке.
Резко затормозил и слез с седла, чтобы отвесить уважительный поклон брату Пону. На меня же он вытаращился с удивлением и тоже поклонился, но куда менее уверенно.
Затрещал стартер, и байк рванул прочь.
— Ну, может быть, мне не ходить… — начал я несмело. — Еще людей пугать…
В одеянии, которое я таскал второй день, чувствовал себя по-прежнему неуютно. Кроме того, рядом с ловким братом Поном я смотрелся неуклюжим громилой, свежевыбритая макушка обгорела и наверняка выглядела потешно.
— Стесняешься? — спросил монах. — Боишься, что выглядишь как идиот?
Признаваться было стыдно, но мысль о том, чтобы соврать, показалась мне отвратительной. Так что после недолгой внутренней борьбы я кивнул и мрачно уставился куда-то на носки своих сандалий.
— Не стоит переживать, — сказал брат Пон тоном взрослого, утешающего ребенка. — Именно так ты и выглядишь!
Я вздрогнул.
— Но ты пойдешь со мной в деревню, и я сделаю так, чтобы тебя увидели и запомнили. Пойми, тот образ себя, который ты считаешь красивым и правильным, всего лишь создание твоего ума, и не более того. На самом деле ты можешь от него отказаться в любой момент или сменить на другой, только ты этого не хочешь.
— Почему?
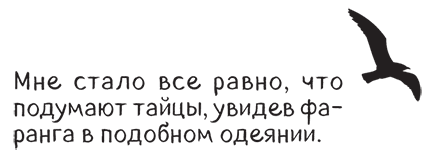
— Этот образ служит для твоего «я» доказательством того, что оно существует. Ликвидируй твое представление о себе — и что останется?
Услышав такое, я испытал прилив немотивированной паники, возникла мысль, что стоящий рядом со мной человек хочет меня убить, что он наверняка прячет оружие — нож или что похуже.
— Это лишь порождение твоего ума, — настойчиво повторил брат Пон. — Оставь его. Скинь, как ты скинул ту одежду, в которой приехал сюда… На самом деле нет разницы… То и другое лишь форма, видимость, за которой нет ничего…
Я моргнул, и паника отступила, рассеялась, душу окутала звенящая, мягкая тишина. Мне стало все равно, как я выгляжу, что подумают тайцы, увидев фаранга в подобном одеянии посреди селения, куда вряд ли ездят туристы.
— Да, я понял, — сказал я, и мы двинулись дальше.
На окраине деревни, состоявшей из единственной улицы, нас встретили собаки.
Подобная свора обитает во всяком переулке-сои каждого из тайских городов, кормится при любом рынке, магазине или ресторане. Разве что здешние псы выглядели еще более дикими, чем их паттайские или бангкокские сородичи, и необычайно активными, особенно для середины дня.
Вожак, черный и мохнатый, как медведь, ткнулся носом в ладонь брата Пона, а меня обнюхал с недоверием. Один из барбосов поменьше гавкнул пару раз, но без враждебности, и псы потрусили прочь, в тенек.
Я собак не люблю и даже побаиваюсь, но к этим отнесся равнодушно.
Мы зашагали дальше, по обочине, мимо выстроившихся в ряд хижин, что выглядели немногим основательнее моего жилища. Под навесом у ближайшей обнаружился дряхлый старик в кресле — на столике рядом с ним стояла открытая бутылка рома, а у ног ползали двое голых малышей.
— Вот она, человеческая жизнь от старта до финиша, — проговорил брат Пон. — Начиная с тех, кто еще не может ходить, и заканчивая тем, кто уже не в состоянии ходить. Только если под себя.
Над стариком кружились мухи, и он выглядел бы мертвым, если бы не шевелился время от времени.
От дома на другой стороне улицы к нам бросилась дородная женщина средних лет. Упала на колени перед братом Поном, сделала ваи — тайское приветствие со сложенными перед лбом руками — и залопотала что-то.
Монах склонил голову набок прислушиваясь, я замер столбом рядом с ним.
Женщина перестала тараторить и застыла, часто-часто моргая, уставившись на моего спутника с робкой надеждой. Он что-то ответил, положив руку ей на голову, и улыбнулся так, что обитательница селения затрепетала.
Вскочив на ноги, она заторопилась обратно к дому.
— Ее муж болен, — сказал брат Пон, глядя женщине вслед. — Врачи помочь не могут.
— А вы? — спросил я.
— Я мог бы, но делать ничего не стану. Такое вмешательство не улучшит ее кармы. Его, кстати, тоже.
— Но разве помогать другим — не благородное дело? — я нахмурился.
— Чтобы помогать другим, ты должен видеть, в чем именно заключается помощь, и быть в состоянии ее оказать. Разве способен на такое обычный человек, ослепленный невежеством, чья жизнь — хаос, беспросветный плен у собственных желаний, страхов и иллюзий?
— Многие способны! — возразил я. — Подают милостыню, работают волонтерами! Неужели это все зря?
— Активные «творцы добра» иногда приносят больше вреда, чем пользы, и себе, и другим. Укрепляют свое эго представлением о том, что совершают нечто нужное и важное. Благотворительность, милостыня — все это нужно обычным людям, живущим простой жизнью, чтобы они не превратились в зверей, но тот, кто хочет идти дальше, должен отбросить мысли о таких вещах.
— Но почему? Я не понимаю! — я просто кипел от возмущения.
Понятно теперь, почему его именуют «неправильным монахом», ведь он говорит вещи, идущие вразрез с учением Будды! Тот призывал к милосердию, к состраданию, брат же Пон утверждает, что и в том и в другом нет смысла!
— Вот простой пример, — сказал он. — Зашел к тебе сосед, попросил денег взаймы. Немного, сущий пустяк… Как ты поступишь в данной ситуации? Как оценишь поступок?
— Естественно, я дам, — отозвался я. — И тем самым помогу человеку, сделаю добро.
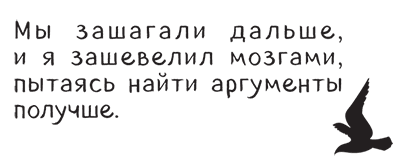
— Отлично, запомним это, — брат Пон улыбался, как дорвавшийся до сметаны котяра. — Сосед взял твои деньги, пошел в магазин, купил виски, выпил и пьяным попал под машину. Насмерть. И теперь что ты можешь сказать насчет совершенного тобой добра? Может быть, это было зло?
— Но я же не мог знать…
— Вот именно! Не мог! — воскликнул монах. — И когда слепой лезет «помогать», что будет? Как ты смеешь вмешиваться в жизнь других людей, будучи не в состоянии видеть последствия своих поступков? Не наведя порядка у себя в доме, суешься в жилье соседа?
— Но многие же это делают.
— Да, и знаешь почему? А потому, что решать проблемы другого проще, чем свои.
На это я не нашелся, что ответить.
— Пойдем, — сказал брат Пон. — Нечего стоять на солнцепеке, особенно тебе.
Только в этот момент я сообразил, что солнце жарит, по лицу моему течет пот, а макушка просто горит. Так глубоко ушел в разговор, увлекся, что забыл о том, где нахожусь и что творится вокруг.
Но с тем, что говорил брат Пон, я не хотел и не мог согласиться!
Мы зашагали дальше, и я зашевелил мозгами, пытаясь найти аргументы получше: мы, люди, являемся людьми во многом потому, что помогаем друг другу, и если перестанем это делать, то… а с другой стороны, много ли пользы от советов по поводу семейной жизни, которыми наделяет всех тетка Дарья, пережившая три скандальных развода? Разве что она сама напоказ гордится собственной добротой и готовностью помочь другим!
Тем временем мы оказались у дверей крохотного магазинчика, над дверью которого болталась выцветшая реклама пива «Лео». Брат Пон нырнул внутрь, я последовал за ним, в наполненный жужжанием вентилятора полумрак.
За стойкой, рядом с покосившимся холодильником обнаружился тщедушный продавец в цветастой рубахе. Улыбнувшись, он обнажил превосходный набор огромных гнилых зубов и поднялся с табурета.
Они с монахом коротко поговорили, и мы вышли обратно на улицу.
— Насчет того, почему я не вмешался и не сотворил маленькое чудо… — проговорил брат Пон задумчиво. — Однажды к Будде пришла женщина, только что потерявшая сына, и попросила вернуть его. Просветленный сказал, что сделает это, если она принесет ему горчичное зерно из дома, где никто никогда не умирал. Окрыленная, женщина отправилась в путь, но ни в своей деревне, ни в соседней не смогла отыскать такого дома… И тогда она постигла истину, и вернулась к стопам Будды, но уже не как проситель, а как ученица…
— Какую истину? Что все мы умрем? — спросил я мрачно.
— О том, что смерть — неизбежна, старость… — с лучезарной улыбкой он махнул в ту сторону, где под навесом сидел старик, — неизбежна, болезни… — указал на дом, из которого выбежала полная женщина, — неизбежны… Жизнь с рождения до гибели — мука. Соединение с тем, что не нравится, — страдание, разъединение с тем, что нравится, — страдание, неумолимое течение перемен, что вырывает из рук все самое дорогое и ценное, — страдание.
Брат Пон говорил нараспев, точно цитировал некий священный текст, и мороз бежал у меня по коже, и свирепое тайское солнце казалось вовсе не таким горячим. Мир словно окутывала темная пелена, ее пряди струились над домами, залезали в окна, тянулись к горлу ничего не подозревающих людей, чтобы выпить из них радость, счастье, веселье.
— Все то, что человек считает своим, считает собой, причиняет ему страдание, — продолжил монах. — А сама мысль о том, что есть некое «я», и может существовать нечто, ему принадлежащее, возникает благодаря невежеству, благодаря алчности, благодаря желаниям.
— Алчность? — выдавил я. — Если перестанешь жадничать, то не будешь страдать?
— Да. Но алчность относится не только к деньгам, она касается практически всего. Неутолимая жажда новых знаний ничуть не лучше, чем страсть обжоры набивать свою утробу, любовь пьяницы к вину ничуть не предосудительней, чем склонность путешествовать без цели и насыщать глаза впечатлениями.
— Но если убрать из жизни все удовольствия, она станет скучной и безрадостной! — возразил я.
— Да, а ты пробовал? — сказал брат Пон, ухмыляясь не хуже арбузной корки. — Вот я, лишивший себя большей части привязанностей, и вот ты, человек, живущий якобы полноценной жизнью… И кто из нас ищет помощи у другого? Тешат ли тебя твои «удовольствия», которые подобны наслаждению прокаженного, что расчесывает свои раны и прижигает их раскаленным железом? Похож ли я на индивида, чье существование лишено радости, наполнено лишь скукой? Видел ли ты меня унылым? Разочарованным?
На это я не нашел что возразить — обитатели вата Тхам Пу всегда пребывали в состоянии ровной доброжелательности, не упускали случая пошутить и совсем не напоминали мрачных святош-фанатиков.
Понятно, что я провел среди них всего несколько дней, но не сомневался, что этим людям вряд ли ведомы такие вещи, как разочарование и депрессия.
— Вот тебе тема для сегодняшней медитации, — продолжил монах после паузы. — Вечером, на закате попробуешь опровергнуть мои доводы, и я с удовольствием тебя послушаю… Еще раз повторяю, мне не нужна от тебя слепая вера, ты должен понимать, что и зачем ты делаешь. А сейчас нам пора идти, ведь под тяжестью твоих выдающихся достижений сломался мост, и это значит, что возвращаться придется в обход, а это несколько дольше, чем по прямой.
Я понял, что краснею, но потом глянул на смеющегося брата Пона, и сам не выдержал, заулыбался.
БУСИНЫ НА ЧЕТКАХ
Нельзя начать новую жизнь, не отказавшись от прежней хотя бы частично.
Невозможно положить что-то новое в шкаф, забитый рухлядью, сначала нужно что-то оттуда убрать.
Первый шаг может быть символическим — избавление от фрагмента личной реальности, не имеющего ценности, от предмета, что давно не нужен, но хранится по каким-то сентиментальным соображениям или просто потому, что до него сто лет не доходили руки.
Нужно создать маленький кусочек пустоты, что послужит катализатором перемен. Крохотная жертва не возымеет эффекта, но и перебарщивать не стоит, излишне резкие телодвижения на начальном этапе способны только навредить.
* * *
Тысячи привязанностей к людям, вещам, животным мешают нам быть свободными, и первый шаг к избавлению от этих «корней» — осознать их наличие.
Все, на что мы по собственной воле тратим свободное время, должно быть рассмотрено заново с точки зрения того, насколько эти вещи ограничивают нашу свободу: хобби, домашние животные, соцсети, коллекции, пустой треп по телефону, телевизор.
Нужно составить список таких привязанностей, и лучше в письменном виде.
А затем наблюдать за своими «корнями», отмечать, каким образом, когда, насколько часто проявляет себя каждый из них. Ни в коем случае не стоит осуждать себя за потакание слабостям, за неспособность победить их сразу, и не пытаться бороться с ними напрямую, в лоб.
Это верный путь к поражению и разочарованию в себе.
* * *
Помогать другим может лишь тот, кто сумел помочь самому себе.

Человек не в силах предсказать последствия собственных поступков, которые он считает добром. Поэтому в чужую жизнь нужно вмешиваться предельно аккуратно, а по возможности лучше не вмешиваться вообще.
Для начала нужно навести порядок в своей.
Назад: Предисловие
Дальше: Глава 2. Дыхание смерти

