Книга: Тень евнуха
Назад: Часть III. Allegro (Cadenza)
Дальше: Часть IV. Adagio (Choral: es ist Genug!)[181]
7
Амору, Арменголь, Арруфат, Айатс, Бальестер, Баталье, Гомес Фарре, Женсана, Каррерас, Кодина, Коломер, Комерма, Марсет Риус, Марсет Солер, Пужоль, Пуч, Рамио, Регуант, Феррер, Эскайола. Таков мог бы быть список самых выдающихся фамилий города Фейшес, сыновья которых оканчивали среднюю школу и которые искали подходящее место для обучения своих отпрысков в старших классах.
Все эти отпрыски, Микель, родились в сорок седьмом году. В середине пятидесятых годов была опубликована принадлежавшая мне небольшая научная работа (я называл ее тогда Tractatus), посвященная поэтам Карне, Риба и Фошу, и престиж Маурисия Сикарта, Безземельного, в тайных и подпольных узких кругах местных интеллектуалов понемногу возрастал. Мое сердце все еще было разбито великим предательством со стороны того, кого дали мне взамен отца, и я находил убежище в музыке, единственной возможности проявить неповиновение. И иногда ходил на могилу своего приемного отца, проклинал его и чувствовал себя лучше. И все библейские проклятия, предназначенные для тех, кто плюет на могилу своих родителей, падали на мою голову и на головы потомков моих до седьмого колена. Обрати внимание, насколько плачевна моя судьба: я знаю место, где похоронена моя мать Карлота, но где похоронены мой отец и мой любовник, я не знаю. Моего отца приговорили к посмертной жизни за пределами кладбищенских стен за то, что у него в последний час не хватило мужества не умереть от любви. И семейство Женсана не проявило особенного интереса к тому, где его похоронили. При перестройке кладбища его могила исчезла. А когда погиб мой Микель, его мозги забрызгали стену магазина «Одеяла» на улице Жонкерес, и кости его лежат среди костей других несчастных, расстрелянных на пустыре Камп-де-ла-Бота, в общей могиле, которую я так и не смог найти. Там его и похоронили, как какого-нибудь Моцарта. И мне было очень приятно, что Кодина, Марсет, Пуч и Регуант считали меня настоящим эрудитом, и мне был открыт свободный вход на все самые интересные заседания Общества любителей искусств. Только это мне и оставалось. В то время я посчитал бы за несчастье, если бы люди узнали, что Маурисий Сикарт-и-Женсана одновременно является Маурисием Безземельным и Маурисием Нелюбимым, полноправным наследником состояния, от которого его заставили отказаться, поскольку его приемный отец пригрозил ему, что растрезвонит по всей округе, что он не женился, потому что в памяти его жила большая любовь по имени Микель, и не ходил к проституткам, как все добрые люди, потому что был воплощением зла. Я молча пережил свое несчастье и восторжествовал, когда твой дед Тон умер. И моей Пятой Большой Симфонией стало то, что твой отец, который мог бы вернуть все на свои места, ничего для этого не сделал. Он просто-напросто оставил все себе и даже не спросил меня, хочу ли я работать на фабрике, которая в течение нескольких месяцев была моей. Я так и не узнал, знал ли Пере о том, как шантажировал меня отец, потому что о таких вещах мы никогда не говорили. А ведь мы были друзьями неразлейвода, но невидимая стена выросла между нами с того момента, с того года, когда родился Микель Второй. Я говорю тебе об этом для того, чтобы ты знал, что между друзьями иногда тоже такое бывает: возникают такие пропасти, о возможности появления которых никто даже и не подозревал. Надеюсь, что с тобой такого никогда не произойдет, Микель Второй, школьными товарищами которого были Комерма, Айатс и Бальестер. Ты начал свой жизненный путь обернутым мягкой ватой и вскоре стал жертвой стремления твоих родителей дать тебе превосходное образование, даже не подозревавших, что я и так мог его тебе дать, совершенно бесплатно и к тому же с любовью. И потому, не придавая значения нашим прогулкам по каштановой аллее или по портретной галерее, где я рассказывал тебе о тайнах жизни, Пере Женсана, несмотря на слабое сопротивление своей жены, выбрал из ряда возможностей, которые знатные семьи Фейшеса (Амору, Арменголь, Арруфат, Айатс, Бальестер, Баталье, Гомес Фарре, Женсана, Каррерас, Кодина, Коломер, Комерма, Марсет Риус, Марсет Солер, Пужоль, Пуч, Рамио, Регуант, Феррер и Эскайола) считали достойными для образования своих детей, несколько неудобный, но достаточно престижный вариант. «Отправим его в Барселону, в более престижную школу, чем самые престижные школы в Фейшесе». В некоторых случаях (Комерма, Баталье, Бальестер, Марсет Риус и Гомес Фарре) выбор падал на удаленные интернаты, что придавало семье еще больше статуса. Однако семейство Женсана выбрало нечто среднее: полупансион у иезуитов на улице Касп в Барселоне. Не знаю, к чему привело образование тех отпрысков, от которых должно было зависеть возрождение текстильной промышленности Фейшеса, но если судить об этом должно по сегодняшнему положению этой самой промышленности, то следует признать, что их обучение закончилось полным крахом.
– Мне все равно кажется, что это сильно преувеличено, – сказала Жулия, глядя на мусс, который поставил перед ней официант.
– Что преувеличено?
– Их ответственность за кризис текстильной промышленности. Насколько я знаю, он произошел не по вине фабрикантов.
Дядя Маурисий был историком романтического толка. Кроме того, некоторых вещей он просто не мог знать. В общем, в старших классах я учился у иезуитов: там я познакомился с Болосом и Ровирой и другими школьными товарищами, например с Масферрером и Колем. И набирался ума-разума, пока не поступил в университет, а тут уж все вышло как вышло. Но Пучу, Рамио, Ферреру, Айатсу, Бальестеру, Каррерасу, близнецам Кодина, младшему из братьев Коломер и Регуанту повезло гораздо меньше, ведь хотя дяде казалось, что он все на свете знал, все те, о ком он говорил, были чуток помоложе Микеля и вели несколько иную жизнь: денег у них действительно куры не клевали. Им совершенно не нужно было ничего делать и поэтому не было никакого смысла оканчивать университет, в который все они поступили по настоянию родителей. И действительно, большинство из них палец о палец не ударили. И, кроме тех, кто, как я, ушел на войну, или тех, кто решил отправиться в путешествия мистического толка с туго набитым кошельком, всех остальных без исключения сразил комплекс неполноценности. В их жизни не было подвига, который мог бы спасти их от безвестности, и выбор их пал на виски или джин, на то, чтобы умело и со знанием дела притворяться, будто бы они пишут стихи или разбираются в дизайне, и на то, чтобы зазывать друзей выкурить косячок. А их младшим братьям пришлось еще хуже, потому что наступила эпоха героина и улетов в вечное блаженство на игле; те, кто не умер, превратились в развалины. Ребята моего возраста, у которых было побольше ума, посвятили себя спортивным подвигам. Сейчас они ведут здоровый образ жизни среди шкафов с кубками и трофеями. Микель Женсана Второй, Читатель Дядиных Мемуаров, – из тех, кто остался ни рыба ни мясо, спился лишь частично, копя воспоминания, ставшие секретами, и отрезки жизни, иногда десятиминутные, которые хотелось бы вычеркнуть из памяти. Ему остается только идти вперед, понимая, что жизнь состоит в том, чтобы научиться принимать эту нежеланную часть прожитого и все ее последствия до самой смерти.
– А Жузеп-Мария?
– Какой Жузеп-Мария?
– Болос.
– Ну, у него другая история. Он был из Барселоны.
– И что? Везде, наверное, были…
– Значит, Болос был из тех, кто думал, что его спасет политика.
– Не тупи. – Не пойму, она что, со злостью это говорит? – Болоса никто не спас. Он погиб.
– Дай-ка я мусс попробую, Жулия.
8
«Единственная страсть моя – охота». Единственной страстью моей было преследовать ее, идти за ней, узнавать, что происходит в ее жизни, понимать ее искусство, восхищаться им, изумляться такой красоте и приходить к выводу, что все остальное («Журнал» и весь шар земной) было для меня абсолютно второстепенным. От неминуемого инфаркта меня спасло то, что я договорился о встрече с Терезой, чтобы отдать ей два экземпляра журнала с ее интервью.
– Никогда хорошо не выхожу на фотографиях.
– Да что ты говоришь? – изумился Микель.
– Посмотри, какую рожу я тут скорчила.
– Да ты же просто великолепна!
Слова вырвались из глубины его души, и она это поняла. Немного помолчала и заказала еще кофе. Потом закурила свою первую сигарету, и мне снова захотелось стать фильтром, который касается ее губ. Она молча пробежалась глазами по интервью, и Микель в страхе и нетерпении ждал ее приговора. Но она проглядела его лишь по диагонали, а потом просто закрыла журнал и улыбнулась:
– С кем будет следующее интервью?
– Скорее всего, с Льюисом Кларетом. А если не получится, то с Джорджем Стайнером.
– А кто это, Джордж Стайнер?
– Литературный критик. Новеллист. А если не получится, то с Клаудио Магрисом. Ну как тебе интервью?
– Я его дома спокойно прочитаю.
Теперь предстояло заплатить за кофе, улыбнуться, пожать ей руку, оставить визитку, которой у меня не было и которую когда-нибудь нужно-таки наконец сделать, сказать «до свидания» и уйти не оборачиваясь. Но Микель, вместо того чтобы внять голосу разума, тоже заказал еще кофе и, закурив очередную сигарету, решился высказать неисполнимое желание:
– Мне так бы хотелось посмотреть, как ты занимаешься дома.
– В этом нет ничего интересного. Самое главное – это выступление, концерт.
– Нет, я не об этом. Мне бы хотелось ближе познакомиться с другими гранями личности артиста.
– С другими гранями личности? Ну, я люблю конфеты с ликером. – Она улыбнулась, и мне было непонятно, о чем она думает, чему улыбается. – Но ведь интервью уже закончилось!
Я не стал отвечать, чтобы не выдать себя с головой. Через несколько минут она сказала, что ей понравилось, что я не стал настаивать на том, чтобы провести интервью у нее дома, среди ее вещей, как это обычно делают.
– Не хочешь, значит, приглашать меня домой. – С этим я с готовностью смирился. Все хорошо, что хорошо кончается, и ничего тут не попишешь. До свидания, Микель Женсана; нам с тобой не по пути. Au revoir, mon espoir.
– Пошли. Тут недалеко.
Она поднялась, и вслед за ней взлетело в небеса мое сердце, и с округлившимися от изумления глазами я сосредоточился на том, чтобы делать вид, что ничего особенного не происходит, и даже думать забыл, кто должен платить за кофе, пока не увидел, что она кладет на стол несколько монет.
– Не надо, я заплачу́.
– В следующий раз, – сказала она.
Иногда в жизни человека появляются оазисы чистого счастья, недолговечные, хрупкие, непредсказуемые… Всего несколько секунд их присутствия служат оправданием всего человеческого существования. Микель чувствовал себя невероятно счастливым, когда шел за Терезой, отставая на полшага, в ту квартиру, где этот усатый персонаж, скорее всего, ждет ее в тапках на босу ногу и, увидев меня, скорчит рожу, которая означает: «А этот гнусный тип зачем с тобой сюда приплелся?»
Тереза жила в большой квартире в Эшампле, с неярким освещением и высокими потолками, очень красиво обставленной, где была также музыкальная комната с полной звукоизоляцией, в центре которой стоял концертный рояль, а еще имелся набитый скрипками шкаф, музыкальный центр и книжные полки, на которых я с первого взгляда заметил немало поэзии. И ни следа мужчин с дурацкими усами и с вопрошающим взглядом, в котором бы читалось: «На кой черт с тобой сюда приплелся этот гнусный тип?» Микель Женсана Второй, Входящий в Храм, глубоко и с уважением вздохнул.
– Ну как? – спросила она, поняв, что я онемел.
– Очень красиво. И я очень рад, что все это вижу сейчас, когда уже хоть немного знаю, что ты за человек.
– Ты меня совсем не знаешь. – Она развела руками, указывая на комнату. – Здесь проходит моя жизнь, если я не на гастролях.
Микель подошел к столу и украдкой взглянул на разбросанные по нему партитуры. И вопросительно посмотрел на нее. Она неуверенно пробормотала:
– Концерт Берга. Я его разучиваю. Когда-нибудь мне хотелось бы…
– Ну и как?
– Ужасно трудно.
Она посмотрела, как я с непонимающим видом перелистываю страницы очень толстого тома.
– Нет, это для оркестра. Партия скрипки вот эта.
Она была открыта как раз на третьей части. В начале страницы было написано: «Allegro # = 69, ma sempre rubato, frei wie eine Kadenz».
– Ты его когда-нибудь слышал?
– Слышал.
– Что с тобой?
– Так, глупости. Просто… Нет, я почему-то думал… нет, я как будто думал, что эти концерты существуют только в записи.
– В каком смысле?
– В том, что смотреть на эту партитуру – это как видеть картину в оригинале. – Микель, несколько смущенный, поглядел по сторонам, как будто бы ему чего-то не хватало. – А где твой друг?
– Я пить хочу. Ты хочешь пить? Принести тебе пива? Воды?
– Пива, если можно. Ты и на рояле играешь?
Но Тереза меня не слышала, потому что уже вышла из комнаты, а звукоизоляция была сделана на славу. В тот момент Микелю это показалось вежливым ответом на ненужный вопрос. Он взял в руки скрипичную партитуру концерта Альбана Берга. Когда она вернулась с двумя стаканами и увидела, что я читаю партитуру, она воспользовалась случаем, чтобы объяснить мне, что Альбан Берг закончил этот концерт за четыре месяца до смерти и что, хотя он был уже болен, он, конечно же, даже и не подозревал, что скоро умрет. При всем при этом кое-кто полагает, что концерт его был реквиемом по себе самому, несмотря на то что сам он думал, что сочиняет реквием по другому человеку – Манон Гропиус. И вставка, вот здесь, видишь? До, ре-диез, фа, вставка этой темы Баха – тоже имеет отношение к смерти. Она достала скрипку из шкафа и сыграла тему Бахова хорала с закрытыми глазами, как будто в присутствии музыки ей было необходимо забыть обо мне, но через несколько минут Микель Женсана понял, что в первый раз в жизни Тереза Планелья играла для него одного. Точно так же, как многие женщины с закрытыми глазами занимаются любовью. И пока звучала тема Баха, мне слышалось, как будто ей аккомпанируют гобои и фаготы. Тогда Тереза приподняла смычок и открыла глаза с искрой надежды:
– Ты умеешь играть на рояле?
– Господи Боже мой…
– В каком смысле – умеешь или нет?
– Если бы я умел играть на рояле, я был бы счастливым человеком.
– Мне кажется, ты все путаешь.
– Ну конечно: со скрипкой и музыкой печалиться невозможно.
Тереза не сразу поняла, всерьез ли он говорит. Раскрыв рот, она пыталась уловить шутку в серьезном голосе этого человека с печальными глазами. И не уловила. Она убрала скрипку в шкаф и отпила глоток апельсинового сока. И сказала, указывая на партитуру:
– Премьера концерта состоялась в Барселоне в тысяча девятьсот тридцать шестом году, когда Берг уже умер.
– Какой… – Я не знал, что сказать. – Он как раз вовремя закончил.
– Им должен был дирижировать Антон Веберн, но он был слишком потрясен смертью своего друга и… Тебе не скучно это слушать?
– Как ты можешь, Тереза! Продолжай, продолжай, ради Бога…
Она встала, чтобы чувствовать себя немного удобнее. Тереза, конечно, понимала, что она мне очень нравится, и ее это волновало.
– Когда ты его разучишь?
– Ну… к концу зимы. Есть еще другие вещи, которые… Хочешь прийти на репетицию трио в эту субботу?
Микель Женсана только рот раскрыл. Невероятно, но эта женщина не отвергала его, не считала букашкой, а ведь она-то была богиней. Он открыл рот, чтобы ответить: «Да, да! Где и во сколько? Я буду в первом ряду, я ваш самый восторженный поклонник». Он проглотил слюну и снова закрыл рот. И, опять открыв его, выпалил:
– А тот мужчина, он разве здесь не живет?
– Какой мужчина?
– Усатый.
– Кто, Арманд? – Она рассмеялась так, что это можно было понять как угодно. – Он просто мой менеджер. – Она посмотрела ему в глаза. – Opus сто Шуберта. Ты придешь на репетицию?
9
Ты покинул меня, Микель, потому что молодежь никогда не ценит родителей. Даже духовных родителей. До самой их смерти. Но с тобой этого не произойдет – я уверен, что то, что я расскажу, скорее всего, заставит тебя от меня отречься. Какими бы ни были твои чувства ко мне, не сжигай никогда эту тетрадь: в ней единственная моя связь с прошлым. Сейчас пришел черед рассказать тебе о дне, ставшем Шестой и Последней Большой Симфонией моего каталога. Или, точнее, о ночи. Ночь была очень холодная, морозная. Я возвращался с премьеры спектакля Бартры в возвышенном состоянии духа и, поскольку было уже достаточно поздно, вошел в дом тайком. Я вслепую нащупал дверную ручку и в полной темноте начал медленно, как и подобает человеку моего возраста, подниматься по давно знакомой лестнице. Преодолев несколько ступеней, я краем глаза заметил полоску света. Он шел из библиотеки. Я вернулся назад. Действительно: тонкая линия света под дверью. В это время, ночью? Может быть, Микель снова сел за книги и больше не думает о Жемме? Чего я совершенно не ожидал, так это увидеть своего двоюродного брата, твоего отца, который, уронив голову на письменный стол, содрогался от молчаливых рыданий. Я несколько мгновений сомневался, как лучше поступить – молча закрыть дверь и посмотреть, какое у него будет лицо завтра, или подойти прямо к нему и сказать: «Послушай-ка, Пере, мать твою, что с тобой такое?» Мы с Пере уже много лет назад отдалились друг от друга. В особенности после Четвертой Большой Симфонии. Я не знал, что делать, и решил последовать своему первому побуждению.
– Послушай-ка, Пере, мать твою, что с тобой такое?
Похоже, он меня не расслышал, потому что продолжал рыдать, лежа на письменном столе. Тут уж ничего не поделаешь: на меня всегда производит тяжелое впечатление, когда мужчины плачут, и эти слезы заставили меня немедленно забыть о наших разногласиях. Я решил тихонько похлопать его по спине: «Послушай-ка, Пере, братишка, что случилось?»
Дон Пере Женсана, Беглец, встревоженно поднял голову. Сделав над собой усилие, чтобы перестать рыдать, он достал платок. Он был напуган моим появлением. И пожалуй, рассержен.
– Ничего.
– Ну да, конечно, ничего, да ничего хорошего. – Я сел в кресло перед письменным столом, то самое кресло, в котором обычно читал. Чтобы не сидеть без дела, я принялся набивать трубку, из тех, что лежали на столе. – Если не хочешь мне ничего рассказывать, то и не надо. Но если я могу тебе помочь…
– Нет, ты не можешь мне помочь.
– И как ее зовут?
– Хотел бы я, чтоб это были дела сердечные.
– Вот оно как… Серьезная, выходит, штука.
– Я разорен. Мне не на что купить новые станки, и я уже не конкурент Лозано.
– Ты уже давно так говоришь.
– Но теперь дошел до последнего предела.
– И что ты собираешься делать?
– Сбежать отсюда подальше.
– Сукин ты сын.
– Вот именно. А ты мне поможешь исчезнуть незаметно.
– Еще чего.
– Ты мне поможешь. Во имя нашей давней дружбы.
– Сукин ты сын. И вообще, в каком смысле сбежать?
– В прямом.
– В одиночку?
– Да. Только так я могу спастись. Я отложил деньжат и…
– Совсем один?
– Да. То есть нет.
– С кем же?
– С Марионой.
– С блондинкой из отдела сбыта?
– Ну да.
– А как же Мария?
– Мне жаль ее, но тут…
– И твой сын?
– Ну его к лешему. Он уже взрослый и ни разу не удосужился мне помочь.
Надеюсь, что ты не возненавидишь меня, Микель, но именно так твой отец и сказал.
– Послушай, Пере. Не буду я тебе в этом помогать.
– Нет, будешь.
– А не пошел бы ты, Пере.
И тут настало Шестое Большое Разочарование. Пере поднял голову – в его глазах уже не было слез, – надел очки и посмотрел на меня холодным, твердым, просто алмазным взглядом, и мне показалось, что я смотрю в глаза его отцу, моему треклятому приемному отцу. Много мыслей разом пришло мне в голову. Я услышал, как бьют два часа колокола базилики Святого Духа, и если бы кто-нибудь прошелся в этот час по саду дома Женсана, в холоде утра, пока еще не взошло солнце, он бы увидел отблеск света из окна библиотеки, в которой Антоний Женсана Третий, Бастард, управлял фабрикой, а Маур Женсана Второй, Рогоносец, писал свои худшие сонеты, в которой Антоний Женсана Второй, Златоуст, сочинял свои самые пламенные и бесполезные речи, заставлявшие зевать депутатов каталонского парламента. Чего этот гипотетический и окоченевший прохожий, забредший ночью в сад дома Женсана, никак не мог бы себе представить, так это того, что в эти самые минуты Пере Первый готовил себе прозвище Беглец (и, по мнению некоторых историков, еще и Предатель). Этот фиктивный, но официальный наследник семейного имущества просил помощи у Маурисия Безземельного, сына Карлоты Возлюбленной, а потому единственного носителя настоящих генов семьи Женсана. И я почувствовал суровый и холодный взгляд Пере.
– Я сказал: ты мне поможешь.
– Ты шантажировать меня собрался, как твой отец?
Он не ответил. Только поглядел на меня, и его глаза мне сказали: «А ты как думал? Я еще и не на то способен, тут пан или пропал, пригрожу, если что, всем рассказать, что пожизненный президент Общества любителей искусств – бесстыдный гомик и так далее». И, угадав это в его взгляде, я струхнул, поспешил согласиться, не позволив так низко пасть твоему отцу. Глубокой ночью глухим голосом я сказал ему: «Я помогу тебе, Пере. Во имя нашей давней дружбы». Так что твой отец меня не шантажировал: сам я себе все это устроил.
– Спасибо, Маурисий.
– При одном условии.
– При каком?
– Будь верен Великой Клятве.
Мне пришлось напомнить ему о том, что много лет назад он мне торжественно поклялся, что будь что будет, но он перепишет дом на имя сына, чтобы мы его не потеряли. Тогда я не понял, почему он мне не сразу ответил. Через несколько дней я узнал, что, когда он во второй раз произносил Великую Клятву, дом Женсана был уже давно заложен. Поэтому теперь, когда я это пишу, у меня все еще звенят в ушах слова Пере Первого, Клятвопреступника. Он сказал: «Я даю тебе честное слово, Маурисий, во имя нашей давней дружбы». Я клянусь тебе, Микель: твой отец так и сказал.
И с того момента твой дядя Маурисий Обманутый сделал много всего постыдного, Микель. Сколько раз мы друг друга спрашивали, с кем говорил твой отец в день своего исчезновения? Со мной. Я вас всех обманул, и полицию тоже. Я купил ему билеты на чужое имя. Я помог ему организовать кое-что с фальшивыми документами и молчал, молчал и молчал, несмотря на отчаяние твоей матери. И несмотря на твое молчание. Наверно, из-за этого у меня крыша и поехала. Я иногда думаю, что всегда был сумасшедшим. Иногда я не знаю, трусость ли сделала меня безумным или Шестая Большая Симфония и Клятвопреступление. Конечно, если я действительно сошел с ума.
И все прошло как по писаному. Я молча вел машину после недели юридической и стратегической подготовки. После недели ужаса ведь я знал, что с этого времени не смогу смотреть в глаза Марии. По дороге в аэропорт, пока Пере Первый, Бессовестный, менял тапки на ботинки и надевал всю остальную, заранее приготовленную одежду, я ругал его не переставая. И я сказал ему, несмотря на молчаливое присутствие Марионы: «Поговори об этом с Марией».
– Не надо.
– Напиши ей.
– Посмотрим.
То есть в переводе – «не напишу». Твой отец почти такой же трус, как и я, Микель. И он заставил меня поклясться, что я никогда в жизни не расскажу о том, что сейчас тебе рассказываю, и поэтому то место, куда он уедет жить, навсегда останется тайной. И я поклялся – для того, чтобы и он сдержал свою клятву. А потом мы приехали в аэропорт.
– Давай помоги мне.
– Нет. Давайте-ка вы сами. Я вам теперь ни к чему.
Пере Женсана Первый, Паршивец, благодарно похлопал меня по спине. Он уже лет сто ничего подобного не делал.
– Я никогда не забуду твоей помощи.
– И я не забуду.
За две, три, четыре секунды молчания перед нами пронеслись все годы нашего знакомства. И мне пришла в голову ужасная мысль, что причиной всех бед, свалившихся на семью за последние годы, была тайная и страстная любовь прабабушки Пилар к американцу Пере Ригау. Или, скорее, дурацкая идея вести любовные дневники. Наверное, как раз эта последняя мысль и свела меня с ума.
– Прощай, и спасибо за все, Маурисий. И прости за то, что я тебя так подставил. У меня не было другого…
– Проваливай.
Быстрым движением, не оборачиваясь, как и следует делать подобные вещи, энергично, как сержант Саманта сдирает лейкопластырь, Пере вышел из машины. Я не обернулся и ничего не сказал, потому что не хотел, чтобы Мариона видела, как я плачу. Сантарен 1012. Сан-Паулу. БРАЗИЛИЯ.
10
Уже несколько недель Микель вращался в кругу друзей Терезы. На работе заметили, что́ у него несколько отсутствующий вид, и Жулия, у которой был нюх на подобного рода вещи, уже многим успела намекнуть, что Женсана влюбился. На самом деле я не то чтобы влюбился – я безнадежно влип, я был связан по рукам и ногам, был готов вскрыть себе вены. Психиатр назвал бы это чрезмерной зависимостью. А я считал это полетом на небеса. Я еще раз сходил на концерт Римского трио, без всякого повода приревновал к обоим братьям Молинер, она меня с ними познакомила, а потом Микель и Тереза пошли вместе ужинать. Она рассказала мне, что в следующем месяце у нее два концерта в Париже, а я спросил ее, можно ли мне тоже поехать.
– А как же работа?
– Но можно я тоже поеду? – И как маленький: – Я буду тихо сидеть.
– Со мной же Арманд поедет, – улыбнулась она.
– Арманд? Тот, который с усами?
– С усами. – И она мне улыбнулась. – Что с тобой такое, Микель?
– Наверное, я просто ревную…
Ошибка. Чтобы ревновать и к тому же иметь на это право, нужно предварительное согласие обеих сторон, которого мы с Терезой никогда друг другу не давали. Я улыбнулся, чтобы показать ей, что хотел бы переменить тему.
– Почему ревнуешь? – заинтересовалась она. – Что с тобой такое?
– Прости, я неправильно выразился. У тебя своя жизнь.
– А у тебя – своя.
Великая неправда. Микель Женсана в это время был одиноким человеком, который только и делал, что читал, слушал музыку, ходил на выставки, с каждым днем все лучше понимал искусство и становился все более ранимым в обществе медленно угасавшей матери. И больше никого у него не было, если, конечно, не вспоминать об отце. А кроме того, он работал в журнале «Журнал», где ему было поручено писать о красоте чужих творений. И это превращало меня в Великого Завистника.
– Ты мне сказала, что… Нет, не важно.
– Нет, говори.
– Ты мне сказала, что Арманд – только твой менеджер.
Тереза снова улыбнулась. Микель не обратил внимания на капельку пота над ее верхней губой. Не переставая улыбаться, она посмотрела мне в глаза:
– С Армандом мы прожили… Ну в общем, очень долго.
Вот блин. А ты как думал, любовник хренов, что эта женщина девственность для тебя хранила? «Нет, Жемма, мне действительно безразлично, переспала ли ты с двадцатью тысячами мужиков».
– Прости… У меня нет никакого права требовать у тебя объяснений, Тереза.
– Благодарю.
В этот момент кто-то сел за соседний столик, и мы почувствовали себя несколько неуютно. Мы сделали вид, что не обратили на это внимания.
– Вы давно… расстались?
– Ты разве мне только что не говорил, что у тебя нет никакого права…
– Да-да. Прости меня, Тереза. Но ты пойми… Забудь, беру свои слова обратно.
– Пять месяцев назад.
– Так.
– Да. Мы расстались. Но он все еще мой менеджер.
– Почему?
– Потому что он очень хорошо работает.
Нелегкое это дело – вытягивать информацию у женщины, смотревшей на него все с той же улыбкой, но как-то издалека. И я решил рассказать ей о своей жизни все, что только можно было рассказать. Я до сих пор иногда думаю, что рассказывать о себе – это внутреннее очищение для человека. Трудности наступают тогда, когда слишком много вещей, подобных смерти Быка, заставляют тебя обходить молчанием некоторые детали.
– Передо мной ты их не замалчивал. – Жулия подозвала официанта и улыбнулась. – Правда?
– Люблю тебя, наверное.
– Или тебе больше не с кем поговорить.
Во дает Жулия.
Мы заказали кофе, и Микель вступил в чрезвычайно полезную беседу о разнице между коньяком и арманьяком с метрдотелем, разгневанным редкостным невежеством месье за восемнадцатым столиком. В конце концов ему налили бренди «Торрес 5». И Микель рассказал Терезе о Жемме, о работе, о своей жизни. И она слушала – с большим интересом. А потом он проводил ее домой, и она привиделась ему во сне, и они снова встретились. Через четыре или пять дней, посреди площади Каталонии, они, не говоря ни слова, поняли, что они уже вместе. И он попросил, чтобы она разрешила ему послушать, как она работает, но она все равно не разрешила. Но предложила ему поехать с ней в Париж.
– А как же Арманд?
– Да на что он тебе сдался, этот Арманд?
Он просто был слишком старомоден, чтобы разбираться в таких вещах. Она была женщина молодая, совсем по-другому воспитанная. У нее явно был большой опыт в отношениях и история, полная мелких поражений, которые сделали ее менее уязвимой и помогали ей не смешивать одно с другим. Когда она говорила, что раньше они с Армандом жили вместе, но теперь он только ее менеджер, скорее всего, в этом не было ни капли лжи. И то, что они с Армандом работали вместе, не вызывало в ней никакой бури чувств. А для Микеля все было как раз наоборот. И он поехал в Париж с Терезой и Армандом, предварительно успев тщательно сплести себе алиби перед Дураном, договорившись с ним, что в Париже будет интервьюировать Кларета, а расходы на поездку они оплатят пополам с журналом: это означало, что его целую неделю не будет в редакции.
– Хорош гусь, чтобы поговорить с Кларетом, в Париж собрался.
– Так ведь его здесь никогда не бывает.
– Ты прав, Женсана. – И тут же скривился, как будто печень прихватило. – А как же фотографии?
– Сам сфотографирую.
– Куда тебе. Ты фотоаппарата-то в жизни в руках не держал.
Они уже почти договорились, и Микелю пришлось импровизировать: Париж стоит снимка.
– Нет, что ты, у меня там фотограф есть.
– Какой фотограф?
– Самый лучший. Арманд.
– А фамилия у него какая?
– Арманд. Арманд Арманд. Ты что, не знаешь его?
– Не знаю.
– Хороший фотограф. Не беспокойся.
– С тобой, Женсана, у меня вечно сплошное беспокойство.
И у меня. Мне с самим собой вечно сплошное беспокойство, но я ж терплю. Дурану я об этом сообщать не стал, потому что он как раз в тот момент дал мне разрешение, презрительно махнув рукой, и положил конец разговору, делая вид, что сосредоточился на своей работе. Стоило у Дурана что-нибудь попросить, как у него тут же делалось такое лицо, как будто ты вырывал у него зуб, но в конце концов он соглашался, потому что за пару лет совместной работы понял, что Микелю Женсане нет равных. Нет равных в восхищении творчеством других. Вот потому я и отправился в Париж в сопровождении великолепного фотографа Арманда Арманда, бывшего любовника моей обожаемой Терезы, которой я еще не успел сказать, что люблю ее.
Кларет был очень любезен; я же говорил какими-то общими фразами. Особенно значительного интервью с ним не получилось. Но я многое узнал о музыке за те три часа, что мы провели вместе. И потом ему захотелось пойти и послушать, как играет Планелья, потому что оказалось, что он не слышал ее с тех пор, как она была еще ребенком.
Тереза играла Третий концерт Сен-Санса. В Париже. Тереза была способна сыграть Аренского или Чайковского в Петербурге так, что все бы подумали, что она русская. Сен-Санс в Париже, да. И она была великолепна. Даже сам Баренбойм улыбался, глядя на нее, замерев с дирижерской палочкой в руке, блестя глазами. А я чувствовал, что ни один мужчина в мире еще не ревновал так безнадежно, как я, потому что все восхищаются этой женщиной, все хотят быть с ней, а я всего лишь тряпка или в лучшем случае занавеска, висящая у нее в спальне. Кларет, как ни пытался это скрыть, смотрел на нее точно так же.
– Вы лично ее знаете? – спросил он меня, когда закончился концерт и я предложил ему пойти с ней поздороваться.
Я любовь ее жизни, но она об этом еще не догадывается.
– В некотором роде… Я брал у нее интервью и…
– Да, конечно… – Он указал на дверь гримерной, к которой мы как раз подходили. – Она очень талантлива. И может стать еще лучше.
Тереза была ошарашена тем, что сам Кларет нашел время… Она благодарно посмотрела на меня, и мне стало ясно, что Париж стоит Кларета, если Тереза отвечает тебе такой нежностью. Я был счастлив. Мне только совсем чуть-чуть не хватало храбрости, чтобы сказать ей: «Тереза, родная, я безумно люблю тебя, ты свет моих очей, ты путь, истина и жизнь, не уходи, не бросай меня, ведь жизнь для нас с тобой только начинается. Но это невозможно – ты меня никогда не полюбишь». И пока Арманд Арманд занудствовал насчет напряженного графика Терезы и ее неотложных обязательств, а Кларет, Тереза, Баренбойм и какая-то юная красавица пытались говорить о музыке, я вспомнил и ужаснулся:
– А фотографии?
Все они посмотрели на меня, и я покраснел как помидор:
– Мне просто необходимо сфотографировать…
Баренбойм указал в мою сторону какой-то трубкой, которую он до этого времени не переставал покусывать:
– Никаких фотографий.
Микель посмотрел на него, потом растерянно перевел взгляд на Кларета:
– Чтобы проиллюстрировать интервью с… – И смущенно указал на него.
Он очень искусно провел переговоры с Армандом Армандом, photographe de la Grande Écurie du Roi, напомнив ему, какие прекрасные снимки он сделал для рекламных проспектов Планельи, и с улыбкой передал ему фотоаппарат: пустяки, четыре-пять фотографий с виолончелью.
– Я не взял с собой виолончель.
– Тогда просто задумчиво смотрите в окно.
– У кого-нибудь есть конфеты с ликером?
Мое сердце разрывалось между обязательством привезти в Барселону хорошие фотографии Кларета и желанием помчаться во весь дух в ближайшую кондитерскую. У Микеля началась тахикардия, как во время войны.
Через час, с еще холодной бутылью Моэт-Шандон, Тереза, в нежных губах которой только что исчезла четвертая или пятая конфета, Баренбойм и Кларет с доводившей Микеля до белого каления легкостью углубились в концерт Альбана Берга, который Баренбойму и Терезе предстояло исполнять в конце этого лета. И Микель узнал, что этот концерт был не только реквиемом самому Бергу и не только описанием страданий, смерти и перевоплощения Манон Гропиус, но и самым настоящим романом о женщинах.
– Вкусные какие. С коньяком, да? – спросила Тереза.
– С арманьяком, – уточнил кто-то, словно заглянув в будущее.
А Микель и не знал, что за каринтийской народной песней скрываются Мицци, первая любовь Берга, и их общая дочь. И что число десять было символом присутствия Ханны. Вдобавок Берг состоял в законном браке, у него была жена, и я подумал, какой же все-таки Берг написал грандиозный роман о женщинах, в котором были и жена, и далекая от него дочь, и Мицци, Ханна, Манон, Берта, Жемма и Тереза, и почему же концерт посвящен только памяти eines Engels, а не всех ангелов в его жизни. Но я почувствовал, что мы с Альбаном Бергом Первым, Божественным, были из одного теста, и я был крайне на него обижен, потому что, в то время как я стоял, уткнувшись носом в стену и не мог произвести на свет ничего путного, он нашел способ превращать страдание в искусство.
– Идея, в принципе, та же, что и в «Смерти и просветлении» Штрауса.
Не помню, кто это сказал. Может быть, даже я. Баренбойм, бросив быстрый вопрошающий взгляд на прекрасную девушку, стоявшую рядом с ним, пообещал нам ужин в «Прокопе» после премьеры концерта Берга. И так как премьера состоится в сентябре – устриц.
– Обожаю устриц! – сказала Планелья.
И мне захотелось превратиться в жемчужину.
И Микелю запомнилось, что, когда они возвращались в отель и он думал: «Тереза, о, если бы это случилось сегодня ночью», Арманд Арманд загородил ему дорогу и отдал фотоаппарат:
– Проявлять, я так понимаю, сам будешь.
– Да, разумеется. Спасибо. – Микель указал на фотоаппарат. – Послушай, как твоя фамилия?
– Пок, – ответил Арманд Арманд.
– Ясно.
– Ну так и что же? – Жулия вертела в руках кофейную чашечку.
– В каком смысле «ну так и что же»?
– Вы с Терезой.
Она имела в виду, занимались ли мы любовью. Жулия хотела знать, произошло ли это в Париже, ну и все такое прочее. Микель на мгновение потерял нить разговора и отпил глоток арманьяка «Торрес 5», думая о том, как Тереза позвала его к себе в комнату через полчаса и застигла его врасплох, потому что он не верил, что это когда-нибудь могло произойти, и сказал: «Конечно, Тереза» – и ровно через полчаса стоял перед ней, и они принялись заниматься любовью и очень долгое время провели за этим занятием, и он почувствовал, что был так близок к этой настолько невероятной женщине, что даже забыл сказать, что любит ее, а ведь я никогда никого не любил с такой силой, как Терезу.
– Мы с Терезой… Ну как… Обычное дело.
11
Как-то неловко об этом говорить, дорогой мой Микель, но трудно судить о поступках других людей. Потому что мы всегда стараемся лить воду на свою мельницу. Твоя мать была нам всем в этом примером, ведь я никогда не слышал, чтобы она осуждала твоего отца за побег. Ей было больно, она почувствовала себя униженной, но никогда, насколько я знаю, его не осуждала, даже перед тобой. Но я не могу следовать такому удивительному примеру, потому что, несмотря на то что Пере был мне близким другом в течение многих лет, он сыграл решающую роль в Шести Больших Разочарованиях. Мое сумасшествие позволило мне хранить нечто вроде молчания, которое могло бы сойти за благородство. Но все было совсем не так: за мной шесть больших долгов, – и поэтому сейчас я хочу тебе кое-что рассказать о том, что мне не хотелось бы предать полному забвению. Я знаю, что отношения между тобой и Пере никогда не были особенно хороши. И что он никогда не мог понять, почему ты тоже сбежал из дома, не объяснив ему причины. Семья беглецов! И он никогда не мог смириться с тем, что ты не стал помогать ему на фабрике, и ему пришлось полагаться на племянника Рамона. Все это, если хочешь, объясняет образовавшуюся между вами пропасть.
Смотри: твои родители уже давно жили молча, почти не общаясь друг с другом. Мать подозревала о причинах этого, но не решалась протестовать, даже не знаю почему, ведь она была храбрая женщина. Дело в том, что твой отец давно завел шашни с Марионой, а до нее у него была еще пара любовниц. Когда они пустились в бега, Мариона была беременна. У тебя есть брат в Бразилии, Микель.
И вот однажды, когда Микель перечитывал эти дядины строчки, мама умерла. Одна, в квартире в Фейшесе. Вдали от своих Микелей. У нее, как и у дяди, были свои Микели: оригинал и копия, набросок и законченный вариант. Она умерла вдали от своих Микелей, вдали от того, кто был ей мужем, вдали от дома и вдали от дяди, который так любил говорить о мертвых.
И Микелю стало тошно, потому что он был уверен, что никогда и ничем мать не порадовал, ни разу за всю свою жизнь, а она не жаловалась, потому что у нее была женская сила. И не мог он себе простить, что она умерла в одиночестве, с одними лишь воспоминаниями о том, чего лишилась. И, идя по кладбищу, Микель подумал: «Я тоже уже начал считать своих мертвецов, дядя, и пришел к выводу, что не понимаю, для чего существует жизнь, если все со смертью теряется, и мне показалось, что я похож на тех девушек из нашего офиса, которые делают над собой нечеловеческие усилия, чтоб не влюбляться, желая избежать мук разочарования». Возможно, именно тогда ему и пришло в голову, что единственный способ смириться с той жизнью, что ему досталась, – это сохранять спокойствие перед лицом смерти. И к тому же я был влюблен. Бедная мама, она так и не узнала, что я влюблен.
12
– Я уже два часа тут жду.
– Ну и жди на здоровье.
– Но мне нужно идти, Жулия, я ж тебе сказал, черт возьми!
И пластиковый стаканчик с остатками кофе с размаху полетел в мусорную корзину.
– Откуда ж я их возьму, раз они не берут трубку.
– Надо было спросить у них, во сколько им можно позвонить.
– Я сделала все возможное.
– Нет, дорогуша. – Микель рассерженно стукнул по столу. – Никогда нельзя оставлять последнее слово за клиентом.
– Слушай, друг.
– Нельзя. Это элементарно. Если это интервью им безразлично, они про тебя забудут. – Он постучал себя по лбу двумя сложенными вместе пальцами. – Хоть это-то ты понимаешь?
Жулия взяла документы, с которыми вечно бегала от стола к столу, и под аккомпанемент телефонных звонков отправилась за свой, явно рассерженная. Обиженная. И что Микелю было теперь делать? Рассыпа́ться в извинениях? Послать ее к чертовой бабушке? Он отыскал взглядом пачку сигарет, снял трубку и набрал по внутренней связи номер двенадцать.
– Слушаю.
– Ну чего ты опять завелась.
– Иди к черту.
И положила трубку. Микель вздохнул. И что теперь? Забыть об этом? Начать думать о Терезе? Подумать о статье для раздела музыкальной критики, которая должна быть готова завтра утром не позже десяти? О том печальном обстоятельстве, что он опоздал на концерт, статья о котором должна быть готова не позже десяти утра? Или же лучше подойти к столу Жулии и отвесить ей увесистый подзатыльник, чтоб не забывалась? Вместо этого он открыл ящик и стал искать сигареты. В редакции он сидел за одним столом с Лали, и разобраться, где что лежит, было невозможно. Сигарет он не нашел и подумал: «Ну и хорошо, и так обойдусь». Сдается, однако, что человек, который должен вывести нас на Лоренса Даррелла, так никогда и не позвонит. И вот тут затрещал телефон.
– Тебя, Микель.
– Кто это?
– Он не представился.
– Я тебе тысячу раз говорил…
– Я знаю, но он мне слова не дал сказать…
Молчание. Всему офису уже было ясно, что Микель Женсана, звезда современной журналистики, сегодня не в духе. И раздраженный голос Лали: «Соединять тебя или нет?»
– Да-да, конечно… Слушаю.
– Привет, братец. Это Болос.
– Привет, как жизнь. – Особого воодушевления в его голосе не прозвучало. – Как там политика. – Даже вопросительной интонации не вышло.
– Нормально. Не жалуемся. Скоро выборы.
– У вас всю жизнь сплошные выборы.
– Не занудничай, давай лучше вместе пообедаем.
В шикарном ресторане «Ка л’Агут», за счет блестящего депутата – совсем не хило. Микель на несколько мгновений забыл о Даррелле. Но разговор ушел куда-то в сторону, и Микель стал теряться в догадках, что нужно Болосу, ведь какая-то определенная цель у него явно была. Но пока им не принесли кофе, он не переставал расхваливать престиж и профессионализм журналистской деятельности своего друга: «Я горжусь этим точно так же, как и ты, Микель».
– Да я этим и не горжусь особенно.
– Почему?
– Как тебе сказать. Это трудно объяснить. – Микель посмотрел ему в глаза. – Знаешь, я бы предпочел быть поэтом, писателем или музыкантом – как те, у кого я беру интервью.
– Работа у тебя в высшей степени интеллектуальная. – Болос указал на него и провозгласил: – Художник всего лишь выражает чувства.
Ну что тут скажешь, раз товарищ Франклин полнейший профан в искусстве?
– Дело не совсем в этом, Болос. Критик может быть эрудитом, мудрецом, если хочешь. – Он посмотрел на друга в отчаянии. – Но он не творец.
– Все ты усложняешь. Ты тоже создаешь искусство.
– Я? Нет, Болос.
– Ты классно пишешь. И делаешь искусство понятным нам, простым смертным.
Болос уже целый месяц не пил вина с целью похудеть и, чокаясь, поднял стакан с водой. Микель улыбнулся ему в ответ и поднял бокал вина:
– «Обернувшись, критик видит за собой тень евнуха».
– Чего?
– Кто бы стал критиком, если бы мог быть писателем?
– Да ладно.
– Это слова Стайнера.
– Кто такой Стайнер?
– Критик. Великий критик. Хотел бы я когда-нибудь взять у него интервью.
– Ну что ж… Я ведь в этом ничего особенно не понимаю… – Он одним глотком допил воду.
– Зачем ты меня пригласил?
– Беспокоюсь о Ровире.
Вышло так, что каким-то образом все трое друзей вновь стали общаться. Чтобы через десять лет снова встретиться на кладбище, Жулия. Болос рассказал мне, что Ровира с каждым днем все больше от всего отдалялся в поисках идеальной Монтсеррат и заработал себе неслабую гонорею, но не захотел уйти на сексуально заслуженный отдых. И если так пойдет и дальше, ему и до СПИДа недалеко.
– Да ладно тебе, он ведь уже не маленький. – Микель допил бокал. – Когда ты с ним в последний раз разговаривал?
– Сегодня ночью. До утра с ним просидел. И он ни о чем больше не говорит, кроме траханья.
– А на работе у него как дела?
– Нормально. Но по-моему, она его совершенно не интересует: у нее же нет вагины.
– Ты думаешь, что эта Монтсеррат… – Микель помотал головой, чтобы избавиться от этой нелепой мысли. – Нет, брось…
– Что ты хотел сказать?
– Нет, ничего.
– Да ладно тебе, давай выкладывай. Я хочу знать. Ровира – мой друг и стал уже ни на что не похож…
– Нет, я просто думал… – Болос поднял голову. – Он и мой друг тоже.
– Я знаю. – Болос прищелкнул пальцами, чтобы я продолжал говорить, и из-за колонны показался официант. – Что ты хотел сказать?
– Господа желают…
– Нет, спасибо. Я…
– Еще немного вина?
– Нет-нет, не беспокойтесь… Ничего не нужно.
Официант опять скрылся – с таким видом, как будто потерпел поражение. Болос вновь прищелкнул пальцами, поторапливая меня с ответом. Официант высунул голову из-за колонны, но сдержался.
– Мне уже давно кажется, что этой Монтсеррат никогда не существовало.
– Ну и загнул! Ты хочешь сказать, что у Ровиры совсем нелады с головой?
– Не знаю…
– Подожди, кто это там?
Я обернулся. По направлению к нашему столику быстро шагала Жулия с листком бумаги в руке. Вид у нее был серьезный, и она не смотрела мне в глаза.
– Привет. Звонили из Марселя. Даррелл согласен дать тебе интервью. – Что означало: «Видал, зануда, уж если я за что взялась, то довожу дело до конца».
– Познакомьтесь. Это Болос, мой друг. Это Жулия, мы вместе работаем.
– Очень приятно.
Не успел Микель спросить у нее, откуда она узнала, где его найти, как Жулия уже исчезла из виду. Она шла, выпрямившись чуть больше обычного, что должно было показать, что она все еще сердится.
– Вот так красотка.
– Послушай, Болос, мне нужно идти. – Он помахал принесенным Жулией листком бумаги – в оправдание своей внезапной спешки. – Я пытаюсь… – он понизил голос, чтобы не разглашать секрет и придать важности своему сообщению, – поймать Лоренса Даррелла.
– Ничего себе. – С удивлением и восхищением.
– Пожелай мне удачи.
Болос даже не шевельнулся. Вид у него был скорее раздраженный – из-за того, что обед наш так неожиданно завершился. Он указал в сторону Микеля кофейной чашкой. И, вытирая губы салфеткой:
– А как зовут эту девушку, которая только что ушла?
– Жулия.
– Какая красавица. Откуда она у тебя?
Контакт был хороший. Очень хороший. За пять минут они договорились о поездке и об интервью.
– Вот видишь? – Жулия в редакции уже больше не притворялась рассерженной.
Я был доволен тем, что мои проекты ей небезразличны, и подмигнул ей, направляясь к своему столу, за которым уже сидела Лали: меня кто-то очень срочно просил к телефону.
– Извини, Лали, что беспокою в твою смену. – И в трубку: – Слушаю.
– Микель? Это ты?
– Тереза. – Я понизил голос. Спешка, нервы, все отошло на второй план. Тереза. Жулия посмотрела на меня со своего места с некоторой досадой. Кажется, ее глаза способны увидеть абсолютно все. – Что случилось?
Тереза никогда раньше не звонила мне на работу. Ни на работу, ни домой. Тереза никогда раньше мне не звонила. Как будто она уже знала, что может на меня рассчитывать в любой момент. Как будто ей уже было ясно, что я влюблен в нее без памяти, после того как я сходил на три-четыре репетиции, съездил с ней в Париж, восторженно слушал, как она играет Сен-Санса, сделал все для того, чтобы Баренбойм и Кларет еще больше ею восхищались, провел с ней ночь в отеле и все такое прочее.
– Какие планы у тебя на сегодня?
Куча работы: дочитать «Авиньонский квинтет», пересмотреть заметки к «Квартету» и дополнить их, перекроить схему интервью с Дарреллом, установить первый контакт с Магрисом, прочитать его книгу, которая лежит у меня на столе, и начать планировать следующее интервью, которое будет, скорее всего, непростым. Я ведь обещал Дурану, что за одну поездку смогу проинтервьюировать обоих. Сумасшедший дом.
– Совершенно никаких. Я свободен. А что?
– Мне бы хотелось тебя увидеть.
А мне бы хотелось не расставаться с тобой ни на секунду, Тереза, любимая. Можно было научно подтвердить, с предъявлением вещественных доказательств, что в те минуты Микель Женсана был самым счастливым в мире человеком, стоя перед своим столом, за которым работала Лали, повернувшись спиной к Жулии, которая, без сомнения, буравила ему взглядом затылок, хотя и делала вид, что занимается иллюстрациями к третьей странице.
– Я в твоем полном распоряжении.
– Заехать за тобой?
– Ты знаешь, где редакция?
– Знаю.
– Если хочешь, я…
– Сейчас за тобой заеду.
Она положила трубку. Я несколько минут простоял, как истукан, держа в руке трубку, пока Лали не забрала у меня ее, чтобы кому-то позвонить. Я обернулся. Лучшее свидетельство того, что Жулия за мной следила: когда я повернулся к ней лицом, она была с головой погружена в работу. Микель собрал свои бумаги, ксерокопии на тему Даррелла и Магриса, сказал au revoir, je m’en vais à la gloire, небрежно перекинул через плечо шарф и вышел из офиса навстречу своей любви. В дверях он столкнулся с кипящим энергией Дураном.
– Насколько я помню, ты говорил, что фотографа зовут Арманд Арманд?
Любовь моя, Тереза, я желал бы целовать твою тень, всегда быть с тобой рядом, сделать так, чтобы «Noveletten», изменившие нашу судьбу, никогда не прозвучали, видеть тебя обнаженной, обнимать тебя, зная, что ты меня любишь, вечно заниматься с тобой любовью и слушать голос твой и твоей скрипки. И это счастье.
У Микеля пока еще не хватало духу объяснить Терезе эти очевидные вещи. Они говорили о ее планах; она даже спросила его, стоит ли ей сыграть на бис что-то конкретное в Валенсии (он сказал, что обязательно), и попросила проводить ее домой – хочет, чтобы он послушал, как она продвинулась в концерте Альбана Берга. Да, Терезе было одиноко. У нее было все, чего только можно пожелать, но, даже несмотря на музыку, ей было одиноко. Они выпили лимонада, и он стал слушать ее игру, переворачивая страницы, хотя первую часть она знала почти наизусть. И Микелю казалось, что он слушает великого Хейфеца, Боже мой, как может женщина двадцати с хвостиком лет обладать такой музыкальной интуицией.
– Сколько тебе лет, Тереза?
– Тридцать два.
– А мне тридцать семь.
– Я знаю.
– Я никогда тебе об этом не говорил.
– Ну как тебе?
– Ты играешь очень уверенно. Очень глубоко все чувствуешь.
– Когда я касаюсь смычком скрипки, я чувствую, что это реквием.
Когда я касаюсь ее, я чувствую, что во мне просыпается жизнь. Но я не позволяю себе большего, чем легкое прикосновение кончиками пальцев, тихонько, с уважением, трогаю Терезу за руку, мимолетно касаюсь щеки… и, если наберусь мужества, прямо сейчас скажу ей, что люблю. И невероятнее всего для меня то, что мы вместе провели ночь в Париже. Как будто мы все еще храним друг для друга девственность. Наверное, дело в том, что с Терезой я постоянно начинал все сначала.
– Я должен тебе кое-что сказать, Тереза.
Она убрала скрипку в шкаф и обернулась. В глазах ее стоял вопрос, и Микель смешался:
– Я…
Итак, он достиг определенных высот в своей профессии. Его нельзя назвать мужчиной преклонного возраста. Он прилично одет. Разговаривал вежливо и любезно. Так что же ты, Микель Немой, не в состоянии сказать такую простую вещь? А все дело в том, что Микелю свойственно восхищаться людьми преувеличенно и бесконечно, и это восхищение ослепляло его до последнего предела. И он становился ничтожно мал. По крайней мере, такова одна из имеющихся теорий о моей врожденной склонности превращаться в камень под взглядом прекрасных глаз.
– Я… очень рад нашей дружбе.
Тереза подошла ко мне поближе. Эти слова пришлись ей по душе. Она обняла мою голову руками, тихонько привлекла к себе и поцеловала так, что даже сегодня, бог ты мой, я не могу забыть этого поцелуя, Жулия.
Жулия допила последний глоток кофе, и по движению ее губ я понял, что она хочет еще. Я щелкнул пальцами, чтобы подозвать метрдотеля, но вместо него подошел официант, и я жестом попросил его принести еще два кофе.
– Нет, мне не надо, я…
– Что ты, мы ведь никуда не торопимся. – Я сказал официанту, что все правильно, два кофе, и мне стало ясно, что Жулии было не до кофе, ей просто хотелось дальше слушать рассказ Микеля.
– Не отвлекайся. Говори дальше. Расскажи мне все.
– Я о Болосе больше ничего не знаю. Я уже говорил тебе, что он был моим лучшим другом, но многое в его жизни оставалось для меня тайной.
– Все, что касается женщин.
– И все, что касается политики, потому что я, по его словам, корчил из себя святошу.
– Или отшельника.
– Спасибо, Жулия. Без тебя я бы ни за что не придумал, как себя обозвать.
Она засмеялась, смутившись. Я тоже. Несмотря на то что лицо Жулии слишком живо напоминало мне о работе, мы оба смеялись, и я подумал, что Жулия – очень красивая женщина, умница, быть может, слишком вспыльчивая, с характером. Я уже много лет чувствовал по какой-то непонятной и необъяснимой причине, что в некотором роде она мне принадлежит; может, потому, что с тех самых пор, как она начала работать в редакции, ее приставили ко мне и к моим проектам и мне пришлось всему ее учить. Поэтому Микель решил сказать ей нежным отеческим голосом:
– Понятия не имею, что еще я мог бы рассказать тебе о Болосе.
– Ничего страшного.
– Я так почти ничего тебе и не рассказал. Говорил только о себе.
– Ну, я же сказала, что все нормально. Вполне достаточно информации для статьи.
– Думаю, на все, что я тебе наговорил, и места не хватит.
– Какая разница. И вообще, я просто хотела побольше о нем узнать.
– Ты что, скучаешь по нему?
– Мы были друзьями. Я же говорила тебе.
– Друзьями? А и не знал, что вы продолжали видеться…
– Ну, так уж вышло…
На несколько мгновений Микель замешкался, он не знал, сможет он это сказать или нет. Какое-то время он повертел в руках кофейное блюдечко, поскреб его ногтем, будто хотел отчистить какое-то пятнышко. Он не знал, насколько благоразумно сказать ей: «Послушай, Жулия: дело в том, что это был не несчастный случай. Его убили».
Он уже собирался это сказать, но вовремя остановился. Весь страх, который мучил его уже пять дней, вернулся к нему одним махом. В первый раз ему позвонили пять дней назад. Оставили сообщение на автоответчике. Голос Болоса, по какой-то причине слегка изменившийся, шепотом, как будто не хотел, чтобы кто-то еще его услышал, наговаривал на пленку: «Это Франклин. Будь осторожен, Симон, за нами следят. И за тобой, и за мной. Это не шутка. Возьми трубку, слышишь? Возьми трубку. Если ты меня слышишь, возьми трубку, Симон». Но Симон никак не мог взять трубку, потому что в это время он был в редакции «Журнала» и разговаривал по телефону с синьором Бассани, который сообщил, что получил посланный ему экземпляр журнала с его интервью и был приятно удивлен глубоким знанием его творчества со стороны интервьюера, и Микель думал: «Поди ж ты, слышал бы это Дуран», и Бассани говорил: «Нельзя ли получить еще пару-тройку экземпляров, а заодно и оригинал интервью по-французски» («Чтоб вас корова съела, синьор Бассани, у меня и без вас работы невпроворот, и еще непонятно, когда можно будет организовать интервью с Андрашом Шиффом; эти музыканты перелетают с места на место, как птицы, и невозможно найти подходящее время, и мы уже думаем либо оставить эту безумную затею, либо сделать интервью в Берлине, где у него будет пара выходных. И когда я предложу это Дурану, он скажет: «Ты с ума сошел, Женсана, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты что, решил – я лаптем щи хлебаю? Найди себе кого другого, этих музыкантов в мире хоть пруд пруди. Серрата проинтервьюируй, блин. Или Каррераса. Слышишь?» Как пить дать, что-нибудь подобное он мне и скажет»). «Да-да, синьор Бассани, текст по-французски, ça y est». И вот поэтому Микель не имел ни малейшей возможности услышать испуганную мольбу Франклина Болоса, Лучшего Друга. По истечении дня, полного проблем, он вымолил у чрезвычайно недоверчивого Дурана позволение съездить в Берлин поговорить с Шиффом, но фотографа мне самому придется хоть из-под земли доставать, как всегда, и «будь любезен, привези мне фотографию, где вы оба стоите перед Бранденбургскими воротами, хоть на Унтер-ден-Линден, хоть в зоопарке, мне все равно. Жаль, что Стену разобрали. Никаких фоток перед зданием филармонии, здесь вообще никто не знает, что это за здание». Слушаюсь, господин Дуран. У Бранденбургских ворот. Вернувшись домой, он уселся выпить холодного пивка под звуки Куперена, грезя о полуулыбке на лице Терезы; Терезы, вновь обретенной в Лондоне, и от этих воспоминаний ему стало очень больно, Господи Боже мой. И тогда он увидел, что лампочка автоответчика горит, кто-то звонил, и он включил его и услышал голос Франклина: «Будь осторожен, Симон, за нами следят. За тобой и за мной. Это не шутка. Возьми трубку, слышишь? Возьми трубку. Если ты меня слышишь, возьми трубку, Симон». А потом молчание, вздох, и он положил трубку. И это был голос Болоса. Вне всякого сомнения. Он звонил два часа назад.
– Болос?
– Да.
– Это Женсана.
– Блин, Женсана, черт бы тебя подрал. – На другом конце трубки чувствовалось облегчение. – Будь осторожен, слышишь?
– Ты можешь мне объяснить, что происходит?
Пауза в несколько секунд. Мне показалось, что Болос хочет удостовериться, что никто из домашних его не слышит. Он продолжил шепотом:
– Встречаемся прямо сейчас.
Очень вовремя, даже пиво не даст допить. И все из-за франклиновской мании преследования.
– Ты уверен, что…
– Симон, клянусь тебе, это не шутка. На башне через час.
И бросил трубку. Он бросил трубку! Во дает Болос: целый роман себе выдумал! Тоже мне, подражатель Орсона Уэллса! Встречаемся на башне Тибидабо, как в венском Пратере! Как в старые добрые времена! Мне стало смешно. Но вместо того чтобы отправиться в душ, я обреченно надел ботинки, допил пиво и снова сел за руль, пускаясь по течению вечернего дорожного движения в час пик.
Микель приехал вовремя, ровно через час он подъехал к подножию башни. Рыжеволосого парня, жующего жвачку, там в этот раз не было. Билеты продавала смуглая молчаливая девушка, и длинной очереди желающих потренировать вестибулярный аппарат на колесе обозрения не наблюдалось. Микель подумал, что ему нетрудно будет убедить Болоса, что не обязательно лезть на эту верхотуру только для того, чтобы поговорить с глазу на глаз, и что они могут спокойно посидеть на железной скамейке на смотровой площадке с шоколадным мороженым в руках. Прошло полчаса, но Болос не появлялся, и Микель уже начал ругать его нецензурными словами за непунктуальность и дурацкие идеи. Прождав час, он начал ощущать какое-то смутное беспокойство, но пока еще не понимал о чем. В десять часов вечера, когда небо почти стемнело, он решил позвонить ему домой и спросить, какой дурью он мается. Трубку взяла жена, и, словно чего-то остерегаясь, он непринужденно сказал ей: «Добрый вечер, Мария, это Женсана говорит».
– Здравствуй. Ты Жузепу-Марии звонишь?
– Да. Как у вас дела?
– Нормально. Слушай, его сейчас нет дома. У тебя-то как дела?
– Да все помаленьку. А когда он вернется?
– Не знаю. Он сказал, что выйдет на минутку, и что-то задерживается.
– А ты не знаешь, куда он пошел?
– Не знаю. – И встревоженно: – А что?
– Да нет, просто хотел сообразить, как… как… Нет, знаешь что? Лучше я перезвоню ему завтра.
– Ну как хочешь.
– На самом деле это совсем не срочно. Целую.
– Пока, Микель.
Когда парк развлечений закрылся, а смуглая девушка взяла свою сумку и ушла с друзьями, в желудке у Микеля уже начинало урчать, но по-прежнему не было ни следа Болоса с его непонятными страхами. Он подумал, а не послать ли к чертям этого идиота, когда-то бывшего ему другом, и не пойти ли в кинотеатр «Касабланка» на ночной сеанс. Но он вернулся домой, думая, что пора бы набросать первоначальный план интервью с Шиффом и снова послушать все его диски, какие найдутся дома. Когда он пришел домой, те две или три идеи насчет Шиффа, которые были у него в голове, немедленно улетучились, поскольку его ожидало новое сообщение: «Товарищ Симон, теперь очередь за тобой». Больше ему во втором сообщении ничего не сказали. И этот хриплый голос был ему совершенно незнаком. Что значит «теперь»? Он закурил и вышел на балкон. «Теперь». Значит, Болоса уже… Он посмотрел на часы: было уже как-то поздновато звонить Марии, чтобы сказать: «Слушай, а Болос-то вернулся? Живой? Веселый? Что, не вернулся? Тогда знаешь, похоже, его убили, но ты не волнуйся: на войне как на войне». Микель вернулся в гостиную. На мгновение ему показалось, что, пока он стоит на балконе, ничего бы не стоило тому, кто захочет… Нет, невозможно, чтобы в тысяча девятьсот девяносто пятом году люди еще занимались такими вещами… И он, конечно же, не может пойти в полицию, потому что все это либо идиотская шутка, либо всерьез. И если это всерьез, то безумный убийца мог рассказать легавым, что единственной его целью было отомстить за смерть отца, брата, племянника, деда, кузена, погибшего от беспощадной критики в затылок. И комиссар Молина повернулся бы ко мне и спросил бы: «Так вы убийца, господин Женсана?» – и я бы сказал: «В принципе, нет, но… я вот сейчас вас слушаю и думаю, мне даже и в голову никогда не приходило, что это можно назвать убийством; мне это всегда казалось казнью предателя. И меня так мучила совесть, что я раскаялся в том, что участвовал в казни, и стал совсем другим человеком. Я не нажимал на курок, комиссар, я только грязным полотенцем вытер лужу крови на полу, и, если хотите знать, комиссар, в тот момент я не чувствовал, что на мне грех. Но теперь все изменилось: сейчас я не могу с этим жить и не устаю повторять, что содеянное останется со мной до конца жизни. Как содеянное, так и несодеянное. Человеку, не готовому нести груз прошлого, пришлось бы научиться жить не думая». И комиссар Молина задумчиво покрутил бы ус и, чтобы скрыть свое замешательство, напустил бы на себя вид специалиста в области истории, социологии и психоанализа, погрозил бы мне пальцем, улыбнулся, как герой американского фильма, и сказал бы мне: «Позвольте мне сказать вам одну вещь, Майк: это значит, что вы, человек, воспитанный как добрый христианин, получивший серьезное и весьма достойное образование, оказались способны на убийство? Вы, человек, чувствительный к тонкостям художественного творчества, хотите сказать, что взяли пистолет и пиф-паф?» И я сказал бы: «Нет, комиссар Молайна, не в этом дело». А он бы ответил: «А в чем же тогда дело?» И я, как человек слабый, плача и крича, наврал бы ему с три короба: «Это все Болос! Это Франклин его застрелил, потому что эти сукины дети Курносый и Кролик оставили его полуживым, подонки!» И в приступе страха я бы предал своих товарищей и превратился бы еще в одного изменника делу, против которого должна быть направлена конструктивная критика в затылок. Или в сердце: «Стреляйте мне в сердце, товарищи. Цельтесь мне прямо в сердце: оно никогда никуда не годилось и слишком сильно бьется. Оно выходит из-под контроля, товарищи».
Короче, я не мог пойти в полицию и во всем сознаться. И не было смысла звонить Болосу в час ночи. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он стал искать в телефонной книге номера больниц и моргов, но не решился… а вдруг?..
И если бы за мной тогда охотился убийца, то ему бы ничего не стоило сделать свое дело, потому что, выходя на улицу в половине четвертого утра, я решил не прятаться. Может, вот этот небритый таксист? Или тот человек, что разгружает рыбу из музейного вида «ситроена» – «две лошадки» возле бара «Ка л’Энграсия»? Я подумал: «Хочешь стрелять – стреляй». И сел в машину. Поворачивая ключ зажигания, я стиснул зубы. Взрыв разнесет все на мелкие клочки, и я, как в свое время Карреро Бланко, полечу обратно на балкон своей квартиры, но не целым, а кусочками. Несмотря ни на что, машина завелась с преспокойным урчанием, и я подумал: «Что это я? Совсем озверел, чтобы думать, что кто-нибудь…» И сосредоточился на том, что могло случиться с беднягой Болосом. Я доехал до его дома. Я не смог заехать в паркинг и посмотреть, стоит ли там его машина. Пришлось ограничиться тем, чтобы проехать от его квартиры в районе Фонт-д’эн-Фаргес до подножия башни на Тибидабо, по той дороге, которой он, по моему мнению, должен был воспользоваться; проехать медленно-медленно, на каждом углу ожидая увидеть красно-белую ленту полицейского контроля и расплющенную в лепешку машину Болоса. Короче, фильмов насмотрелся. На шоссе де л’Аррабассада я подумал, что, может быть, все это – просто идиотская шутка того же Курносого или Кролика, и, чтобы отпраздновать такой исход, закурил. И тогда он увидел на разъезде синие огни полицейской машины. Там стояла даже не одна, а две машины, и полицейский регулировал движение, чтобы не образовалась пробка из немногих автомобилей, ехавших по этому шоссе. Одна полицейская машина, две полицейские машины. Вероятно, парадом командовал комиссар Молайна. И краем глаза я заметил какой-то предмет, скатившийся под откос, и подумал: «Какой же сукин сын этот убийца», и у меня так задрожали руки, державшие руль, что пришлось остановиться на обочине прямо у поворота Револьт-де-ла-Паэлья, и сердце опять начало биться изо всех сил, как в былые дни. Простояв там минут пятнадцать, Микель вернулся домой с сомнениями в сердце, ожидая, не появится ли новость в какой-нибудь газете через пару часов после происшествия или не позвонит ли ему какой-нибудь друг, чтобы сказать: «Ты слышал, что с Болосом случилось? Представляешь…»
Он не мог спать. Он не решался позвонить Марии. В девять утра, когда, по идее, он должен был приступить к наброску плана интервью с Андрашем Шиффом, ему позвонил Пеп Комас из «Журнала» и сказал ему: «Женсана, ты слышал, что случилось с Болосом? Представляешь…» За утренним чаем, после ужасной ночи, в программе новостей Антония Бассаса по радио подтвердили, что депутат парламента Каталонии Жузеп-Мария Болос погиб прошлой ночью в результате трагической и необъяснимой аварии на шоссе Аррабассада. И Микель, глотая слезы вперемешку с чаем, плакал о Болосе, который уже сто лет был ему другом, далеким или близким, но все-таки другом. За этими слезами скрывались другие, еще более сильные чувства, например неуверенность в том, что теперь будет со мной, если голос, оставивший мне второе сообщение, существовал на самом деле, если мне не приснился. Его убили, а я не могу пойти в полицию и рассказать об этом. Болос, друг ты мой…
На кладбище я спрятал глаза за темными очками и, несмотря на то что официально считался лучшим другом Болоса, уступил свое место более новым друзьям, недавним товарищам по партии, в которой он состоял так недолго, представителям власти, говорившим о заслугах политика, перед которым открывалось такое блестящее будущее. И далеко вдали, молча, стояла Мария, она даже не спросила меня, почему я позвонил как раз в тот момент, когда Болос, скорее всего, умирал, и была ли эта авария действительно аварией. Я не смог снять очки, потому что был уверен, что никакая это не авария и что знали об этом только бедняга Франклин и я. И убийца, разумеется. И как ни странно, мне совсем не было страшно, несмотря на угрозу, произнесенную хриплым голосом, сказавшим: «Товарищ Симон, теперь очередь за тобой». А с моря дул теплый ветер. Микелю было почти не слышно, о чем говорили коллеги депутата. Мне нечего было сказать, кроме как: «Болос, зачем ты умер? Франклин, ведь было еще не время умирать!» И тогда я почувствовал: кто-то смотрит мне в затылок, и обернулся. И перед взглядом моим оказалось не море у подножия горы Монжуик, а старомодная борода и подернутые слезами глаза, уставившиеся в одну точку. В ту минуту присутствие Ровиры было мне неприятно, и я ограничился тем, что состроил гримасу, которая означала: «Привет, потом поговорим, отстань, до скорого свидания».
– Хорошо, – сказал Ровира.
А потом взял меня под руку и увел по поднимавшейся в гору дороге, по правую сторону которой виднелись могильные плиты, а по левую – бесконечное море, и начал говорить о судьбе и о случайности, о непредсказуемости дорожно-транспортных происшествий и о смысле дружбы.
– Я хочу побыть один, Ровира.
– Бедняга Болос остался один. Один, как камень.
Он взглянул на меня краем глаза, чтобы удостовериться, подействовала ли на меня цитата из песни Раймона. Ровира, вечно ты опаздываешь на четверть века. И я почувствовал что-то вроде жалости к этому бородатому мужику в вельветовом пальто, который был так одинок – «один, как камень». И я решил не раскрывать ему тайны гибели нашего друга; тайны, ставшей для меня явной еще рано утром, потому что хриплый голос, уже казавшийся мне знакомым, опять позвонил мне на автоответчик в полшестого, и я услышал звонок и еще в полусне схватил трубку. Хриплый голос был не против со мной поболтать, хоть я еще и не совсем проснулся.
– Знаешь, что я задумал, сеньор Симон Женсана?
– Не знаю. Что?
– Я решил, что убью того, кому выпадет лучшая карта. Тебе выпала восьмерка бубен, а ему десятка треф.
В первый раз в своей жизни я взял сигарету в такую рань и выкурил ее в тишине: голос терпеливо ждал, пока я приду в себя.
– Все, сон прошел?
– Кто ты такой?
Хриплый голос продолжал говорить со мной, как будто и не было этого долгого молчания:
– Надо сказать, сначала я собирался убить тебя.
Тут мне действительно стало страшно.
– Слышишь?
– …
– …
– Д-да… Кто ты? Зачем тебе это все?
– Ты знаешь, почему я тебя не убил?
– …
– Потому что ты не оказался в подходящем месте в подходящий момент. И тогда мне пришло в голову положиться на карты.
– Я пойду в полицию.
– Давай, топай.
– Я тебя не боюсь.
– Послушай, Симон: я паранойей не страдаю. Я отомстил, и все. Ты и так знаешь, что смерть твоего друга – не несчастный случай. Вот я тебе и объясняю. Мне вообще не особенно приятно с тобой болтать.
– Но… Болос… Франклин… – Микель посмотрел по сторонам, но ни одна книга в шкафу не сдвинулась с места, чтобы прийти ему на помощь. – Он не… Он никого не убивал.
– Да что ты говоришь…
– Да. Это я его…
Хриплый голос засмеялся и бросил трубку. Спать Микелю расхотелось. Он провел пару часов, глядя в стену и оплакивая своего Франклина Болоса, которого через пару часов должны были похоронить на кладбище на горе Монжуик.
Когда я пришел домой и наконец-то смог снять темные очки, на автоответчике меня ожидало новое сообщение: «Микель, мне необходимо с тобой увидеться. Обязательно пригласи меня завтра на ужин. Нам нужно поговорить о Жузепе-Марии Болосе. Я заеду за тобой в восемь. Если тебе неудобно… Тебе будет удобно, правда?» И Микель подумал, что, конечно, ему будет удобно, у него нет никаких планов, у него никогда не бывает никаких планов. Разве что, быть может, будет не совсем удобно, если до восьми вечера в пятницу его уже убьют. Жулия… Зачем ей говорить о Болосе? О чем успела догадаться эта Жулия?
Микель улыбнулся, глядя на Жулию. Он продолжал поскребывать ногтем кофейное блюдечко. Есть вещи, которые женщине никак не скажешь. Не могу же я, например, сказать ей, что мы ужинаем в ресторане, который когда-то был моим домом. Поэтому Микель еще раз повторил:
– Я даже не знал, что вы с Болосом еще встречались.
Жулия взглянула на него, в этом взгляде отразилась вся ее жизнь. И тогда Савл снова свалился с лошади, как обычно, но еще вдобавок и мордой об асфальт, как шут гороховый, по дороге в Дамаск, и растерянно сказал: «Не может быть».
– Еще как может, – возразила она. – Мы с твоим Болосом были любовниками.
Микель раскрыл рот, как Фома неверующий, готовый вложить перст, то есть засунуть руку по локоть в язвы гвоздинныя.
– И когда все это началось?
– В тот день, когда ты нас познакомил. – Неужели Жулия улыбнулась? – Десять лет назад.
«Познакомьтесь. Это Болос, мой друг. Это Жулия, мы вместе работаем». – «Она просто красавица, Микель. Откуда она у тебя?»
Болос, сукин ты сын, ты же делился со мной всеми своими мечтами, но в один прекрасный день перестал это делать, потому что я морщил нос, когда ты говорил о Социалистической партии, потому что у меня все еще не прошло похмелье от войны, и от струйки крови, и от полотенца, и я думал, что политика – это гнилая куча навоза. Грязный ты подонок, Болос, ведь мы так друг друга любили, но так никогда и не рассказали друг другу, что происходит у нас в душе, потому что мужчины, за исключением Ровиры, всегда странным образом стыдливы в отношении всего, что касается чувств, и делают вид, что в жизни нет места сердцу, и из кожи вон лезут, чтобы найти тему для разговора, которая избавит их от необходимости рассказывать, что «несколько дней назад я познакомился с девушкой, при одной мысли о которой я сам не свой, и не знаю, что делать, потому что Марию я тоже люблю». Ты представляешь, Болос? Я познакомил тебя с хрупкой двадцатилетней девственницей, которая проводила рядом со мной по восемь часов каждый день и которую я пальцем не решался тронуть. Мать твою, Франклин, ты меня предал, ты целых десять лет трахал мою секретаршу, и ни один из вас мне ничего не сказал, вы от меня это скрыли. И Микель почувствовал себя смешным рогоносцем, как дон Маур Женсана Второй в рассказе дяди Маурисия: в нем жила не совсем понятная уверенность, что Жулия в каком-то смысле принадлежит ему. А как же Мария, Болос? Ты изменил Марии? Про социалистическую этику врать все горазды, а как доходит до постели… Прости, Франклин, я уже заговариваюсь. Я просто тебе завидую, потому что должен тебе признаться, что не раз и не два мне хотелось затащить Жулию в постель. И, держа эту связь в тайне от Марии и от своего друга, ты умер. А теперь мы с твоей любовницей сидим и делаем вид, что сочиняем твой некролог, в котором не будет ни одного из тех секретов, которыми ты в жизни дорожил, не будет упомянуто, из-за чего ты умер, и ни слова не будет сказано о том, чего страшился ты в свой последний час, когда договорился встретиться со мной на башне и не явился на место встречи.
– Я был в курсе, – улыбнулся я. – Он мне рассказывал.
И вдруг я увидел, что Жулия молча, не говоря ни слова, заплакала, и мне захотелось стереть эту боль, скрытую до того момента за бесполезной и жалкой улыбкой. Прошло несколько секунд, то есть не несколько, а несколько тысяч секунд, пока Жулия не успокоилась; и Микелю стало стыдно, потому что он думал только о себе, когда Жулия сказала ему: «Мы с твоим Болосом были любовниками», и ни на мгновение не задумался о Жулии, о силе ее любви, о ее личной жизни, которая, похоже, была совсем не такой разнообразной, как ему представлялось, и о ее праве чувствовать себя несчастной. И я подумал, это просто смехотворно, что я сижу и оплакиваю свои потери перед сильной женщиной, у которой, несмотря на ее молодость, в душе зияет открытая рана и которая только что преподала мне бесценный урок того, как не делать трагедию из своего горя. И тогда я намекнул, что, может, пора и по домам.
– Как ты думаешь, Жулия? – И я коснулся ее руки, впервые – с нежностью.
– Нет, – уперлась она, как бабушка Амелия. – Мы пришли сюда, чтобы говорить о Жузепе-Марии, и будем говорить о Жузепе-Марии.
– Что же ты не сказала Дурану, чтобы он сам писал эту статью?
– Я хочу написать ее сама. Чтобы почтить его память.
– Мне кажется, ты лучше знаешь Болоса, чем я, – растерянно и сломленно сказал Микель.
– Ты знаешь то, чего не знаю я. Он был очень замкнутым. – Она сердито смахнула со щеки непрошеную слезу. – Говори, рассказывай, Микель. Не важно, про себя рассказывай. – И, помолчав: – Прошу тебя…
– Ладно. Но мы подошли к той части, когда всей моей жизнью была Тереза.
– Тогда рассказывай про Терезу. – Она размазала тушь платком и улыбнулась неискренней улыбкой. – Рассказывай что хочешь. Прошу тебя, только не молчи.
13
– Здравствуй, папа.
– Алло?
– Это Микель.
– Микель?
Глухое молчание. Как ты мог так от нас сбежать, почему ничего не сказал матери, почему так никогда ничего и не объяснил, почему мы перестали для тебя существовать? Почему ты завел другую семью?
– Папа?
– Да. Что тебе нужно?
– Это правда, что у меня есть брат?
– Зачем ты мне звонишь? – Тут он заговорил другим тоном: – Откуда ты достал мой номер телефона?
– Дядя Маурисий давно уже умер… Когда ты… Он умер в том году, когда ты уехал.
Новое молчание, растянувшееся на тысячи и тысячи морских миль между отцом и мной. Вернее, между отцом и прошлым, которое для него уже не существовало. С другого конца света долетел охрипший голос:
– Я знаю. Я очень о нем горевал.
– Почему ты исчез из нашей жизни, папа?
– Хочешь пробудить во мне угрызения совести?
– В четверг умерла мама.
Теперь молчание стало напряженным. Мне показалось, что отец пытается сдержать вздох, чтобы, как всегда, не выдать своих чувств.
– Бедняга, – сказал он еще более хриплым голосом.
Вот сукин сын: «бедняга», говорит. Я страшно разозлился.
– Чтоб ты знал, у тебя есть внук. Его зовут Маурисий, и он похож на тебя.
И Микель Женсана Второй, Изобретатель Новых Поколений, бросил трубку, не сообщив отцу, что дядя Маурисий написал ему длиннющее письмо в тетради с черной обложкой; не сказав ему, что, несмотря на то что он оставил их без штанов, они нашли способ выжить; не сказав ему, что мать умерла совсем одна, в одиночестве и печали, вдали от своих Микелей, все еще спрашивая себя: «За что Пере так со мной поступил?»
Он еще держал в руке телефонную трубку, когда внезапно, с ходу вспомнил обо всех смертях в своей семье – смертях, оставивших более горький привкус, чем тот, что оставляет любая смерть. Конечно, когда умер дед Тон, он был еще слишком мал, чтобы об этом помнить. Но смерти тех, кого он любил, застали его не вовремя, вдали, когда он был занят другими вещами, и тяжким грузом висели у него на совести. Когда еще и речи не было об операции Equus и Симон Апостол Язычников был знаменем передовой гвардии рабочего класса, домашние не нашли способа сообщить ему о смерти бабушки Амелии. И он узнал об этом только через два дня, когда прочел в газете известие о ее смерти, в котором значилось его имя как скорбящего внука и говорилось, что семья с благодарностью отказывается от памятных венков и визитов знакомых. Домашние не смогли сообщить ему об этом, потому что не знали, как с ним связаться: он, вместе с книгами, пистолетом и тремя сменами белья, каждые две недели переезжал с квартиры на квартиру. И никто мне ничего не сказал, Жулия. Никто. И потому мне стало очень плохо, я чуть не упал, когда прочитал в газете «Ла-Вангвардия» сообщение о ее смерти, прямо у стойки бара, где жевал круассан с запахом прогорклого масла. Донья Амелия Эролес, вдова Антония Женсаны, отдала душу Богу и отошла в лучший мир после долгих лет упреков сухаря-мужа, которому до смерти надоели фантазии приемного сына, ставшего членом их семьи почти в начале века; донья Амелия, мама Амелия, бабушка Амелия, Амелия Любимая, госпожа с Нежным Взглядом, сумевшая пережить смерть двух дочерей и своего первого внука и не дойти до глубин отчаяния, угасшая ноябрьским утром, как лампадка без масла, окруженная любовью своего приемного сына, родного сына, невестки, при зияющем отсутствии ее единственного внука, который в это время спасал мир с пистолетом в спортивной сумке и которому никто не смог послать зашифрованное сообщение, которое бы гласило: «Симон, у тебя умерла бабушка, она ушла в возрасте восьмидесяти пяти лет, причастившись Святых Тайн Христовых и получив апостольское благословение. По просьбе возлюбленных чад ее, Пере Беглеца и Марии Молчаливой, Маурисия Безземельного и внука, Симона Вероотступника, и всей семьи, помяните усопшую в своих молитвах». И тогда отец поставил на нем крест: «Если он не пожелал прийти даже на похороны собственной бабушки, моей матери, значит нет у него сердца». Микеля и вправду не было на похоронах. На следующий день, в туманную среду, он пошел на кладбище, все еще с прогорклым вкусом круассана во рту. И после этого, нарушая все правила безопасности, которые он же и проповедовал своим ученикам, зашел домой. Там он уловил упрек в глазах матери и дяди; отец был на фабрике. А в сердце Микеля ныла рана, потому что он чувствовал свою вину.
И когда ему удалось вновь сблизиться с дядей Маурисием, задолго до того, как его интервью в «Журнале» стали появляться регулярно, злобная и капризная судьба отправила его интервьюировать Мартина Эмиса ровно потому, что дяде пришло время умереть. Смерть матери тоже застала его вдалеке от ее смертного ложа, потому что она была очень слаба, а самое главное, уже не хотела жить и умерла в одиночестве, в квартире в Фейшесе, а он был в Барселоне, в погоне за какой-то очередной мечтой. А точнее, сидел, закрывшись на ключ, у себя в квартире и писал эссе про Фоша. Когда кто-то умирает, меня никогда нет там, где нужно; и от этого бывает очень больно. Вот почему, положив трубку, я пожелал, чтобы отца как следует помучила совесть за то, что его не было рядом, когда умирала мать. Я знаю, что далеко не идеален, Жулия.
14
Я подхожу к концу своего мрачного повествования, Микель. Скоро закончатся страницы в этой тетради с черной обложкой, и скоро закончится моя жизнь. Когда я допишу самые черные страницы своей исповеди, на дворе уже стемнеет. Я проведу эту ночь без сна, не зажигая света, чтобы сержант на меня не накричала. А завтра, когда солнце появится на горизонте, прежде чем выйти из комнаты с целью откушать каждодневный скучный завтрак, я поступлю по традиции всех мужчин в нашей семье: сяду лицом к окну и внезапно умру.
Должен тебе признаться, что я таков, каким станешь и ты: человек, страшащийся поражений в жизни, в которой нельзя ничего изменить. Мне не позволили любить так, как я хотел; мне выпала участь, которая обычно достается женщинам, – участь того, кто видит все, что происходит, из окна дома и по этой причине страдает. И чувствует все глубоко, как женщины. Со мной поступили так, заявив в свое оправдание, что я транжир и мот и что деньги утекают у меня сквозь пальцы из-за моего пристрастия к рулетке и покеру. Нельзя не согласиться с тем, что я немало потерял в пылу азарта; я и вправду был, как говорят врачи, одержим пагубной страстью к игре. Но следует признать и то, что все решили, что я безобиден, и я сумел найти убежище в книгах и игре на рояле.
И в этом их ошибка, Микель. Потому что я один, спрятавшись за своими книгами и сидя за роялем, смог причинить больше зла, чем мой ненавистный отчим. В хрониках сказано, что я сошел с ума, когда сбежал из дома твой отец. Так оно и было. Но семя безумия уже было во мне, когда я понял, что никогда не смогу жить нормальной жизнью рядом со своим любимым. И отчаяние привело меня к созданию настоящего произведения искусства, в котором я нашел искупление; я отыскал древний рецепт алхимиков, дающий смысл au dur désir de durer, тому, чего, как Фауст, я жаждал всем сердцем. И знаешь, как я этого достиг? Ты знаешь, что это за художественное творение? Прекрасная история любви твоей прабабушки Пилар Прим де Женсаны, Микель. Я никогда не знал ее достаточно близко, чтобы проникнуть в ее секреты; я никогда не находил никаких тетрадей в черных обложках, которым она в тяжелые минуты доверяла тайны своего безутешного сердца. Эта страстная и печальная Пилар создана мной, Микель; это мое великое творение. Я сам выдумал всю ее любовную интригу с туповатым фабрикантом, с которым они дружили семьями. Она никогда не была неверна своему мужу, выдающемуся поэту Мауру Второму, Божественному, напрасно и безосновательно называемому Рогоносцем.
Я написал эту прекрасную историю за две вдохновенные ночи и горько плакал оттого, что слова, написанные на бумаге, не становились явью. Но меня утешала мысль, что точно так же, как произведение искусства, только появившись на свет, изменяет реальность, это повествование повлияло на жизнь моих персонажей, членов моей семьи, включая тебя, так что все Женсаны созданы мной. Это всего лишь игра? Даже и не знаю. Если это и игра, то игра ужасная, потому что мне было невдомек, что в искусстве заключается правда, правда искусства, которая часто сильнее самой жизни. На всякий случай я спрятал эту незаконченную тетрадь, в которой я писал женским почерком и в витиеватом женском стиле, между фолиантов по каноническому праву, которые, я был уверен, никто никогда не откроет. Но так случилось, что как-то раз поэт их все-таки раскрыл и нашел тетрадку. Возможно ли, что Маур Второй, Божественный, умер, прочитав то, что в ней было написано? В любом случае его реакция превратила эту фальшивку в правду. Скорее всего, он был единственным человеком, способным на такое: он был поэтом, привыкшим витать в облаках, и ему ничего не стоило поверить словам, написанным на бумаге, которые были ложью, но в гораздо большей степени соответствовали литературной правде, чем настоящей жизни, годам, прожитым им вместе с твоей прабабушкой. Таковы художники, Микель: они живут в придуманном мире. Поэтому так трудно жить с поэтом. Если моя прекрасная история и не соответствовала действительности как таковой, то реакция на нее Маура Божественного сделала-таки ее правдой: он поверил тому, что прочитал в тетради, в соответствии с этим изменил реальность и подарил мне бессмертие. Все, что он сделал после прочтения (то есть позвал нотариуса, изменил завещание, сел в кресло в портретной галерее и умер), было абсолютно подлинно. И очень литературно. Я могу себе представить, в каком ужасе читал он эту тетрадь, сидя за письменным столом в библиотеке. И я уверен, что больше всего его огорчила не неверность жены, а то, что его потомство («Как семечко жасмина, что дивно проросло / В утробе матери, напитано любовью») принадлежало не ему, а никчемному Пере Ригау.
И подлинность чувств, вызванных совершенно реальными действиями поэта Маура Женсаны Второго, безосновательно названного Рогоносцем в моих предыдущих хрониках, также не оставляла сомнений. Особенно ненависть твоего деда Тона, моего отчима. В те минуты, когда властью, данной мне словом, из Маурисия Безземельного я превратился в Маурисия Безраздельного Хозяина, я решил сделать так, как велели мне мои чувства: я стал единственным истинным Женсаной, сыном Карлоты Возлюбленной. А вы, все остальные, превратились в потомство незаконнорожденного отпрыска, деда Тона; мне было приятно превратить его для истории в Антона Женсану Третьего, Ублюдка, потому что, узнав о существовании нового завещания, он повел себя как ублюдок, отыскивая то, что сильнее всего могло меня ранить, с целью вернуть себе отнятое у него искусством. И не только мой приемный отец, Антон Третий, Могилу Которого Я Оплевал, действовал как ублюдок, как ублюдок повел себя и твой отец, Пере Первый, Беглец. Он причинил мне истинную боль, и потому для историков это явилось причиной Шести Больших Симфоний. Пере унаследовал повадки своего отца и заставил меня предать вас, чтобы помочь ему бежать. Это и свело меня с ума. И если временами меня переполняла гордость за мое литературное произведение, в другие минуты я страдал, потому что, как типичный ученик волшебника, никогда раньше не мог себе вообразить ужасные последствия силы слова. С тобой никогда в жизни не случалось такого, Микель, чтобы содеянное тобой оказалось несоизмеримо с твоими намерениями?
(И Микель подумал: «Да, со смертью Быка так и случилось». И Жулия слушала, замерев.)
Поэтому я и пишу тебе из сумасшедшего дома, чтобы во всем признаться. Я бы сказал это тебе сам, если бы ты пришел ко мне, но ты уехал, а мне пора умирать. Я хочу, чтобы ты знал, каким я был; чтобы ты не думал, что ненависть, которая впиталась в стены дома и присутствие которой ты чувствовал, хотя никто тебе о ней не рассказывал, возникла исключительно по вине тех, кто ненавидел меня; а еще я надеюсь, что теперь я буду жить в твоей памяти. Почему бы тебе об этом не написать, Микель? Тогда я снова оживу в твоих словах.
Чтобы свершилось правосудие, необходимо снова восстановить Первое Генеалогическое Древо, такое же настоящее, как и Истинно Подлинное, Рожденное Литературой. В нем ты увидишь, милый мой, что целая толпа наших с тобой общих родственников не уместилась в моей Хронике. История, как и искусство, относится к материалу выборочно. Единственное, о чем я сожалею, – это то, что, быть может, Микель Гальсеран-и-Женсана или Мерсе Женсана предоставили бы нам гораздо более богатую страстями историю. Но я всего лишь человек и потому (скорее всего, несправедливо) исключил эту забытую историей родню из своего повествования, и память о них не сохранится. Обрати внимание, там уже указано, когда я умру.
(А я позволил себе несколько дополнить то, что дядя написал обо мне, Жулия.)
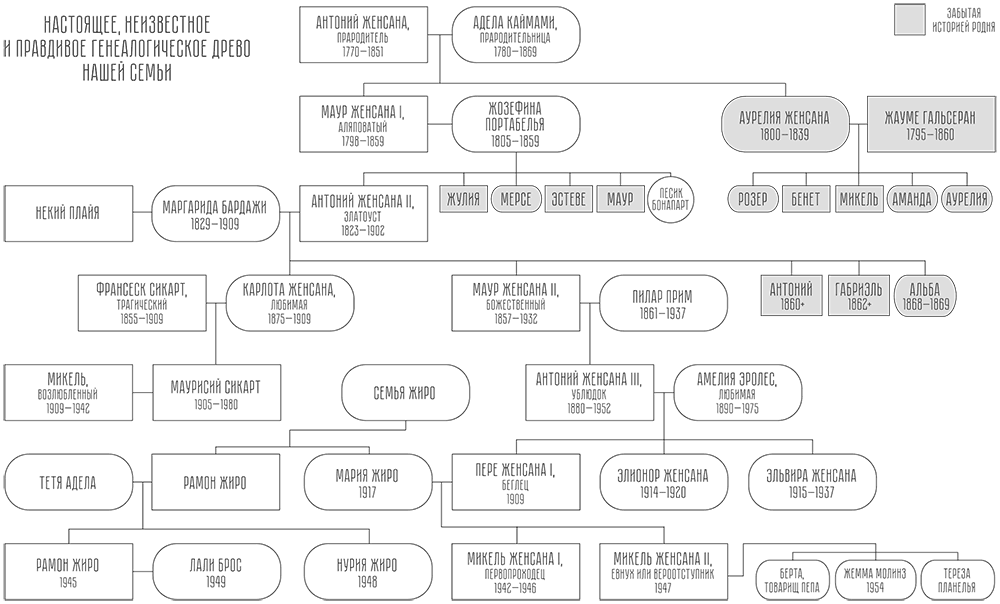
Солнце зашло, небо начинает темнеть слишком быстро. Я отвлекся на несколько минут, чтобы смастерить для тебя абиссинского льва. Рисовой бумаге следует найти применение: в противном случае капитан обязательно решит использовать ее в качестве туалетной. И вот сейчас я заканчиваю эту исповедь – на последней странице тетради.
Нет сомнения в том, что я люблю тебя, Микель Женсана Второй, мой Единственный Наследник. Несмотря на то, что ты не сможешь простить мне всей правды и страстей, которые, скорее всего, явились причиной того, что ты лишился отца и дома.
Знай, что я всю жизнь кого-то хороню. То же самое предстоит и тебе после моей смерти: хороня родных, ты поймешь, что уже не молод; что из тех, кого уже нет с нами, и складывается жизнь и что с каждой новой смертью ты все беззащитнее. И когда ты состаришься, то узнаешь, что для стариков не существует ничего, кроме прошлого. И в тот момент, когда былое встает в моей памяти, не важно, сколько времени на самом деле занимали события. Все в моем прошлом реально – все, что я помню, живо, целостно и единственно в своем роде. Все, что я помню, навсегда останется неизменным и никогда не повторится. Теперь мне предстоит переправа на другой берег темного озера, и я чувствую, Микель, что жизнь моя – бесконечный аорист.
«Настало время положить конец той тьме, в которой я прозябаю уже более семидесяти лет. Несмотря на все усилия, мне так и не удалось найти луч света в леденящем душу мраке моей жизни».
JEAN-JACQUES MAURICE SANS TERRE

