Вильям Вильсон
Позвольте мне пока называть себя Вильямом Вильсоном. Чистая страничка, лежащая передо мной, не должна быть запачкана моей настоящей фамилией – она слишком часто возбуждала презрение, ужас и отвращение у моих родных. Разве разгневанные ветра не разнесли молву о моем позоре по всему свету? Ах! Из всех изгнанников я самый покинутый! Разве я не навеки умер для мира, для его почестей, цветов и золотых стремлений? И разве между моими надеждами и небом не вечно висит густая, мрачная, беспредельная туча?
Я не желал бы описывать на этих страницах свое невыразимое несчастье и непозволительные преступления последних лет. За это время – за последние годы – я слишком низко пал и сейчас хочу рассказать только о том, с чего началось мое падение. Люди становятся негодяями постепенно. С меня же всякая добродетель спала сразу, словно плащ с плеч. От сравнительно простой слабости я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала.
Позвольте мне рассказать, какое событие привело меня к преступлению. Смерть приближается, и тень, предшествующая ей, смягчила мою душу. Переходя по мрачной долине своей судьбы, я жажду симпатии – чуть было не сказал сострадания – своих близких, мне хотелось бы в некотором роде убедить их, что я был рабом обстоятельств, не зависящих от воли человеческой. Я желал бы, чтобы в этом моем рассказе они нашли оазис рока посреди пустыни заблуждения. Я желал бы, чтобы они согласились – с чем они не могут не согласиться, – что на свете бывало множество искушений, но никого не искушали так, и никто, конечно, не падал таким образом. И, разумеется, никто не страдал так. В самом деле, не жил ли я все это время во сне? И не умираю ли жертвой самых ужасных и таинственных призраков, какие только бывают под луной?
Все мои предки отличались пылким воображением и легко возбуждаемым темпераментом, и в детстве уже видно было, что я унаследовал у них эту родовую особенность. С годами она развивалась все сильнее и по многим причинам вызывала серьезное беспокойство у моих друзей и положительно вредила мне. Я рос своенравным и склонным к самым диким капризам, предавался самым необузданным страстям. Мои слабохарактерные родители, страдающие теми же врожденными недостатками, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Их слабые попытки кончались полным поражением – и моим торжеством. Вследствие этого голос мой в доме был законом, и в те годы, когда немногие дети ходят без помочей, я был предоставлен самому себе и поступал как мне было угодно.
Мои первые воспоминания о школьной жизни связаны с высоким, гигантским домом в стиле королевы Елизаветы в мрачной английской деревне, где была масса громадных сучковатых деревьев, а дома отличались ветхой стариной. Право, этот почтенный старинный городок походил на что-то призрачное и действовал на воображение. Я до сих пор чувствую отрадную прохладу его густых аллей, вдыхаю благоухание тысячи кустов и трепещу от бесконечного наслаждения, когда слышу густые, низкие звуки церковного колокола, то и дело внезапным и грозным гулом нарушавшие туманную тишину, в которой тонула и дремала зубчатая готическая колокольня.
Мне доставляет удовольствие – если только это возможно в моем настоящем положении – вспоминать все эти мельчайшие подробности о школе и ее обстановке. Низвергнутому в несчастье, мне простительно искать утешения, хотя бы слабого и временного, в детских и смутных воспоминаниях. Хотя воспоминания эти ничтожны и, может быть, смешны, но для меня они имеют огромное значение, так как связаны со временем и местом, где я впервые усмотрел двусмысленные указания рока, который потом так глубоко окутал меня своей тенью. Оставьте же мне мои воспоминания.
Дом, как я сказал, был стар и запущен. Громадный сад и двор окружала крепкая каменная стена, усыпанная сверху толстым слоем битого стекла. Ограда, пригодная даже для тюрьмы, служила границей наших владений. Наши взоры проникали за ее пределы только трижды в неделю – по субботам вечером, когда в сопровождении двух учителей нам позволялось всем вместе гулять по соседним полям, и два раза по воскресеньям, когда мы, выстроенные в том же порядке, отправлялись на утреннюю и на вечернюю службу в единственную в деревне церковь.
Директор нашей школы был пастором этой же церкви. С каким глубоким чувством восхищения и удивления следил я за ним с нашей уединенной скамейки на галерее, когда он торжественно и медленно поднимался на кафедру. Неужели этот почтенный проповедник с кротким и благочестивым лицом, в чистой и широкой рясе, в высоком и большом парике, тщательно напудренном, мог иметь нечто общее с этим злым человеком в сюртуке, выпачканном табаком, который с палкой в руках учинял расправы в школе? О, страшный парадокс, неразрешимый по своей чудовищности!
В одном из углов массивной стены находилась гигантская дверь, которая закрывалась железным запором и сверху была усеяна зазубренными гвоздями. Какой сильный страх она внушала нам! Отворялась она только в тех уже упомянутых случаях, когда мы должны были входить и выходить, и тогда каждый скрип ее массивных петель казался нам полным тайны, мы находили в нем повод для сумрачных и тревожных размышлений.
Двор был выровнен и покрыт мелким плотным песком. На нем не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-либо подобного. Конечно, двор находился позади здания. Перед фасадом был сад, но в эту священную обитель нас пускали в весьма редких случаях, например, при приезде в школу и при отъезде из нее или когда приезжали родственники, чтобы забрать нас домой на Рождество или на летние каникулы.
А дом! Что это было за любопытное старинное здание! Оно казалось мне настоящим зачарованным замком! Право, не было конца анфиладам его комнат, как не было конца и его невообразимым закоулкам! В любое время суток трудно было сказать, на котором из двух его этажей находишься. Из каждой комнаты в другую вело несколько ступеней вверх или вниз. Боковых комнат было бесчисленное множество, и они следовали друг за другом так, что нам казалось, будто дом не имеет границ. За все пять лет моего пребывания там я никогда не мог точно определить, в каком из отдаленных закоулков находится маленький дортуар, в котором спали я и другие восемнадцать-двадцать учеников.
Классная комната была самой большой во всем доме – и, как мне казалось, в целом свете. Она была очень длинная, узкая и мрачно низкая, со стрельчатыми готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном внушавшем ужас углу было отгорожено место в восемнадцать квадратных футов, служащее святилищем нашего директора, его преподобия доктора Брэнсби. Перегородка была прочной, с массивной дверью, и мы скорее согласились бы умереть жестокой смертью, чем войти в нее. В других углах были два подобных закоулка, не внушавших такого почтения, но тем не менее пугающих: в одном закоулке сидел учитель древних языков, а в другом – английского языка и математики. По всей зале стояли скамейки и пюпитры, черные, старые, вытертые, набитые бесконечным количеством засаленных книг и сплошь изрезанные вензелями, фамилиями и карикатурами. В одном конце залы находилась большая кадка с водой, а в другом – внушительных размеров часы.
Заключенный в толстых стенах этой почтенной школы, я провел без скуки и отвращения все третье пятилетие моей жизни. Плодовитому детскому уму не нужен внешний мир для того, чтобы найти себе развлечение; кажущаяся монотонность школьной жизни была наполнена более сильными впечатлениями, чем те волнения, что я пережил в юности благодаря роскоши, а в зрелые годы – из-за преступлений. Тем не менее я должен сознаться, что в моем умственном развитии в детские годы было много странного и даже неправильного. Вообще же события из раннего детства редко сохраняют для человека взрослого определенное значение. Все представляется как в тумане: воспоминания неясны и неопределенны – смутное скопление незначительных радостей и фантасмагорических печалей. Со мной было не так. В детстве я, должно быть, чувствовал все с энергией взрослого человека, и теперь мои школьные впечатления отпечатаны в памяти так же ясно и глубоко, как надписи на карфагенских медалях.
А в сущности, как мало было вещей, достойных воспоминания! Подъем по утрам, вечерний приказ ложиться спать, приготовление уроков, ответы, периодические праздники и прогулки; двор с его спорами, играми, интригами – тогда все это рождало огромное множество впечатлений, богатый мир приключений, вселенную разнообразных волнений и самых страстных, самых упоительных чувств.
Действительно, моя горячность, энтузиазм, властолюбивый характер скоро сделали меня выдающимся лицом среди товарищей и мало-помалу дали мне перевес над мальчиками почти одних со мной лет – надо всеми, за исключением одного. Это был ученик, не связанный со мной родством, но носивший такие же имя и фамилию – обстоятельство само по себе ничтожное, так как у меня, несмотря на мое дворянское происхождение, была самая простая фамилия, испокон веков встречавшаяся в простом народе. В этом рассказе я назвал себя Вильямом Вильсоном, фамилией вымышленной, но близкой к настоящей. Только один мой однофамилец из всей – по выражению школьников – «нашей компании» осмеливался соперничать со мной в науках, в играх и спорах, отказывался от слепой веры в мои доводы, от повиновения моим распоряжениям – одним словом, восставал против моей диктатуры при каждом удобном случае. Нет на свете деспотизма более сильного и безапелляционного, чем деспотизм умного и волевого мальчика над его менее энергичными товарищами.
Неповиновение Вильсона страшно стесняло меня, тем более что, несмотря на заносчивость, с которой я относился к нему и к его претензиям, я чувствовал в глубине души, что боюсь его, и не мог не считать тот факт, что он держался со мной на равных, доказательством его превосходства – так как со своей стороны я постоянно старался не поддаться его влиянию.
Это превосходство, или, лучше сказать, равенство, однако же, не признавалось никем, кроме меня: наши товарищи точно и не замечали его. И действительно, его соперничество, его сопротивление и в особенности его дерзкое и злобное вмешательство во все мои планы не носили характера преднамеренности. Точно так же в нем, по-видимому, не было и тщеславия, заставлявшего меня стремиться к власти, и страстной энергии, дававшей мне средства для этого. Можно сказать, что его непослушание было вызвано только странным желанием досадить мне, удивить меня и оскорбить. Такое отношение к себе и покровительственный тон моего тезки я мог объяснить только его безусловным самодовольством.
Может быть, поведение Вильсона, вкупе с нашими одинаковыми именами и тем фактом, что мы одновременно поступили в школу, и породило среди наших товарищей из старших классов мнение, что мы братья. Обычно старшие ученики обращают мало внимания на дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял со мной ни в каком родстве. Но, конечно, если бы мы были братьями, то были бы близнецами, так как, выйдя из заведения доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой тезка родился 19 января 1813 года – весьма странное совпадение, потому что этот день как раз был днем моего рождения.
Не покажется ли странным то обстоятельство, что, несмотря на постоянную тревогу, причиняемую мне соперничеством и отвратительным характером Вильсона, я не мог ненавидеть его? Конечно, между нами происходили ежедневные ссоры, после которых он публично отдавал мне пальму первенства, но при этом всегда давал почувствовать, что победитель – он; тем не менее я не забывал о чувстве гордости и всегда держался в рамках приличия. В наших характерах было столько общего, что отношения между нами не переросли в дружбу только вследствие необычного положения, в котором мы находились. Трудно определить или даже описать мои истинные чувства к нему – они составляли пеструю, разнородную смесь: живая неприязнь, но еще не ненависть, некоторое уважение, скорее почтение, страх и целый мир беспокойного любопытства. Бесполезно прибавлять для моралистов, что мы с Вильсоном были неразлучнейшими из товарищей.
Необычность наших отношений стала причиной того, что все мои нападки на него (а их было немало – как тайных, так и явных) выливались в шутки и насмешки (чем более смешные, тем более обидные), а не в ненависть, серьезную и более определенную. Но мои попытки задеть его не всегда увенчивались успехом, даже в тех случаях, когда были тщательно продуманы, потому что мой тезка отличался терпеливой сдержанностью и не показывал собственную ахиллесову пяту, в результате чего никогда не оказывался в смешном положении. Я нашел у него лишь одно уязвимое место, и этот физический недостаток показался бы неприкосновенным менее ожесточенному врагу, чем я: мой соперник страдал слабостью голосовых органов, заставлявшей его говорить едва слышным шепотом. Я, конечно, извлекал из этого недостатка все что мог.
Вильсон поддразнивал меня на различные лады, и особенно одного рода насмешка выводила меня из себя. Я не мог понять, когда он обнаружил, что такие насмешки бесили меня, но, обнаружив, постоянно мучил меня этим. Я всегда чувствовал отвращение к своей несчастной грубой фамилии и к своему простому, едва ли не плебейскому имени. Как то, так и другое отравляло мой слух, и, когда в день моего прибытия в школу появился второй Вильям Вильсон, эта фамилия стала мне вдвое противнее оттого, что ее носил чужой человек – чужой, из-за которого мне придется слышать ее вдвое чаще и поступки которого в школьной жизни будут, вследствие этой несчастной случайности, неизбежно смешиваться с моими.
Мое раздражение усиливалось при каждом случае, когда обнаруживалось какое-либо нравственное или физическое сходство между моим соперником и мной. Тогда я еще не знал, что мы родились в один и тот же день, но я видел, что мы одного роста и странно похожи обликом и чертами лица. Слух, ходивший о нашем родстве, в который верили ученики старших классов, приводил меня в отчаяние. Одним словом, ничто не могло так серьезно расстроить меня (хоть я тщательно скрывал это расстройство), как какой-нибудь намек на сходство между нами, хотя я не имел никаких причин считать, что это сходство комментировали или даже просто замечали наши товарищи по классу. Мне ясно было, что Вильсон наблюдает за их лицами с не меньшим вниманием, чем я сам, и только его необыкновенной проницательности я приписываю то, как уже сказал выше, что в подобных обстоятельствах он смог найти столько поводов для поддразниваний.
Он говорил со мной, превосходно подражая моим жестам и словам, и отлично играл свою роль. Одеваться, как я, было нетрудно, он легко перенял мою походку и манеры и, несмотря на свой физический недостаток, подражал даже моему голосу. Конечно, он не мог говорить громко, но интонации были те же – он стал моим эхом.
Не могу передать, до какой степени этот замечательный портрет (так как я не могу называть его карикатурой) мучил меня. Утешало одно: что это сходство, как мне казалось, замечал только я и что мне остается лишь переносить таинственные и саркастические улыбки моего однофамильца. Довольный тем, что произвел на меня удручающее впечатление, он втайне радовался сделанному мне уколу и с поразительным равнодушием относился к общему одобрению, с которым его остроумие могло быть встречено среди товарищей. Почему они не догадывались о его намерениях, не замечали его действий и не разделяли его злорадства – оставалось для меня неразрешимой загадкой в течение всех этих тревожных месяцев.
Я не раз уже говорил о противном покровительственном тоне, который он со мной принимал, и о его беспрестанном назойливом вмешательстве в мои дела. Это вмешательство зачастую носило неприятный характер совета – совета, высказанного не прямо, а намеком и обиняком. Я принимал такие советы с отвращением, усиливавшимся по мере того, как я становился старше. Но даже теперь, спустя столько лет, я вынужден отдать ему должное и сказать, что не могу припомнить ни одного случая, когда бы мой соперник поощрял заблуждения и глупости, что своим нравственным чутьем, если не качествами и жизненным опытом, он значительно превосходил меня и что теперь я, может быть, был бы лучше и во всяком случае счастливее, если бы реже отвергал советы, даваемые мне вышеупомянутым шепотом, который тогда я так искренне ненавидел и так глубоко презирал.
В конце концов я стал отчаянно восставать против его покровительства и с каждым днем все более открыто ненавидел то, что считал нестерпимым нахальством. Я сказал уже, что в первые годы нашего товарищества мои чувства к нему легко могли перерасти в дружбу, но в последние месяцы моего пребывания в школе, несмотря на то что навязчивость его уменьшилась, мои чувства склонились к положительной ненависти. Однажды он это заметил и с тех пор стал избегать меня или делать вид, что избегает.
Это произошло, насколько я могу припомнить, когда по случаю какого-то жаркого спора, во время которого он сдерживался меньше обыкновенного и говорил и действовал с развязностью, несвойственной его характеру, я понял, или, может быть, вообразил, что этого человека, стоявшего передо мной, я знал давным-давно, если не всегда. Эта мысль так же скоро исчезла, как и появилась, и я упоминаю о ней только ради того, чтобы указать: это было в тот день, когда я в последний раз говорил со своим странным однофамильцем.
В старом громадном доме, с его бесконечными перегородками, было множество больших комнат, смежных одна с другой и служивших дортуарами большинству учеников. Кроме того, там была – что неизбежно в доме с такой безалаберной архитектурой – масса уголков и закоулков, промежутков и пристроек, также превращенных изобретательным и экономным доктором Брэнсби в дортуары, но так как это были только чуланчики, то поместиться в каждый из них мог лишь один человек. Одна из таких маленьких комнат была занята Вильсоном.
Как-то ночью на пятом году моего пребывания в школе, когда все спали, я встал с постели и пошел с лампой в руках по лабиринту узких коридорчиков из своей спальни в спальню моего соперника. Я давно задумал сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, одну из тех проделок, которые мне до сих пор никак не удавались. Я твердо решил привести свой план в исполнение и дать ему почувствовать всю силу злобы, наполнявшей меня. Я подошел к его спальне и, оставив лампу с абажуром за дверьми, тихонько вошел. Продвигаясь шаг за шагом, я прислушивался к его равномерному дыханию. Убедившись, что он спит, я вернулся к двери, взял лампу и снова подошел к постели. Занавески были опущены, я их неслышно отстранил, чтобы исполнить свое намерение, но на спящего упал яркий свет, и в то же самое время мои глаза остановились на его лице. Я смотрел, и холод постепенно проник во все мое существо. Сердце забилось, колени затряслись, нестерпимый и необъяснимый ужас охватил мою душу. Я судорожно перевел дух и еще ниже опустил лампу к его лицу. Да неужели… неужели это были черты лица Вильяма Вильсона? Я видел очень хорошо, что это он, но дрожал, как в лихорадке, воображая, что это совсем другой человек. Что же в его лице было такое, что могло так сильно смутить меня? Я смотрел на него, и у меня голова шла кругом от тысячи мыслей, роившихся в ней. Та же фамилия! Те же черты лица! И поступили мы с ним в школу в один день! А это наглое, непостижимое подражание моей походке, моему голосу, моему костюму и моим манерам! Могло ли быть, чтобы то, что я видел, было простым результатом привычки подражать мне? Пораженный ужасом, дрожа, я задул лампу, тихо вышел из комнаты и тотчас покинул старую школу, чтобы никогда больше в нее не возвращаться.
По прошествии нескольких месяцев, проведенных мной у родных в полнейшем бездействии, меня отправили в Итон. Этого короткого промежутка времени было достаточно, чтобы ослабить воспоминания о событиях в школе Брэнсби. Я находил теперь кое-какие причины сомневаться в том, что так поразило меня, я редко вспоминал об этом происшествии без того, чтобы не удивиться, до чего может дойти легковерие людей, и не посмеяться над страшной силой воображения, унаследованного мной от родных. Впрочем, жизнь, которую я вел, едва ли способствовала уменьшению этого скептицизма. Безумный водоворот событий, в который я тотчас же без размышления окунулся, смыл все, за исключением пены прошлого, сразу поглотил все серьезные впечатления и оставил в моей памяти только проказы из прежней жизни.
Я вовсе не намерен описывать свои несчастные сумасбродства – сумасбродства, непозволительные по уставу заведения. Три года безумств, проведенные без всякой пользы, развили во мне лишь привычку к пороку и способствовали моему ненормальному физическому развитию. Однажды после целой недели беспробудного кутежа я пригласил небольшую компанию самых отчаянных студентов на тайную пирушку к себе в комнату. Мы собрались поздно вечером, так как предполагали кутить до утра. Вино у нас так и лилось, в других, более опасных соблазнах недостатка тоже не было, так что, когда заря занялась на востоке, наш кутеж был в самом разгаре. Страшно разгоряченный картами и вином, я непременно хотел предложить тост самый неприличный, как вдруг внимание мое было привлечено полуоткрывшейся дверью и торопливым голосом слуги. Он сказал, что какой-то господин желает поговорить со мной и с нетерпением ждет меня в прихожей.
В моем сильном опьянении эта помеха скорее доставила мне удовольствие, чем удивила меня. Я вышел, шатаясь, и, сделав несколько шагов, ступил в прихожую. В узкой низенькой комнате не было лампы, и теперь она слабо освещалась чуть-чуть занимавшейся зарей, проникавшей в полукруглое окно. Переступив порог, я увидел фигуру молодого человека почти одного со мной роста, одетого в халат из белого кашемира, сшитый по моде, точно такой же, в каком я был в ту минуту. Все это я видел при слабом свете, но лица разглядеть не мог. Не успел я войти, как он бросился ко мне и, схватив меня за руку, прошептал на ухо следующие слова:
– Вильям Вильсон!
В один миг я протрезвел. В манерах этого человека, в нервном дрожании пальца, который он держал поднятым между моими глазами и светом, было нечто, донельзя удивившее меня, но взволновало меня не это. Меня взволновала торжественность предостережения, произнесенного тихим, свистящим шепотом. Характер, тон, смысл этих нескольких знакомых слогов вторглись в мою душу вместе с тысячей разных воспоминаний прошлых дней. Не успел я опомниться, как он исчез.
Это событие произвело глубокое впечатление на мое расстроенное воображение, тем не менее действие его скоро сгладилось. В продолжение нескольких недель я то производил тщательные исследования, то впадал в мрачные раздумья. Я не пытался скрыть от себя идентичность странного существа, столь непостижимым образом вмешивавшегося в мои дела и надоедавшего мне своими вкрадчивыми советами.
Кто был этот Вильсон? И откуда он явился? И с какой целью? Ни на один из этих вопросов я не мог дать удовлетворительного ответа. Относительно него я узнал только, что вследствие какого-то внезапного несчастья, произошедшего в его семье, ему пришлось покинуть школу доктора Брэнсби в тот же день, в какой бежал и я. Но спустя некоторое время я перестал об этом думать, и все мое внимание сосредоточилось на моем предполагаемом отъезде в Оксфорд. Вскоре я приехал туда, и тщеславие моих родителей дало мне возможность вести роскошную жизнь, предаваться расточительности, к которой я уже успел пристраститься, и соперничать в щедрости с самыми крупными наследниками богатейших графств Великобритании.
Поощряемый средствами, характер мой вырисовался еще рельефнее, и в безумном опьянении от кутежей я попирал ногами самые обыкновенные правила приличия. Бессмысленно было бы углубляться в подробности моих проделок. Достаточно сказать, что я превосходил Ирода в пьянстве и, давая названия массе новых безумств, сделал богатое приложение к длинному списку пороков, господствовавших в те времена в самом развратнейшем университете Европы.
Трудно было поверить, но я до такой степени уронил честь джентльмена, что постарался познакомиться с недостойными уловками профессиональных игроков и сделался адептом этой позорной науки, к которой обыкновенно прибегал как к средству увеличить свой и без того громадный доход за счет простодушных товарищей. Это был факт. Мое преступление было слишком чудовищным – и именно поэтому оставалось безнаказанным. Мои самые испорченные товарищи скорее усомнились бы в своих собственных чувствах, чем поверили, что веселый, чистосердечный, щедрый Вильям Вильсон, благороднейший и великодушнейший из оксфордских товарищей, чьи кутежи были всего лишь следствием его юношеских заблуждений и необузданного воображения, способен на такие низости.
Я провел таким образом два года, когда в университет приехал молодой человек, из дворян-выскочек, по фамилии Глендининг, состояние которого, как гласила молва, равнялось богатству Ирода и досталось ему без труда. Я вскоре заметил, что он был недалек умом, и, конечно, отметил его как превосходную жертву. Я часто приглашал его играть и с обычными уловками проигрывал ему значительные суммы, чтобы вернее завлечь его в свои сети. Наконец, у меня созрел план, и я сошелся с ним у одного из своих товарищей, мистера Престона, который – я должен отдать ему справедливость – не подозревал о моем намерении. Чтобы придать всему этому более приличную окраску, я пригласил человек восемь-десять гостей и постарался, чтобы карточная игра устроилась совершенно случайно и чтобы предложение играть было высказано намеченной мной жертвой. Я не пренебрег никакими низкими уловками, употребляемыми обыкновенно в подобных случаях, – удивительно, что находятся еще дураки, которые попадают в расставленные мошенниками сети.
Было уже далеко за полночь, когда мне удалось, наконец, остаться за картами наедине с Глендинингом. Мы играли в мою любимую игру, в экарте. Другие лица общества, заинтересованные громадными ставками, встали из-за стола и окружили нас. Своего партнера я не без хитрости вынудил напиться еще в начале вечера, и поэтому он неловко тасовал, сдавал и играл, что происходило, вероятно, в результате опьянения, как думал я, но не был вполне в этом уверен. Через непродолжительное время он задолжал мне уже очень крупную сумму и, наконец, выпив порядочное количество портвейна, сделал именно то, на что я хладнокровно рассчитывал, – предложил удвоить и без того крупную ставку. Театрально возражая, я заставил его высказать мне несколько дерзостей и наконец, как бы с досады, согласился. Результат был таков, какого и следовало ожидать: жертва совершенно запуталась в моих сетях и менее чем через час учетверила свой долг. С некоторых пор лицо его потеряло красноватый оттенок, вызванный вином, и тут-то я с удивлением заметил, что оно стало мертвенно-бледным. Я говорю – с удивлением, потому что предварительно собрал о Глендининге подробные сведения. Мне сообщили, что он страшно богат, и суммы, проигранные им до сих пор, хотя и были весьма значительны, но не могли – так по крайней мере я полагал – расстроить его и тем более до такой степени смутить. Мне, естественно, пришло в голову, что он изменился в лице вследствие выпитого им вина, и скорее не желая скомпрометировать себя в глазах товарищей, чем из бескорыстия, я стал решительно настаивать на прекращении игры. Вдруг я услышал несколько слов, произнесенных присутствующими, и восклицание Глендининга, доказывающее его полнейшее отчаяние и объяснившее мне, что я его полностью разорил.
Несчастное положение жертвы моего обмана смутило и огорчило всех присутствующих. В продолжение нескольких минут в комнате царило глубокое молчание. В это время я невольно чувствовал, что щеки мои пылают под взорами презрения и упреков, кидаемыми на меня людьми, чьи сердца еще не очерствели. Признаюсь даже, что гнетущая тяжесть на время отлегла от моего сердца в результате следующего поразительного обстоятельства: тяжелые половинки дверей вдруг распахнулись с такой страшной силой, что свечи потухли, словно по волшебству. Но я успел разглядеть, что в комнату вошел какой-то незнакомец – человек моего роста, плотно закутанный в плащ. Мрак теперь был полный, и мы не видели, а только чувствовали, что он находится среди нас. Не успели мы прийти в себя от изумления, как раздался голос незнакомца.
– Джентльмены, – сказал он тихим, но совершенно внятным голосом, проникнувшим в глубину моей души, – джентльмены, я не прошу извинить мое поведение, потому что, поступая таким образом, исполняю свой долг. Вам, вероятно, вовсе не известны настоящие качества личности, выигравшей сегодня ночью громадную сумму у лорда Глендининга. Я подскажу вам очень верный и скорый способ приобрести необходимые о нем сведения. Осмотрите, пожалуйста, хорошенько подкладку обшлага его левого рукава и небольшие сверточки, которые вы найдете в объемистых карманах его вышитого домашнего костюма.
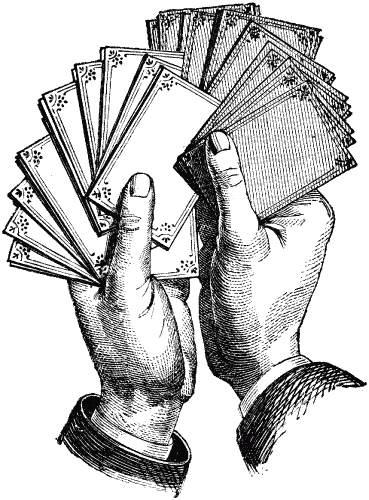
Когда он говорил, тишина в комнате была мертвая. Замолчав, он исчез так же внезапно, как и появился. Могу ли я описать свои впечатления? Надо ли говорить, что я испытывал все муки ада? Времени на размышление, конечно, у меня было мало. Несколько рук грубо схватили меня, немедленно принесли подсвечники. Началось исследование. За подкладкой рукава были найдены все главные фигуры экарте, а в карманах широкого домашнего платья – несколько колод карт, совершенно таких же, какими мы обыкновенно играли, с той лишь разницей, что мои карты были, что называется, округленными: фигуры – слегка выпуклые с узкой, а простые карты – с продолговатой стороны. Благодаря такому устройству жертва, снимающая обыкновенно вдоль колоды, снимает непременно под фигуру, а шулер, снимая поперек, снимает своему противнику под простую, ничего не значащую карту.
Взрыв негодования подействовал бы на меня меньше, чем презрительное и насмешливое молчание, последовавшее за этим открытием.
– Господин Вильсон, – сказал хозяин дома, наклоняясь, чтобы поднять лежащий у его ног роскошный плащ на очень дорогом меху, – это ваше. (Время было холодное, и, выходя из своей комнаты, я накинул поверх домашнего костюма плащ, который и сбросил, войдя в дом). Я надеюсь, – прибавил он, с горькой улыбкой глядя на складки плаща, – что тут бесполезно искать новые доказательства вашей ловкости. Право, с нас и так довольно. Я думаю, что вы поймете необходимость покинуть Оксфорд или по меньшей мере тотчас уйти из этого дома.
Униженный до глубины души, я собирался резко ответить на эти оскорбительные слова, однако мое внимание привлек удивительный факт. Плащ, в котором я пришел, был очень дорогим – на отличном меху и оригинального кроя, моей выдумки, так как в этих пустяках я был щепетилен, и страсть моя к дендизму доходила до абсурда. Когда же господин Престон подал мне плащ, подняв его с пола около двери, я заметил с удивлением, близким к ужасу, что свой плащ я уже бессознательно положил себе на руку, а плащ, поданный им, был совершенно такой же. Странный человек, сорвавший с меня маску, явился, насколько я помнил, в плаще, а никто из присутствующих, кроме меня, не приносил с собой верхней одежды. Я сохранил присутствие духа. Взяв плащ, поданный мне Престоном, и незаметно положив его на свой, я с презрением и гордостью во взгляде вышел из комнаты. В то же утро, до рассвета, я поспешно бежал из Оксфорда на материк – бежал, изнывая от страха и стыда.
Я бежал тщетно. Моя проклятая судьба, торжествуя, преследовала меня, доказывая, что таинственная власть ее только началась. Едва я приехал в Париж, как снова увидел доказательство того, что ненавистный мне Вильсон принимает участие в моих делах. Годы шли, а я не знал покоя. Несчастный! С какой потешной, с какой замогильной торжественностью вставал он в Риме между мной и моим честолюбием! В Вене тоже… и в Берлине… и в Москве! Да и где, в сущности, не было у меня причины в душе проклинать его?! Пораженный паникой, я обратился, наконец, в бегство от его непроницаемой тирании, как от чумы, – я бежал на край света, и бежал тщетно.
Я постоянно задавал себе вопросы: кто он такой, откуда он и какие у него намерения? Но ответов не находил. Я вновь и вновь анализировал его поступки и действия. Удивительным мне казалось то, что в большинстве случаев, когда он пересекал мой путь, он делал это только для того, чтобы расстроить мои планы или предприятия, которые в случае успеха повлекли бы за собой всего лишь горькое разочарование. Ничтожное оправдание для авторитета, столь нагло навязываемого! Жалкая плата за столь упорное посягательство на право человека поступать по-своему!
Я должен заметить, что мой палач, уже с давних пор с тщательной и поразительной точностью одевавшийся в совершенно одинаковые со мной платья, устраивал так, что мне никогда не удавалось увидеть черт его лица. Кем бы ни был проклятый Вильсон, но такая таинственность была верхом глупости. Мог ли он хоть на минуту предположить, что в итонском советчике, в человеке, который лишил меня чести в Оксфорде, нанес удар моему тщеславию в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе и тому, что он напрасно называл скупостью в Египте, – что в этом человеке, моем величайшем враге и моем злом духе, я не узнаю Вильяма Вильсона, товарища моих школьных лет, моего тезку, ненавистного соперника из дома доктора Брэнсби? Но позвольте перейти к роковой развязке этой драмы.
До тех пор я, как трус, подчинялся его демоническому господству. Чувство глубокого уважения, внушаемое мне обыкновенно твердым характером, благоразумием и кажущимся могуществом вездесущего Вильсона, вместе с ужасом, который я питал, и некоторыми его преимуществами заставляли меня верить в собственную ничтожность и беспомощность. Я подчинялся его воле, хоть и не без горечи и отвращения. Но в последние дни я страшно предавался пьянству, и одуряющее влияние вина все более лишало меня терпения и сдержанности. Я начал выражать недовольство, нетерпение, протест. Может быть, я только воображал, что упорство моего палача уменьшится вследствие моей твердости, – может быть. Но во всяком случае я начал чувствовать веяние горячей надежды и втайне, в душе, стал питать мрачную отчаянную решимость избавиться от этого рабства.
Это было во время карнавала 18.. года. Я был в Неаполе на балу масок во дворце герцога Ди Брольо. Я выпил больше обыкновенного, и духота зала, полного народа, нестерпимо раздражала меня. Я с досадой пробивался сквозь толпу, я искал (не скажу, для каких недостойных целей) молодую прелестную супругу старого кутилы Ди Брольо. С неосторожным легкомыслием она сообщила мне, в каком будет костюме, и так как я издали увидал ее, то и поспешил подойти. В эту минуту я почувствовал на своем плече руку – и затем этот незабвенный, низкий, проклятый шепот возле своего уха!
Приведенный в неистовую ярость, я резко повернулся к человеку, так некстати помешавшему мне, и изо всех сил схватил его за горло. На нем был, как я ожидал, такой же костюм, что и на мне: испанский плащ голубого бархата и пунцовый кушак, на котором висела рапира. Черная шелковая маска полностью скрывала его лицо.
– Негодяй! – крикнул я сиплым от ярости голосом, каждый звук которого как бы подливал масла в огонь моего гнева. – Нахал! Проклятый разбойник! Ты не будешь больше преследовать меня! Ты не замучишь меня до смерти! Иди за мной, или я уложу тебя на месте!
Я пробрался из бальной залы в маленькую смежную переднюю, таща его за собой. Войдя, я в ярости отбросил его от себя. Он, шатаясь, ударился о стену, я с бранью закрыл дверь и крикнул ему, чтобы он защищался. Он с минуту не решался, потом, вздохнув, молча вынул шпагу и стал в оборонительную позицию. Поединок, конечно, длился недолго. Я был вне себя от ярости и чувствовал в своем теле энергию и силу целой толпы. Я скоро прижал его к стене и, держа в своей власти, с яростью хищного зверя несколько раз подряд вонзил шпагу ему в грудь.
В эту минуту кто-то взялся за ручку двери. Я бросился запереть дверь, чтобы мне не помешали, и тотчас вернулся к своему умирающему противнику. Но какой человеческий язык точно передаст то удивление, тот ужас, которые овладели мной при зрелище, открывшемся моим глазам? Секунды, во время которой я бросился к дверям, оказалось достаточно, чтобы в обстановке комнаты произошла перемена. Громадное зеркало – так по крайней мере мне показалось сначала в моем смятении – возвышалось там, где прежде я его не замечал, и в ту минуту, когда я, объятый ужасом, подходил к этому зеркалу, мое собственное отражение, но с бледным, испачканным кровью лицом, тихим и нетвердым шагом двигалось мне навстречу.
Я сказал «отражение» – но нет: передо мной в агонии стоял мой противник – Вильсон. Его маска и плащ лежали на полу, там, где он их сбросил. В его костюме не было ни единой нитки, отличной от моей одежды, во всем его облике не было ни малейшей черточки, которая не была бы моей! Это был Вильсон, но Вильсон, не нашептывавший мне больше ни единого слова, и мне показалось, что это говорил я, когда он произнес следующее:
– Ты победил, и я уступаю. Но отныне ты тоже умрешь – умрешь для света, для неба, для надежды! Ты жил во мне! Теперь в моей смерти, в моем образе, который есть вместе с тем и твой образ, ты можешь видеть, что окончательно убил самого себя.
Назад: В Скалистых горах
Дальше: Король Чума

