Крылатый кинжал
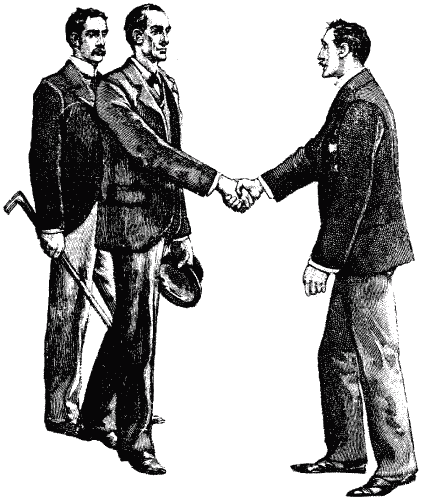
Был в жизни патера Брауна период, когда он не мог, не содрогнувшись, повесить шляпу на вешалку. Этой идиосинкразией он был обязан одному событию, точнее, детали, которая сохранилась в его памяти. Связано это воспоминание было с обстоятельствами, которые в особенно морозный декабрьский день заставили доктора Война, состоявшего при полицейской части, послать за патером Брауном.
Доктор Войн был рослым смуглым ирландцем, одним из тех неудачников-ирландцев, которых много на белом свете; они толкуют вкривь и вкось о научном скептицизме, о материализме и цинизме, но все, что касается религиозной обрядности, обязательно приурочивают к традиционной религии их родной страны. Трудно сказать, что представляет собой их религия: поверхностную полировку или солидную субстанцию. Вернее всего – то и другое вместе, с основательной прослойкой материализма. Во всяком случае, как только доктору Войну казалось, что может быть затронута данная область, он приглашал патера Брауна, отнюдь не притворяясь, будто ему было бы приятно, если бы события приняли именно такую окраску.
– Знаете, я не совсем еще уверен, нужны ли вы мне, – такими словами он встретил патера Брауна. – Я ни в чем пока не уверен. Пусть меня повесят, если я знаю, кто тут нужен – доктор ли, полицейский или священник.
– Ну что ж, – улыбнулся патер Браун, – поскольку вы соединяете в себе доктора и полицейского, я остаюсь, очевидно, в меньшинстве.
– Допустим, вы то, что политические деятели называют просвещенным меньшинством, – отозвался доктор. – Мне известно, что вам приходилось работать и по нашей части. Но в том-то и дело, тут чертовски трудно сказать, по вашей или по нашей части эта история, а может быть, просто по части попечительства о душевнобольных. Мы только что получили письмо от человека, который живет поблизости, в том белом доме на холме. Он просит у нас защиты: его жизни угрожает опасность. Мы постарались выяснить фактическую сторону дела, и, пожалуй, лучше всего рассказать вам все с самого начала, как оно, по-видимому, происходило.
Некий Элмер, богатый землевладелец одного из западных штатов, женился сравнительно поздно и имел трех сыновей – Филиппа, Стивена и Арнольда. А еще, будучи холостяком и не рассчитывая, что у него появится прямой наследник, он усыновил мальчика, по его мнению, очень способного и многообещающего, мальчика по имени Джон Стрейк, происхождения довольно темного, – кто говорил, что он подкидыш, кто считал его цыганенком. Возможно, что последний слух был связан с тем обстоятельством, что Элмер на старости лет ударился в мрачный оккультизм, хиромантию и астрологию и что, по словам его сыновей, Стрейк поощрял эти его увлечения. Впрочем, сыновья еще много чего рассказывали. Уверяли, будто Стрейк был совершенно исключительным негодяем и таким же исключительным лжецом; он был гениален по части изобретения лживых отговорок, которые он преподносил так, что мог обмануть любого сыщика. Но возможно, что это предубеждение, довольно естественное, пожалуй. Вы, вероятно, уже догадываетесь, что произошло. Старик оставил все Стрейку, и после его смерти сыновья опротестовали завещание. Они доказывали, что отец был запуган до полного подчинения, если не до полного идиотизма. Что, несмотря на протесты сиделок и членов семьи, Стрейк самыми дерзкими и необычными способами пробирался к нему и терроризировал его на смертном одре. Как бы то ни было, им, очевидно, удалось доказать, что покойный не вполне владел своими умственными способностями, – суд признал духовное завещание недействительным, и сыновья получили наследство. Говорят, Стрейк пришел в бешенство и поклялся, что убьет всех троих, одного за другим, что им не уйти от его мести. К нашей защите и обратился третий и последний из братьев, Арнольд Элмер.
– Третий и последний? – переспросил патер Браун, серьезно взглянув на своего собеседника.
– Да, – сказал Войн. – Двое других умерли.
Наступило молчание. Затем он продолжал:
– Отсюда и начинается та часть истории, которая пока под сомнением. Нет доказательств, что они были убиты, но возможно, что это и так. Старший, который стал помещиком, якобы покончил с собой у себя в саду. Другой, промышленник, попал головой в машину у себя на фабрике – вероятно, оступился, упал. Но если их убил Стрейк, то он, несомненно, очень ловко проделал это и ловко ускользнул. С другой стороны, возможно, что мы имеем дело с манией преследования, которой дали пищу совпадения. Понимаете, что мне нужно? Мне нужен толковый человек, притом лицо неофициальное, который мог бы подняться на холм, поговорить с мистером Арнольдом Элмером и составить себе о нем определенное впечатление. Вы сумеете отличить человека, одержимого навязчивой идеей, от человека, который говорит правду. Я хочу, чтобы вы все разведали, прежде чем мы возьмемся за это дело.
– Странно, что вам не пришлось взяться за него раньше, – сказал патер Браун. – Тянется это, видимо, уже давно. Была ли какая-нибудь особая причина, побудившая его именно теперь обратиться к вам?
– Я, разумеется, задумывался об этом, – ответил доктор Войн. – Он приводит причину, но, сознаюсь, она такого рода, что заставляет меня недоумевать: не фантазия ли тут больного ума? Он объясняет, что вся его прислуга вдруг забастовала и ушла от него, а потому он вынужден просить, чтобы полиция взяла на себя охрану его дома. По наведенным справкам, прислуга действительно недавно ушла из дома на холме. И в городе, разумеется, ходит много россказней на этот счет. По словам слуг, хозяин стал совершенно невыносим: вечно тревожился, пугался, предъявлял к ним чрезмерные требования. Например, он хотел, чтобы они сторожили дом, как часовые, или просиживали ночи напролет, как больничные сиделки; они никогда не были предоставлены самим себе, так как он не соглашался остаться один. В конце концов они заявили ему, что он сумасшедший, и потребовали расчет. Разумеется, это еще не доказывает, что он сумасшедший. Но только большой чудак в наше время может требовать от лакея и горничной, чтобы они исполняли обязанности вооруженной стражи.
– Словом, – улыбаясь, заметил патер Браун, – ему нужен полицейский, который выполнял бы обязанности горничной, потому что горничная не захотела исполнять обязанности полицейского?
– Мне самому это показалось преувеличением, – согласился доктор, – но я не хотел отказывать, не попытавшись пойти на компромисс. Вы – этот компромисс.
– Прекрасно, – просто сказал патер Браун. – Я сейчас же навещу его, если хотите.
Мороз сковал холмистую местность, окружавшую город; небо было ясное и холодное, как сталь, только на северо-востоке начинали взбираться по небу тучи, отороченные бледным сиянием. На фоне этих темноватых зловещих пятен белел дом на холме, дом с рядом светлых колонн – недлинной колоннадой классического образца. Дорога, спиралью поднимавшаяся на холм и несколько раз огибавшая его, выше терялась в темной чаще кустарника. Когда патер Браун подходил к кустарнику, на него вдруг повеяло холодом, будто он приближался к леднику или северному полюсу. Но, как человек в высшей степени трезвый, он на подобные фантазии смотрел именно как на фантазии. И только весело заметил, покосившись на большую, синевато-багровую тучу, медленно выползавшую из-за дома:
– Сейчас пойдет снег.
Миновав низкую кованую решетку в итальянском стиле, он вошел в сад, на котором лежала та печать запустения, которая бывает свойственна лишь очень упорядоченным местам, когда там воцаряется беспорядок. Иней припудрил густо разросшийся зеленый кустарник, сорные травы длинной бахромой оторочили цветочные грядки, стирая их контуры, и дом по пояс ушел в частую поросль мелких деревцев и кустов. Деревья здесь росли только хвойные или особенно выносливые. Растительность была обильной, но впечатления пышной все-таки не производила – слишком она была холодная, северная. Какие-то арктические джунгли! И при взгляде на дом думалось: его классическому фасаду и ряду колонн выходить бы на Средиземное море, а он чахнет и хиреет на суровых ветрах севера. Классические орнаменты лишь подчеркивали контраст; кариатиды и маски печально взирали с углов здания на запущенные дорожки – казалось, они замерзали. Даже завитки капителей будто свернулись от холода.
По заросшим травой ступенькам патер Браун поднялся ко входным дверям, с высокими колоннами по обеим сторонам, и постучал. Постучал еще раз минуты через четыре. И стал терпеливо ждать, прислонившись спиной к дверям и глядя на ландшафт, медленно темневший, по мере того как надвигалась тень от огромной тучи, ползшей с севера. Над головой патера Брауна высоко чернели колонны портика. Вот опаловый край тучи выполз из-за крыши и балдахином навис над портиком. Туча опускалась все ниже и ниже над садом, и скоро от светлого, бледно окрашенного зимнего неба остались лишь несколько серебристых лент.
Патер Браун ждал, но из дома не доносилось ни звука. Тогда он быстро спустился по ступенькам и обогнул дом, ища другой вход. Набрел на низкую боковую дверь. Побарабанил и в эту дверь; подождал. Потянул за ручку и убедился, что дверь заперта на ключ или на засов. Тогда он пошел вдоль стены, мысленно задаваясь вопросом: не забаррикадировался ли эксцентричный мистер Элмер в глубине дома так основательно, что до него даже не доносится стук? А может быть, он сейчас баррикадируется особенно усиленно, полагая, что этим стуком дает о себе знать мстительный Стрейк?
Возможно, что слуги, уходя, открыли всего одну дверь, которую хозяин и запер за ними. Но правдоподобнее казалось то, что, оставляя дом в таком настроении, они не особенно заботились о мерах охраны.
Патер Браун продолжал обходить дом кругом. Через несколько минут он вернулся к своей отправной точке. И тут же открыл то, что искал. Застекленная дверь одной комнаты, снаружи занавешенная плющом, была неплотно прикрыта – очевидно, ее забыли запереть. Один шаг – и он очутился в комнате, комфортабельно, хотя и старомодно, обставленной. Из этой комнаты шла лестница наверх, с другой стороны была дверь, вероятно, в соседнюю комнату. Вторая дверь располагалась прямо напротив окон и вошедшего патера Брауна, дверь с красными стеклами – пережиток былого великолепия. Справа, на круглом столике, стояло нечто вроде аквариума – большая стеклянная чаша с зеленоватой водой, в которой плавали золотые рыбки, – а прямо напротив аквариума – растение из рода пальм с очень большими зелеными листьями. Все это имело такой запыленный, архаичный вид, что телефон в углублении, наполовину прикрытом занавеской, казался совсем неуместным.
– Кто тут? – крикнул из-за двери с красными стеклами резкий голос; в тоне было недоверие.
– Могу я видеть мистера Элмера? – спросил патер Браун, как бы извиняясь.
Дверь распахнулась, и в комнату вошел джентльмен в халате павлиньей расцветки. Он вопросительно посмотрел на патера Брауна. Волосы у него были растрепаны, спутаны, будто он только что встал с постели, но глаза совсем проснулись, и взгляд был живой, пожалуй, даже встревоженный. Патер Браун знал, что такие противоречия естественны для человека, который живет в постоянном страхе. Профиль у него был тонкий, орлиный; в глаза бросалась его большая неопрятная черная борода.
– Я мистер Элмер, – сказал он, – но я давно уже не жду посетителей.
Что-то в беспокойных глазах мистера Элмера заставило патера Брауна перейти прямо к делу. Если это маньяк, то он, наверное, не будет в претензии.
– Разве вы действительно совсем никого не ждете? – мягко спросил патер Браун.
– Вы правы, – спокойно согласился хозяин, – я постоянно жду одного посетителя, возможно, он будет последним.
– Надеюсь, что нет, – заметил патер. – Во всяком случае, я рад тому обстоятельству, что не особенно похож на него.
Мистер Элмер злорадно рассмеялся.
– Ничуть не похожи! – подтвердил он.
– Мистер Элмер, – заговорил напрямик патер Браун. – Прошу прощения за свою смелость, но один из моих друзей сообщил мне о ваших затруднениях, и я решил выяснить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен. По правде говоря, у меня есть кое-какой опыт в подобных делах.
– Нет и не было дел, подобных этому, – возразил Элмер.
– Вы, значит, хотите сказать, – заметил патер Браун, – что ваши два брата, так трагически расставшиеся с жизнью, были убиты?
– И эти убийства были непростыми, – продолжал другой. – Человек, который обрек нас на смерть, – порождение сатаны, и сила его – от ада.
– Всякое зло имеет свои корни, – серьезно сказал патер Браун. – Но что заставляет вас утверждать, что это были непростые убийства?
Элмер ответил жестом, пригласив гостя присесть; и сам медленно опустился в другое кресло, обхватив руками колени.
Когда он поднял затем глаза, в лице его появилось более мягкое и задумчивое выражение, а голос зазвучал дружелюбно и уверенно.
– Сэр, – заговорил он, – я отнюдь не желаю, чтобы вы считали меня неразумным человеком. Разум и навел меня на такие мысли. Я много книг перечитал на эту тему, ведь я один унаследовал познания отца в данной темной области, а потом унаследовал и его библиотеку. Но то, о чем я хочу вам рассказать, не вычитано из книг – я видел это собственными глазами.
Патер Браун кивнул, и его собеседник продолжал, как бы подыскивая слова:
– Относительно старшего брата я сначала был не совсем уверен. В том месте, где его нашли застреленным, не было видно никаких следов, никаких отпечатков. И револьвер лежал подле него. Но как раз перед этим он получил угрожающее письмо от нашего врага, несомненно, так как на письме был знак – крылатый кинжал – одна из его проклятых каббалистических штучек. И служанка говорила, что в полумраке видела, как вдоль стены сада ползло что-то – не кошка, очевидно, – чересчур большое. Распространяться больше не буду. Скажу лишь одно: если убийца и являлся, то он умудрился не оставить никаких следов. Но, когда погиб брат Стивен, дело обстояло иначе. И с тех пор мне все известно. Машина была установлена на помосте у подножия башни фабрики. Я вскочил на помост тотчас после того, как он пал, убитый железным молотом. Я не видел, чтобы его ударило что-нибудь, но… я видел то, что видел… В тот миг большой клуб дыма скрывал от моих глаз фабричную трубу, но в одном месте вдруг образовался прорыв, и я увидел на самом верху темную фигуру человека, завернувшегося в черный плащ. Сернистый дым на время заслонил его от меня. Когда дым рассеялся, я взглянул на трубу. Там никого не было. Я человек разумный, пусть же разумные люди объяснят мне, как он попал на такую недостижимую высоту и как спустился оттуда?
Он посмотрел на патера Брауна с вызывающей улыбкой сфинкса, затем, помолчав, сказал коротко:
– Череп брата разлетелся, но тело не пострадало. И в одном из карманов его платья мы нашли угрожающее письмо, полученное накануне, – письмо с крылатым кинжалом.
– Я уверен, – серьезно продолжал он, – что символ – крылатый кинжал – выбран не случайно. Что бы ни делал этот ужасный человек, все – преднамеренно. В уме у него спутались и самые сложные планы, и неведомые наречия, шифры, образы без названий. Он принадлежит к самому худшему на свете типу людей: к типу злых мистиков. Я, конечно, не утверждаю, что отгадал все скрытое под этим символом. Но есть, несомненно, какая-то связь между символом и необычными, преступными действиями этого человека в отношении нашей несчастной семьи, над которой он парит, как ястреб. Можно ли не видеть связи между идеей крылатого кинжала и тайной смерти Филиппа – смерти на лужайке собственного дома, где не осталось ни малейших следов ног, ни на траве, ни в пыли дорожек! Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом, который летит как стрела, и фигурой в черном плаще на фабричной трубе?
– Вы хотите сказать, что он летает, – задумчиво заметил патер Браун.
– Симон Магус достиг этого в свое время, – возразил Элмер, – и в былые темные времена утверждали, что антихрист будет уметь летать. Как бы то ни было, на письмах был изображен крылатый кинжал; мог ли он летать или нет – другой вопрос, но разить он, во всяком случае, умел.
– Вы не заметили, на какой бумаге были написаны письма? – спросил патер Браун. – На обыкновенной почтовой?
Элмер вдруг расхохотался.
– Можете сами убедиться, – с мрачной ухмылкой сказал он, – я получил сегодня такое же письмо.
Он откинулся на спинку кресла, вытянув ноги из-под зеленого халата, который был ему немного коротковат, и опустив подбородок на грудь. Почти не шевелясь, он запустил руку в карман халата и, вытащив за уголок бумажку, несгибающейся рукой протянул ее. В его позе было что-то, напоминающее о параличе, который сопровождается и оцепенением, и расслаблением. Но следующее замечание патера Брауна страшно взбодрило его.
Патер Браун всматривался в переданную ему бумажку, как все близорукие люди, поднеся ее к самым глазам. Бумага была не простая, хотя и шероховатая – нечто вроде листа, вырванного из тетради для этюдов художника. И на ней смелыми штрихами был изображен красными чернилами кинжал с крылышками – такими, как на жезле Меркурия, – а внизу слова: «Смерть настигнет вас на следующий за сим день, как настигла ваших братьев».
Патер Браун бросил бумажку на пол и выпрямился в кресле.
– Не позволяйте подобным вещам обескуражить вас! – довольно резко промолвил он. – Эти негодяи всегда стараются лишить нас возможности защищаться, отняв у нас надежду.
К его удивлению, развалившаяся в кресле фигура будто пробудилась ото сна и резко вскочила.
– Вы правы! Правы! – закричал Элмер с неожиданным оживлением. – И негодяи сами убедятся, что я не так уж беспомощен, не так безнадежно настроен, пожалуй, у меня больше и надежд, и средств защиты, чем вы думаете.
Он стоял, засунув руки в карманы, и, нахмурившись, смотрел сверху вниз на своего собеседника, которому вдруг пришло в голову, не повредился ли в уме этот человек, живущий в непрестанном страхе. Но, когда Элмер вновь заговорил, голос его звучал совсем спокойно.
– Мои несчастные братья погибли, на мой взгляд, потому, что пользовались неподходящим оружием. Филипп всегда имел при себе револьвер, и смерть его объяснили самоубийством. Стивен прибегал к полицейской охране, но в то же время боялся быть смешным и потому не стал тащить агента полиции вслед за собой на помост, на который поднялся на одну минуту. Оба они были скептиками – сказалась реакция на тот мистицизм, которому предался мой отец в последние дни своей жизни. Но я знаю, они не понимали отца. Правда, изучая магию, он в конце концов попал под влияние черной магии негодяя Стрейка. Но братья ошиблись в выборе противоядия. Противоядие против черной магии – не грубый материализм, не суетная мудрость, а… белая магия!
– Все дело в том, – заметил патер Браун, – что именно вы понимаете под белой магией.
– Магию серебра, – пояснил таинственным шепотом его собеседник и добавил, помолчав: – Знаете, что я называю серебряной магией? Одну минуту…
Он распахнул дверь с красными стеклами и вышел. Дом был не так велик, как предполагал патер Браун: дверь вела не во внутренние комнаты, а в коридор, в конце которого видна была другая дверь, выходившая в сад. По одну сторону коридора была еще дверь. «Наверно, в спальню, – подумал священник, – оттуда он и выскочил в халате». Далее по эту сторону коридора не было ничего, кроме обыкновенной вешалки, на которой, как на всякой вешалке, висели в беспорядке старые шляпы, пальто, плащи. Зато у противоположной стены стоял буфет темного дуба, инкрустированный старым серебром, а над ним было развешано старинное оружие. У этого буфета и остановился Арнольд Элмер, глядя на длинный старомодный пистолет с дулом в виде колокольчика.
Дверь в конце коридора была чуть приоткрыта, в щель пробивалась полоса света. Патер Браун всегда безошибочно угадывал, что происходит в природе. Он сразу понял, почему так необычайно ярка эта полоса. Случилось то, что он предсказывал, когда подходил к дому. Он пробежал мимо немало удивленного хозяина и распахнул дверь. Сверкающая белизна ослепила его. Все склоны холма подернулись той бледностью, в которой есть что-то и старческое, и невинное.
– Вот вам и белая магия! – весело воскликнул патер Браун. Вернувшись в холл, он прошептал: – Да и магия серебра тоже!
В самом деле, белое сияние играло отблесками на серебре и старой стали пожелтевшего оружия, окружало серебристо-огненным венчиком взлохмаченную голову задумавшегося Элмера. Лицо его оставалось в тени, в руке он держал заморского вида пистолет.
– Знаете, почему я выбрал этот старый мушкет? – спросил он. – Оттого, что его можно заряжать вот такой пулей!
Он вынул из ящика буфета маленькую лжицу и с усилием отломал крошечную фигурку апостола.
– Вернемся в комнату, – добавил он.
– Случалось вам читать о смерти Денди? – спросил Элмер, когда они снова уселись. – Помните Грэхема из Клэверхауза, того, что преследовал пресвитериан в Шотландии и скакал на черной лошади, которой не страшны были никакие пропасти? Помните, что его могла взять лишь серебряная пуля, потому что он продал душу черту? В одном отношении с вами, пожалуй, приятно иметь дело: вы достаточно сведущи, чтобы верить в черта.
– О да! – согласился патер Браун. – Я верю в черта. Но зато я не верю в Денди. По крайней мере в Денди из пресвитерианской легенды с его кошмарным концом. Джон Грэхем был просто солдатом семнадцатого столетия и лучше многих других. Если он и преследовал кого-нибудь, то только потому, что такова была его профессия – профессия драгуна, а не дракона. Судя же по моему опыту, черту душу продают вовсе не такие бахвалы и вояки. Те поклонники его, каких я знавал, были люди совсем иного сорта. Не касаясь имен, которые могли бы ввести в смущение, упомяну лишь о современнике Денди. Слышали вы о Дэлримпле из Стейра?
– Нет, – мрачно уронил Элмер.
– Во всяком случае, вы слышали о том, что он совершил, – продолжал патер Браун. – И это было хуже всего, что когда-либо сделал Денди. Он устроил избиение в Гленкоу. Человек он был ученый, сведущий юрист, государственный муж с очень широкими взглядами в своей области, притом тихий человек, с лицом тонким и умным. Вот такие-то люди и продают душу черту.
Элмер подскочил на месте и с энтузиазмом закивал головой.
– Клянусь богом, вы правы! – крикнул он. – Тонкое умное лицо! У Джона Стрейка именно такое лицо!
Тут он поднялся и некоторое время сосредоточенно всматривался в патера Брауна.
– Если вы немного подождете меня здесь, я покажу вам кое-что, – сказал он наконец.
С этими словами Элмер вышел снова в среднюю дверь, прикрыв ее за собой. «Направился, вероятно, к старому буфету или к себе в спальню», – подумал патер Браун.
Он не вставал с места и рассеянно смотрел на ковер, на который сквозь стекла двери падал бледный красноватый отсвет. На миг он принял было ярко-рубиновый оттенок, но потом снова потускнел, будто солнце то выглянуло из-за тучи, то спряталось вновь. В комнате было тихо, только рыбки плавали взад-вперед в своей зеленой чаше.
Патер Браун напряженно думал. Через минуту или две он поднялся, бесшумно скользнул к телефону, помещавшемуся в углублении за занавеской, и вызвал доктора Война по месту его службы. «Хотел бы сообщить вам кое-что по делу Элмера, – тихо сказал он. – История любопытная. На вашем месте я немедленно отправил бы сюда человек пять-шесть, с тем чтобы они окружили дом». После этого священник вернулся на прежнее место и уселся, уставившись на темный ковер, который снова подернулся ярким кроваво-алым отблеском. Этот просачивающийся сквозь стекла свет навел его на мысль о зарождении дня, предшествовавшем появлению красок, и обо всем таинственном, символом чему являются окна и двери, то закрывающиеся, то распахивающиеся.
Тут нечеловеческий вопль донесся из-за закрытых дверей, и почти в тот же миг раздался выстрел. Не успели раскаты его замереть, как дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вбежал хозяин дома, в разорванном у ворота халате, с дымящимся пистолетом в руке. Он не то дрожал с головы до ног, не то трясся от хохота, неестественного при данных обстоятельствах.
– Хвала великой магии! – кричал он. – Хвала серебряной пуле! Исчадие ада на этот раз ошиблось в расчетах, и мои братья, наконец, отомщены!
Он упал на стул, пистолет выскользнул у него из рук и покатился на пол. Патер Браун бросился мимо него в коридор. Взялся было за ручку двери, которая вела в спальню, будто собираясь войти, потом нагнулся, рассматривая что-то, подбежал к наружной двери и распахнул ее.
На снегу, недавно еще нетронутом и незапятнанном, что-то чернело. На первый взгляд – огромная летучая мышь. Но достаточно было присмотреться, чтобы убедиться в том, что это человек, лежащий навзничь, человек в широкополой черной шляпе, какие носят американские испанцы, и в широчайшем черном плаще. Полы плаща – или рукава, – легли так, что походили на крылья. Рук видно не было, но патер Браун угадал положение одной из них и заметил рядом, полуприкрытое платьем, какое-то металлическое оружие. Обойдя вокруг и заглянув под шляпу, священник разглядел лицо – действительно такое, о каком недавно упоминал Элмер: тонкое, умное, притом строгое и скептическое лицо Джона Стрейка.
– Ну, на этот раз меня перехитрили, – пробормотал патер Браун. – Похоже на громадного вампира, птицей ринувшегося с небес.
– Как бы он мог явиться иначе? – послышался голос из дверей.
Священник, подняв глаза, увидел стоявшего на пороге Элмера.
– Он мог ведь прийти, – уклончиво ответил священник.
Элмер широко повел рукой, указывая на белый ландшафт.
– Взгляните на снег! – сказал он глухо. – Он и сейчас незапятнан, вы сами только что назвали его чистейшей белой магией. На целые мили кругом на нем нет ни единого пятна – одна эта грустная клякса, упавшая здесь! Никаких следов, если не считать ваших и моих.
С минуту он сосредоточенно, с загадочным выражением на лице смотрел на невысокого патера, потом добавил:
– Скажу вам еще кое-что. Плащ, в котором он лежит, ему не по росту. Ходить в нем он не мог бы, плащ волочился бы по земле. Он небольшого роста. Вытяните плащ вдоль его ног и сами убедитесь.
– Что произошло между вами? – коротко спросил патер Браун.
– Трудно описать, так быстро все случилось, – ответил Элмер. – Я выглянул в дверь и только собирался закрыть ее, как меня словно закружило вихрем, захватило в воздухе колесом. Я выстрелил, не глядя. И затем – увидел то, что вы видите сейчас. Но я глубоко убежден, что все кончилось бы иначе, если бы мой пистолет не был заряжен серебряной пулей… Тогда не он лежал бы тут на снегу.
– Кстати, – заметил священник, – мы оставим его на снегу? Или вы предпочтете перенести его к вам в комнату? Должно быть, это ваша спальня выходит в коридор?
– Нет, нет, – торопливо проговорил Элмер, – пусть лежит так до прихода полиции. Довольно с меня всего этого! Силы не выдерживают. Надо глотнуть чего-нибудь. После пусть хоть вешают меня, если им заблагорассудится.
Вернувшись в комнату, Элмер тяжело опустился в кресло, стоявшее между пальмой и аквариумом с рыбками, причем едва не перевернул аквариум. Графинчик с бренди он нашел лишь после того, как пошарил наугад в нескольких шкафах и по разным углам. Он и раньше не производил впечатления человека аккуратного. Но сейчас его рассеянность, очевидно, перешла всякие границы. Он отпил большой глоток и заговорил возбужденно, словно во что бы то ни стало желая нарушить молчание:
– Вы еще сомневаетесь, хотя видели все собственными глазами. Поверьте, единоборство духа Стрейка с духом дома Элмеров имело под собой более глубокое, чем вам кажется, основание! Впрочем, вам-то совсем не пристало быть Фомой неверующим. Вы должны защищать все то, что эти глупцы называют суевериями. Признавать, что в россказнях старых баб о талисманах и приворотах, о серебряных пулях что-то кроется! Что вы, католик, скажете на это?
– Скажу, что я агностик, – улыбнулся патер Браун.
– Вздор! – нетерпеливо крикнул Элмер. – По вашей профессии вы должны верить в разные вещи…
– Ну, в некоторые вещи я, разумеется, верю, – согласился патер Браун. – И именно поэтому не верю в другие.
Элмер нагнулся вперед и стал всматриваться в него напряженно, почти как гипнотизер.
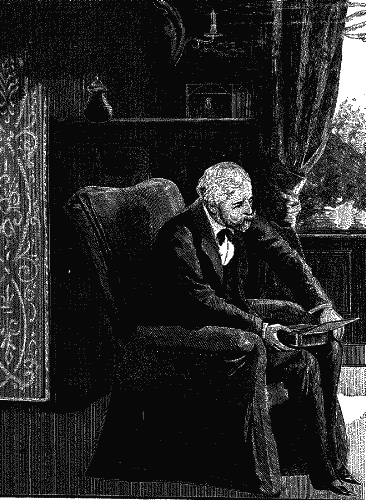
– Вы верите в них, – проговорил он. – Вы верите во все. Все мы во все верим, даже когда отрицаем. Отрицающий верит. Разве вы в глубине души не чувствуете, что противоречия тут кажущиеся, что единый космос все обнимает. Душа перекочевывает со звезды на звезду, и все повторяется. Быть может, Стрейк и я боролись друг с другом в других воплощениях, в другом виде, – зверь со зверем, птица с птицей. Быть может, мы будем бороться вечно. И раз мы ищем друг друга, раз мы нужны друг другу, то наша вечная ненависть – та же любовь. Добро и зло чередуются в круговороте вещей, добро и зло – едины. Разве вы не сознаете в глубине души, что есть лишь одна реальность и все мы – тени ее? Один центр, где люди растворяются в человеке, а человек – в Боге?
– Нет, – ответил патер Браун.
Снаружи спускались сумерки; был тот час, когда в пасмурные дни на небе, отягченном снеговыми тучами, темнее, чем на земле. В окно с полузадернутой занавеской патер Браун смутно различал под колоннами портика, у главного входа, неясную фигуру. Затем он бросил невзначай взгляд на застекленную дверь, в которую вошел, и увидел за ней еще две неподвижные фигуры. Внутренняя, с красными стеклами, дверь была полуоткрыта, а за ней, в коридоре, угадывались две длинные тени. Доктор Войн послушался его совета. Дом был окружен.
– К чему отрицать? – настаивал Элмер, по-прежнему не спуская со священника гипнотизирующего взгляда. – Вы собственными глазами видели один из эпизодов вечной драмы. Видели, как Джон Стрейк грозил уничтожить Арнольда Элмера черной магией. Видели, как Арнольд Элмер при помощи белой магии рассчитался с Джоном Стрейком. Вы видите сейчас перед собой живого Арнольда Элмера. Он говорит с вами – и вы все же не верите?
– Да, не верю, – твердо сказал патер Браун и поднялся с места, как посетитель, собравшийся уходить.
– Но почему же? – последовал вопрос.
Патер Браун едва повысил голос, но его слова колокольным звоном отдались во всех углах комнаты:
– Не верю потому, что вы не Арнольд Элмер, – сказал он. – Я знаю, кто вы такой. Вас зовут Джон Стрейк, и вы убили последнего из братьев – того, что лежит там, на снегу.
Тот, видимо, призвал на помощь всю свою силу воли, делая последнюю попытку подчинить себе противника. Даже зрачки его сузились. Потом он вдруг метнулся в сторону. Но в этот самый момент позади него раскрылась дверь, и рослый детектив в штатском спокойно опустил руку ему на плечо. В другой опущенной руке он держал револьвер. Захваченный врасплох Стрейк обвел блуждающими глазами тихую комнату и увидел в каждом углу по человеку в штатском.
Патер Браун в тот вечер долго беседовал с доктором Войном о трагедии семьи Элмер. К тому времени всякие сомнения уже рассеялись: личность Джона Стрейка была установлена, и он сознался в своих преступлениях, вернее говоря, бахвалился своими победами. По сравнению с тем фактом, что он завершил свою жизненную задачу, покончив с последним Элмером, все остальное, видимо, было ему безразлично, даже вопрос о его собственном существовании.
– Человек этот своего рода маньяк, одержимый одной идеей, – говорил патер Браун. – Ничто другое его не интересует, не может заинтересовать, даже другое убийство. Это соображение служило мне немалым утешением в течение тех часов, что я провел в его обществе. Вам, несомненно, приходило в голову, что, вместо того чтобы рассказывать сказки о крылатых вампирах и серебряных пулях, он мог просто всадить в меня свинцовую пулю и преспокойно выйти из дома. Уверяю вас, мне это не раз приходило в голову.
– Любопытно знать, почему он этого не сделал? – заметил Войн. – Не понимаю. Впрочем, я пока вообще ничего не понимаю. Каким образом вы все это раскрыли? И что вы, собственно, раскрыли?
– О, вы прекрасно информировали меня, – скромно ответил патер Браун. – В особенности ценно было одно сообщение. Я имею в виду ваши слова о том, что Стрейк чрезвычайно изобретательный лгун и фантазер, с редким присутствием духа преподносивший свои измышления. Сегодня ему понадобилась немалая доля присутствия духа, и он оказался на высоте положения. Пожалуй, он в одном только ошибся – не следовало выдумывать сверхъестественной истории; но он решил, что я, как священник, готов верить чему угодно. Такие мнения очень распространены.
– Но я ничего не понимаю! – воскликнул доктор. – Расскажите с самого начала.
– Началось с халата, – просто сказал патер Браун. – Удачнее маскарад трудно было придумать. Когда вы встречаете в доме человека в халате, вы машинально принимаете за истину, что он у себя. Так случилось и со мной. Но затем начались странности. Сняв пистолет, он отставил его в сторону и щелкнул курком. Так поступают, если оружие чужое и надо проверить, не заряжено ли оно. Он должен был бы знать, заряжены или нет пистолеты, висевшие у него в коридоре. Не понравилось мне и то, как он искал бренди, как едва не налетел на аквариум. Когда в комнате имеется такая хрупкая вещь, машинально вырабатывается привычка обходить ее. Впрочем, все это могло быть плодом моего воображения. Вот что дало мне первые реальные указания: он вышел ко мне из коридора, в котором, кроме наружной двери, была лишь одна дверь; я и решил, что это дверь в его спальню, откуда он и появился. Я попробовал открыть ее: она была заперта. Мне это показалось странным. Я заглянул в замочную скважину. Комната была совсем пустая – ни кровати, ни другой мебели. Я понял тогда, что он пришел не из этой комнаты, а со двора. И мне тотчас ясно представилась вся картина.
Бедняга Арнольд Элмер, наверно, и спал, и жил наверху. Спустился за чем-то вниз в халате, открыл дверь с красными стеклами и в конце коридора увидел своего врага – высокого бородатого мужчину в шляпе с большими полями и широком черном плаще. Стрейк бросился на него и либо задушил, либо заколол – это выяснит следствие. В ту минуту, когда, стоя между вешалкой и буфетом, он с торжеством взирал на поверженного врага, последнего своего врага, он вдруг неожиданно услышал в гостиной чьи-то шаги. Это я вошел через застекленную дверь.
Он проявил чудеса проворства и ловкости. Он не только переоделся, но и сымпровизировал целую сказку. Он сбросил свой плащ и свою большую черную шляпу, надел халат убитого. Затем сделал ужасную, на мой взгляд, вещь: он подвесил тело как пальто на вешалку, прикрыл его своим плащом, нахлобучил на голову свою шляпу. Не было другого способа скрыть тело в этом узеньком коридоре, с запертой в единственную примыкающую комнату дверью. Но придумано было очень умно. Я сам прошел мимо вешалки, ничего не заметив. Боюсь, меня всегда будет пробирать дрожь при этом воспоминании.
Он мог, пожалуй, ограничиться этим. Но боялся, как бы я не обнаружил тела. А тело, подвешенное подобным образом, требовало бы разъяснения, так сказать. Тогда он решил сделать смелый ход: он сам все откроет и сам разъяснит.

Тут в его причудливом и страшно плодовитом мозгу и зародилась мысль поменяться ролями. Он должен выдать себя за Арнольда Элмера – почему бы ему не выдать убитого за Джона Стрейка? Ситуация не могла не подействовать на воображение этого фантазера. Получался зловещий маскарад, на который два смертельных врага явились, переодевшись друг другом; пляска смерти, потому что один из танцоров был мертв. Так, мне кажется, он все это рисовал себе. И, наверное, улыбался при этом.
Патер Браун задумался, рассеянно глядя прямо перед собой. В его лице только большие серые глаза и обращали на себя внимание… когда он не щурил их. Немного погодя он продолжал, все так же просто и серьезно:
– У этого человека был талант – благородный талант: сочинять и рассказывать. Он мог бы быть великим романистом, но пользовался своим даром для злых целей: обманывал людей не праздными вымыслами, а вымышленными фактами. Началось с того, что он обманывал старого Элмера, придумывая всевозможные оправдания для себя и преподнося ему с мельчайшими подробностями всякие лживые истории. Возможно, что в начале в этом было много детского: ребенок ведь одинаково чистосердечно может заявить, что он видел короля английского или короля какого-нибудь волшебного царства. Черта эта укоренилась в нем благодаря пороку, от которого пошли все другие пороки: благодаря гордыне. Он стал все больше гордиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно выстраивать сюжет. Вот почему молодые Элмеры уверяли, будто он «околдовал» отца. Так околдовывала Шахерезада деспота «Тысячи и одной ночи». Он прожил свою жизнь, гордый сознанием, что он поэт, исполненный ложной, но беспредельной смелости великих лжецов. И сказки его, вероятно, бывали особенно красочны и фантастичны, когда он, как сегодня, рисковал головой.
Я уверен, что фантастичность этой истории радовала его не меньше, чем само убийство. Он попробовал рассказать то, что случилось на самом деле, только наоборот: так, будто мертвый жил, а живой – был мертв. Сначала он облекся в халат Элмера, потом попытался облечься в его душу и тело. Глядя на тело, он воображал, будто его собственный хладный труп лежит на снегу. Затем он придал ему странный вид, вызывающий представление о ястребе, ринувшемся с неба на добычу. Он одел его в свои развевающиеся мрачные одежды; он создал вокруг него мрачную сказку о черной птице, которую берет лишь серебряная пуля. Не знаю, что подсказало его художественному чутью тему о белой магии и о белом металле, губительном для чародеев, – блеск ли серебра, которым инкрустирован старый буфет, или сверкание снега, отблеск которого пробивался из-под двери. Он завершил обмен ролями, бросив тело на снег, как тело Стрейка. Он постарался создать жуткое представление о Стрейке, как о крылатом, когтистом орле-гарпии, парящем в воздухе. Ведь надо было объяснить, почему нет следов на снегу. Был момент, когда он положительно привел меня в восхищение своей дерзостью поэта. Он умудрился обратить в свою пользу то, что сильнее всего говорило против него: он обратил мое внимание на то, что плащ убитому не впору, слишком длинен – ясно, убитый не ходил по земле, как обыкновенные смертные. Но при этом он особенно пристально смотрел на меня, и я невольно подумал, что он пытается навязать мне чудовищный блеф.
– Вы успели уже разгадать правду к тому времени? – спросил доктор Войн. – Все, что связано с тождеством личности, особенно действует на нервы. Не знаю, что лучше: быстро догадаться или подходить к истине постепенно. Мне интересно знать, когда у вас зародилось первое подозрение и когда вы окончательно убедились?
– Кажется, я заподозрил его по-настоящему, когда телефонировал вам, – пояснил его собеседник, – а главную роль в этом сыграли красные отсветы на ковре. Они то тускнели, то разгорались ярче, как брызги крови, вопиющие о мщении. Чем это объяснялось? Я знаю, что солнце не выходило из-за туч; очевидно, в коридоре то открывали, то закрывали дверь, выходящую в сад. Но он сразу поднял бы тревогу, если бы, выйдя, заметил своего врага. Между тем суматоха поднялась лишь спустя некоторое время. Я начал догадываться, что он выходил с какой-то определенной целью, чтобы что-то подготовить. Когда я окончательно во всем убедился, ответить труднее. Помню, под конец он старался загипнотизировать меня взглядом и голосом. Очевидно, он это не раз проделывал со старым Элмером. И при этом играло роль не только то, как он говорил, но и то, что он говорил. Философское и религиозное обоснование.
– Я реалист, – заметил доктор с грубоватым юмором, – религия и философия не по моей части.
– Какой же вы реалист в таком случае! – возразил патер Браун. – Послушайте, доктор. Вы знаете меня довольно хорошо; знаете, кажется, что я не ханжа; не стану отрицать: хорошие люди бывают привержены дурной религии, а дурные – хорошей. Но одну вещь я усвоил из опыта, опыта вполне реального, вот так, как узнают уловки какого-нибудь животного или учатся различать марки хороших вин. Вряд ли мне попадался хотя бы один преступник из тех, что любят пофилософствовать, который не философствовал бы на темы об ориентализме и перевоплощении, о колесе судьбы и круговороте вещей, о змее, закусившей собственный хвост. Я на деле убедился, что над слугами этого змея тяготеет рок: они обречены ползать на брюхе и глотать пыль. На спиритуалистические темы может болтать любой шантажист и любой злодей. Первоистоки этого учения, быть может, и иные; но в нашем деловом мире оно стало религией негодяев. И я знал, что говорит со мной негодяй.
– Но, я полагаю, негодяй может исповедовать любую, по своему выбору, религию, – заметил доктор Войн.
– Да, – согласился его собеседник, – может, или, вернее, мог бы, если бы тут было притворство, рассчитанное лицемерие. Любое лицо можно прикрыть любой маской. Каждый может заучить несколько фраз и утверждать на словах, будто он держится таких-то взглядов. Я сам мог бы выйти на улицу и объявить себя левославным методистом или кем-нибудь в таком роде, хотя, боюсь, это показалось бы не очень убедительным. Но мы ведь говорим о поэте. А поэту нужно, чтобы маска до известной степени была вылеплена на нем. Поступки его должны отвечать тому, что происходит в нем самом. Я допускаю, что он мог бы назваться методистом, но он не сумел бы стать красноречивым методистом, а вот стать красноречивым мистиком или фаталистом ему было нетрудно. Подобный человек только на такой концепции идеализма и мог остановиться, когда ему понадобилось быть идеалистом. А на этом была построена вся его игра со мной. Подобный человек, даже весь покрытый запекшейся кровью, способен искренне уверять вас, что буддизм – выше христианства, мало того, что буддизм – больше христианство, чем само христианство. Одно это достаточно освещает, какое у него отвратительное и превратное представление о христианстве.
– Клянусь небом, – смеясь, воскликнул доктор, – я не возьму в толк, вы защищаете или осуждаете его?
– Сказать о человеке, что он гений, не значит защищать его, – пояснил патер Браун. – Отнюдь. Художник или поэт поневоле выдает себя. Леонардо да Винчи не сумел бы нарисовать неумело. Как он ни старайся – получилась бы лишь изысканная пародия на слабую вещь. Так и методист в изображении Стрейка был бы неправдоподобен.
Немного погодя патер Браун шел домой. Свежий морозный воздух пьянил. Деревья стояли как серебряные канделябры на празднике очищения. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзил некогда сердце неизреченной Чистоты. Но холод был не убийственный, разве в том смысле, что уничтожал все смертное, мешающее расцвету нашей бессмертной и неисчерпаемой жизненности. Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, как звезда Вифлеемская, неизвестно почему представлялось светозарной пещерой. Будто там, в глубине, зеленым пламенем пылало Горнило Холода, пробуждая все существа к жизни и теплу, и чем больше они погружались в холодно-кристальные волны красок, тем они становились легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина; там заблуждение отсекалось от истины ледяным лезвием. И в том, что оставалось, жизнь, как никогда, била ключом. Словно ледяная гора заключала в себе всю радость мира, как прекрасную драгоценность…
Патер Браун сам не совсем разбирался в своем настроении, по мере того как все больше погружался в зеленый сумрак, все большими глотками пил девственный, живительный воздух. Забытые, остались далеко позади грязь и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног человека.
И, с трудом пробираясь по снегу к себе домой, патер Браун шептал про себя: «А все-таки он прав, есть белая магия, но надо знать, где искать ее…»
Назад: Чудо «Полумесяца»
Дальше: Обреченный род

