За пределами Сада
Динарзад сложила руки на коленях. На каждом пальце у неё было золотое кольцо с тигриным глазом, и оттого казалось, что руки смотрят на неё – зловеще, яростно и печально. Жаровни моргали и согревали её плечи; сквозь вуаль цвета павлиньей головы она следила за банкетом, который словно вертелся вокруг неё, как вертятся тарелки вокруг немого главного блюда или танцоры под высокой замысловатой лампой, у которой нет иного выбора, кроме как светить. Венец из слоновой кости врезался в кожу: утром её лоб будет весь в красных ссадинах. У мужчины рядом с ней были густые усы; шестнадцатой в его параде подарков оказалась райская птичка, вырезанная из единственной огромной жемчужины, с длинным хвостом из сапфиров и топазов. У птички были мёртвые блестящие глаза, и, если потянуть за хвост, какой-то механизм в недрах птичьего горла издавал звон, похожий на звон часов. Динарзад подумала, что это должно быть кукареканье или пение, но ей самой звуки казались лишь звоном часов, отмечающим ход времени. Она потянула за хвост. Раздался звон. Она аккуратно прикрыла птичку салфеткой, чтобы не пришлось смотреть в мёртвые глаза.
Она думала о девочке из Сада.
Вспоминая истории девочки, Динарзад думала, в первую очередь, о пиратском корабле и печальной, сломленной Папессе. Она думала, что понимает, как сдаваться и отдаваться на милость неизбежному. Она знала, что такое неизбежность, и каков её вкус: на ощупь это как рука усатого мужчины, лежащая на её колене, на вкус – как его поцелуи. Она хотела бы обрезать волосы, как сигрида, чтобы их перестали унизывать жемчугами и выпрямлять, и отыскать укрытие от неизбежных поцелуев.
Она хотела бы быть сироткой с бесконечными историями, которые можно рассказывать, и чтобы никто не любил её так, чтобы дарить перламутровых птиц.
Но она не такая, как её брат, ей не хватит духу сесть у ног девочки и слушать, не скрываясь. Ей невыносима мысль о том, что девочка – не перламутровая птичка, и её нельзя дёрнуть за хвост, чтобы услышать звон, которого так не хватало. Его на самом деле не хватало.
– А где проводит вечер твой брат, маленький султан? – любезно поинтересовался жених. Его голос был словно густое вино, которое текло по ней и впитывалось в кожу, хотела она того или нет.
– Он охотится в провинции, мой господин, – сказала она, не поднимая глаз под тёмно-синей вуалью. – Ведь, когда он станет не маленьким султаном, у него не будет времени на такие благородные развлечения. Он взял отцовский лук из эбенового дерева и отправился выслеживать льва, чтобы убить его в честь моего господина, в качестве свадебного подарка.
Динарзад поразилась, как легко ей далась ложь. «Так и рассказывают истории? – подумала она. – Открываешь рот и поёшь, позволяешь тому, что кажется тебе милым, звучать и надеешься, что это похоже на пение, а не на бой часов?» Согревшись от собственной истории, она с притворной сдержанностью подняла глаза.

– Брат мой весьма потрясён моим господином. Он ставит вас несоизмеримо выше молодого человека, который принёс тех жутких петухов, и очень заинтересовался механизмом ваших птиц, который, по его мнению, превосходит золотые пружины и шестерёнки в птицах того человека.
– Что ж, я с радостью покажу ему, как всё работает!
– Уверена, он будет вам благодарен, мой господин… Вы так щедры, что женитесь на его сестре и показываете ему такие чудеса! Он несомненно щедро вознаградит моего господина. Мой брат обладает недюжинным дипломатическим талантом – проводит ночи размышляя о судьбах народов и правителей и в совершенных залах своего разума перемещает их так же искусно и уверенно, как фигурки шатранджа . Он размышляет так часто и усердно, что я собственными глазами видела, как из его головы идёт пар, словно из чайника. Когда вырастет, он станет великим султаном и навсегда запомнит восхитительное пение птиц моего господина.
– Твой голос слаще всех моих птиц, вместе взятых.
– Не думаю, что он слаще всех ваших жен, вместе взятых.
Тут она зашла слишком далеко: напомаженный и надушенный лик жениха омрачился. Она кашлянула, призвала девичий румянец и снова опустила глаза к тарелке. На золоте виднелись потёки гусиного жира, и у неё не было аппетита. Где-то далеко, на отдельном большом столе громоздилась пятнистая жирафья шея, которая оказалась жирной и сладкой, будто костный мозг: желудок Динарзад отказался её принимать. Из-под салфетки блестели сапфиры. Она потянула за нить и вздрогнула от звука.
Когда ночь завершилась, её шея болела от того, что пришлось всё время держать голову опущенной. Динарзад отправилась в комнату на вершине башни и, отыскав там плащ, сложила его пополам, потом ещё раз. Он был красный, прокрашенный несколько раз, пока не стал таким тёмным, что называть его красным в сравнении с другими красными было всё равно, что называть солнце ярким по сравнению с лампой. По краям он был обшит оленьей кожей, привезённой из какой-то далёкой страны, где водились косматые олени с толстыми шкурами. В нижней части шла бахрома из чёрных волчьих хвостов. Это был самый простой, наименее украшенный плащ из всех, что у неё имелись. Она медленно запихнула его в мешок брата, а с ним и перламутровую птичку.
– Не знаю, откуда это, – сказал мальчик. – Я точно его не брал. Ты мне запретила.
Девочка провела пальцами по ткани, мягкой как чернила. Волчьи хвосты болтались над её маленькими руками, и олений мех топорщился на капюшоне.
– Ничего страшного, раз ты его взял.
– Не брал я его! Я взял перепелиные яйца и коричные леденцы! Сегодня подавали гусятину… мне показалось, что её брать не следовало.
Девочка немного подумала и решила, что, если он не мог разобраться в том, что тикало и жужжало в голове его сестры, ей не стоит и пытаться. Она развернула плащ, и мальчик помог ей накинуть толстую тяжёлую ткань на худые плечи. Олений мех покалывал кожу, вызывая странное волнение: что-то сродни острому вкусу гладкого коричного леденца во рту. Девочка слегка улыбнулась, ощутив зубами холод. Когда она расправляла складки, стоя на берегу озера, чья вода была усеяна листьями и утиными перьями, ей в ладонь упала птичка. Она с любопытством посмотрела на мальчика, но он лишь покачал головой. Она потянула за нити из сапфиров и топазов, перламутровая птичка открыла свой замысловатый клюв и издала громкий, чистый звон, словно самый маленький церковный колокол в мире.
Девочка рассмеялась.
Сказка о Переправе
(продолжение)
Семёрка сошел с причала на влажный пляж. Идиллия уже оттолкнулся шестом и начал удаляться, хвосты ящериц то и дело мелькали под его плащом. Молодой человек пошел вдоль берега, осторожно ступая и стараясь не смотреть вниз, так как пляж был покрыт не серой галькой, как казалось с воды, а тысячами закрытых глаз, серебристо блестящих и влажных, открывавшихся, когда он на них наступал, и глядевших с укором. Они всё время плакали, и их слёзы смешивались с озёрной пеной в солёных волнах.
Семёрка сжимал свой пустой рукав и не смотрел вниз, хотя его желудок скручивало с каждым влажным и податливым шагом. Он облегчённо вздохнул, когда пляж из глаз уступил место серой глине и остовам листьев, вокруг вырос хилый лес из облезлых берёз, лиственниц и кривых дубов. Ни один лист не трепетал на унылом ветру.
Однако Семёрка не знал, где её искать. Он бродил по лесу и не слышал птичьего пения, не видел оленей, жующих жёлуди, не замечал торопливых мышей. Не было солнца, и он не знал, куда идёт… однако всё равно шел. Он замёрз и окоченел от сырости, которая ползла по нему, словно пара ящериц.
– Что ты натворил, глупый старый калека?
Голос раздался ниоткуда: серо-белый лес вокруг него был пуст и недвижен. Но голос был знаком – хорошо знаком.
– Темница, где ты? – шёпотом спросил он.
Одно из деревьев – старый кривой ясень – повернулось, и это была его Темница. Её коричневые волосы от сырости прилипли к шее, глаза были широко распахнуты, и в них стояла печаль. То, что осталось от платья, выцвело и прилипло к телу. Семёрка побежал к ней… А кто бы не побежал? Он побежал к ней, и она обняла его за шею, уткнулась лбом в изувеченное плечо.
– Зачем ты пошел за мной? Как ты вернёшься назад, глупый мальчишка? – уныло проговорила она, качая головой.
– Я пришёл спасти тебя, – сказал он, изумлённый и смущённый. – Мы ведь всегда так делаем, разве нет? Мы спасаем друг друга.
Темница оттолкнула его:
– Мне не нужно, чтобы ты меня спасал! Ты хоть понимаешь, чего мне стоило сюда попасть?
– А ты хоть понимаешь, чего мне стоило тебя найти? – взорвался Семёрка.
Темница повернулась на пятках и выставила свою древесную сторону, рябую и окаменевшую… и гладкую, без хвоста. Он её не увидел, потому что теперь она полностью была деревом, без хвоста с милой кисточкой.
– Я заплатила плотью паромщику и его жутким ящерицам. Наверное, ты тоже? Ты потратил последнюю дхейбу, чтобы попасть сюда? Чтобы спасти меня?
– Не последнюю.
Глаза Темницы полыхнули, и её кожа слегка порозовела от гнева, перестала быть серой. Она набросилась на него, чуть не сбила на лесную землю и поцеловала с такой яростью и жестокой силой, что он едва не задохнулся. В холоде и тумане её рот был горяч, они стукнулись друг с другом зубами. Темница прокусила ему губу и отпрянула, её рот был в его крови, алой на сером.
– Ты этого хотел, да? Благодарного поцелуя спасённой девы? Её милую ручку в своей? Глупый взмах коровьих ресниц? Ты такой же, как сын мельника!
– Нет! Темница, я никогда такого не желал, ты ведь знаешь!
– А почему нет?
Она пронзительно и горько рассмеялась. Семёрка посмотрел на неё глазами полными слёз; его спина бессильно согнулась, а рукав повис.
– Некоторые вещи невозможно забыть, – прошептал он. – Скажи, что ты видишь, когда смотришь на меня? Скажи, что видишь мужчину. Скажи это!
Темница съежилась, на её лице появилась уродливая гримаса. Теперь она выглядела гораздо старше: жёсткая и суровая линия челюсти, совершенно иное лицо – ни следа от ребёнка, чей призрак в ней жил.
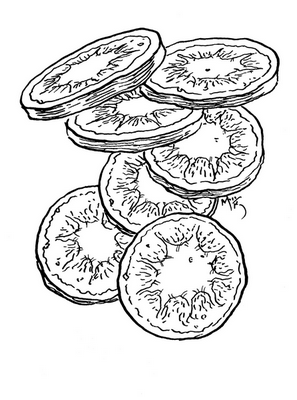
– Кости, – прошипела она. – Я смотрю на тебя и вижу кости, кости и монеты.
– Знаю, – Семёрка снова потянулся к ней, и она позволила себя обнять, дрожа как пойманная лань. – Ты спасла меня, моя единственная подруга. Я должен был тебя спасти. Должен был.
– Я пришла сюда по своей воле! Должна была прийти. Я отправилась к озеру…
– Знаю! Я тоже! Ты видела её?
– Да! Она была такая красивая, и у неё такое мрачное лицо…
– Ты испугалась?
– Нет, ох, да… А ты?
– Конечно! Ты это сделала?
– Мне пришлось! Ты…
– Да… Тебя стошнило?
– Нет, но я едва сдержалась, когда она порезала меня, чтобы наполнить свою миску…
– Столько красного! Всё как…
– Как тогда. Да.
Они смотрели друг на друга, улыбаясь легко и печально.
– Хочешь об этом поговорить? – спросил Семёрка, вдыхая дикий запах её волос.
– Не очень, – фыркнула она, вытирая глаза. – Как выглядит вход в мир мёртвых? Всегда одинаково: кровь, женщина в капюшоне и пещера. Ты отдаёшь всё, что можно, и входишь во тьму. Тьма забрала нас. О чём тут говорить…
– Говорить всегда есть о чём. Поговори со мной как раньше, когда я согревал твою кору животом и ты очень коротко стригла волосы.
– Ты всегда был назойливым и ненасытным, – со вздохом сказала Темница, но на её губах мелькнула улыбка. – Итак, я отправилась к озеру…
Сказка Танцовщицы, что спустилась в мир мёртвых
Тальо хранил свои абсенциа ещё в одной коробочке. Он тебе об этом не рассказал? Мне он их как-то показал; плакал над ними, усохшими и чёрными, постукивавшими в ящичке из апельсинового дерева, как трещотка гремучей змеи. Он хотел, чтобы я их увидела, потому что я хульдра, и в каком-то извращённом смысле он изуродовал себя ради меня, моих бабушек и моей небесной тётки. Я сморщила нос… неприятно видеть, когда то, во что другой человек верит, превращается в нечто маленькое, сухое и безжизненное, будто горстка срезанных ногтей в реликварии. Думаю, я всегда нравилась ему больше, чем ты. Он ни разу не встречал настоящую хульдру. Мы были выдумкой, история Тёлки-Звезды и её брата была реальностью. Я стала доказательством его веры, была не хуже Звезды и спала, прижимаясь к его животу, между оглоблями телеги. Он смотрел на меня и говорил себе, что поступил правильно, а тупая фантомная боль у него между ног священна.
Я ничего об этом не знаю. Я всего лишь я. Всегда была деревом, девочкой и коровой, и это для меня такое же божественное откровение, как для любого человека – его собственные большие пальцы. Ты никогда не считал меня доказательством существования бога. Но мне было жаль нашего зелёного газелли… Помнишь его шапочку? И я позволила ему считать себя святой. Казалось, это самое меньшее из того, что я могла сделать. Мы вместе охотились, пока мантикора учила тебя чистить карманы и петь гаммы. Он был быстр и зубаст, и я стала такой же. Оставаться рядом с тобой было трудно… Я смотрела на тебя и вздрагивала, будто пустые стены Монетного двора вновь вырастали вокруг меня. Понимала, что мне следовало принять на себя груз и лечь под пресс. Это была моя идея; позволить тебе всё сделать оказалось неправильным решением. Я смотрела на тебя и всё вспоминала. А с Тальо, когда он пел короткие песенки, от которых кролики приближались на расстояние вытянутой руки, забывала.
И ещё забывала, когда танцевала. Будучи Серпентиной, я была красивой и сильной, ни один ёж не причинил бы мне вреда. И неприкосновенной. Мне не нужно было быть девочкой-деревом, у которой сын мельника забрал поцелуй, единорог – волосы, фабрика – семь лет жизни. Я была ею, была зелёной и извивалась. А когда мелодия ускорялась, вы с Тальо вступали, и ты играл на его маленькой флейте, я всё меньше чувствовала, что я – не она. На охоте газелли звал меня святой, в танце я знала, что божественна. Пусть сейчас это звучит глупо, но, по крайней мере, я могу утешаться тем, что не первая сошла с ума от любви к ней – змее и небу. Не могу объяснить это лучше… Я становилась ею в танце так часто, что чувствовала её в себе и в далёкой тьме; чувствовала, как она сворачивается в узел в тумане. Какую злую шутку может сыграть сказка с рассказчиком? Я рассказывала её историю сотни раз и просто не могла не стать её частью.
На следующий день после того, как ты меня поцеловал… Я не рассердилась, не думай! Просто не вспоминала больше об этом. Мы с Тальо отправились добывать ужин: шли по следу молодого оленя. Я лежала на животе на мхе и берёзовых листьях и смотрела, как его пятна мелькают среди листвы. Тальо лежал рядом, и мы шептались, пока наша жертва жевала ветки.
– Ты лежишь совсем как змея. Я уверен, это не случайно и что ты собираешься нас покинуть, – с упрёком прошипел он.
– С чего ты взял?
– Ты не здесь. Я почти вижу сквозь тебя. Ты бы ни с кем не разговаривала и только танцевала, если бы тебе не нравилось охотиться. Если бы я тебе не нравился. Я начинаю думать, что, возможно, нравлюсь тебе лишь потому, что однажды увидел её.
Я медленно повернула голову, чтобы не испугать оленя.
– Не говори так. Ты мой рыцарь телеги.
– Пока что. Но ты покинула нас много дней назад… я почувствовал, как ты ушла. Теперь вместо тебя чужачка, которая лжет мне и говорит, что она – это ты.
Я уставилась на мешанину старых изломанных листьев на земле.
– Ты не хочешь, чтобы я осталась. И поэтому говоришь мне ужасные вещи.
Тальо медленно взял моё лицо в свои руки.
– Дорогая хульдра, рождённая быком и принесённая ко мне удачным ветром… уходи. Не мне удерживать тебя. Мы справимся без твоего переменчивого настроения и без твоих ухмылок, хоть очень их любим. Найди то, что ищешь, чем бы оно ни было.
– Я отправлюсь, – пробубнила я, – на Остров Мёртвых, чтобы сделать то, что ты не смог.
Он моргнул, будто я вонзила в него свой охотничий нож. Я увидела, как у него задрожали губы – не то от гнева, не то от скорби, не то в надежде. Напрочь забыв про оленя, мы долго сверлили друг друга глазами. Наконец Тальо вытащил из жилета маленькую коричневую коробочку, а из неё – серебристо-чёрный лист.
– Не подведи нас, – сказал он.
Я сжала лист в руке, и мы вместе, единым движением выпрыгнули из куста и покончили с оленем одним кровавым ударом.
Как отыскать край мертвецов, если ты ещё не умер? Об этом месте рассказывают разное. Там серо и одиноко… Там шумный цирк… Там идёт суд, душу взвешивают на одних весах с пером… Там пусто… Мне наплевать, что там, – уходи, девчонка, и не смей воровать молоко у моей коровы… Можно расспросить тысячу человек и услышать тысячу историй. Или пойти к астрологу, повернуться к нему спиной и удивить так, что он нарисует карту, на которой будет отмечено миндальное дерево – почти легенда, на самом деле, – твой окаменелый, зараженный омелой дедушка. Если он не подскажет дорогу, можно пригрозить, что срубишь его прямо сейчас и не заплачешь, потому что он не должен был трогать твою бабушку. И в подтверждение серьёзности своих намерений поразмахивать острым топором. Дерево может спросить, с чего ты взяла, что ему известна дорога. Ты можешь ответить, что оно не живое и не мёртвое, в основном, абсенциа и миндаль, и уж точно может научить продираться среди разных миров. Вероятно, дерево заворчит, но один-два взмаха топором, один-два всплеска летящих во все стороны щепок, скорее всего, вынудят его кричать и вопить, и оно проорёт тебе, где именно искать озеро, возле которого, у входа в пещеру живёт женщина.
Дерево, которое суть некая часть твоего деда, затем протянет к тебе ветви и попытается поймать, будет хлестать по рукам… Об этом даже думать страшно, поэтому ты как можно быстрее удерёшь оттуда и, вне всяких сомнений, никому не расскажешь о случившемся.
Есть озеро тут, есть озеро там. Оно не такое, как другие, ведь его берег усеян тонкими осколками стекла, похожими на дождевые капли. По этому острому берегу я шла в хороших ботинках на толстой подошве; над водой кричало эхо, вторя моим шагам. Потому я не удивилась, что женщина меня ждала, и капюшон прятал её лицо, так что был виден только клюв удода, длинный, тонкий и загнутый книзу, обращённый в мою сторону. Её чёрные юбки ниспадали широкими складками и простирались до берега и до чёрной воды; казалось, что между тканью и озером нет границы.

– Дай мне пройти, – сказала я.
– Пройти куда? – спросила она. Её голос словно терялся в клацанье клюва.
– Пройти сквозь тебя, в мир мёртвых.
– Ты можешь попытаться пройти сквозь меня, но увидишь, что я очень плотная и сделана в большей или меньшей степени из костей и мяса. Так что, боюсь, переход будет сложный…
Я моргнула, и она сняла капюшон. Передо мной стояла женщина средних лет, не худая и не толстая, с каштановыми волосами, начавшими седеть, и кожей будто потёртая дубовая кора. Глаза у неё были узкие и тёмные. Она завела руки за голову и, расстегнув зажим, убрала клюв с лица – это была просто женщина: со ртом, носом и зубами как у любой другой.
– Тебе не понравилась моя шутка? – Она рассмеялась. – С такой работой, как у меня, редко удаётся поболтать. Ты могла хотя бы изобразить смех. Или похихикать. Разве девушки в твоём мире разучились это делать?
– Я давно не практиковалась в хихиканье, – проворчала я.
– Как и я, дорогая. Наверное, это не очень хорошая шутка.
– Что мне сделать, чтобы пройти?
Боюсь, я была с ней резка. Наверное, ты вёл себя лучше.
Темница вздохнула.
– Надо слушать, а не говорить так много.
Сказка Плакальщицы
Я занимаюсь странным делом, хотя оно немногим чуднее моего прежнего занятия. Когда-то я была плакальщицей – у гарпий есть склонность к этой профессии: ни одно другое существо не может вопить так, как это делаем мы.
Я не предупредила? Ох! Не заглядывай под плащ.
Мы знаем, как стенать от горя, лучше любого из тех, у кого пять пальцев на ногах. Когда надо, мы живём с трупом и со скорбью неделями, пока она не обретёт форму и плоть, не станет весом с труп, и в гнилостных газах находим добродетель или порочность умершего. Распад не умеет лгать.
Мы прекращаем скорбеть не когда нам говорят, а когда завершается погребальная песнь: на это уходят дни или годы. Когда мы можем взять погребальную песнь за руку и пройти с ней по городской улице, показать лавку зеленщика, где умершая покупала морковку и репу, и лавку мясника, где резала мясо и втайне встречалась с любовником, и галерею, где однажды висел её портрет, – тогда мы понимаем, что песнь выросла, и всё закончилось. Она с грустью кивает и проходит сквозь все эти места к могиле, где мы визжим, поём и рвём на себе волосы, царапаем себе грудь и печально воем, впиваясь в землю.
Однажды в Ирсиле, где нищета и грусть и нет ничего, кроме ветеранов со сломанными мечами да бесполезными оралами, нам понадобилось пятнадцать лет, чтобы взрастить погребальную песнь по одному генералу. Мы ходили с ней по трущобам и порогам, где старые офицеры вещали в пустоту свои кровавые истории; они шагали за нами строем, чтобы услышать, как оплакивают старика.
Это необходимая работа. У меня хорошо получалось. Думаю, потому я и попала сюда.
Среди скорбящих гарпий ты не можешь считаться знатоком, если у тебя нет клюва удода. Мы можем вопить и причитать так, что у тебя уши распадутся на кровавые половинки от муки, рвущейся из наших глоток. Но погребальная песнь – это не только печаль. Даже в покрытой шрамами жизни старого генерала нашлось место приятным вещам: была женщина в одной деревне, напоминавшая его мать, и он на ней женился; мы не преминули об этом рассказать, ибо в погребальной песне нет места стыду. Ещё был момент перед тем, как он отправился в поход, когда женщина, похожая на его мать, показала ему младенцев-двойняшек, мальчика и девочку, и он не мог дышать от того, какие у них милые щёки, – мы спели и об этом.
Но тяжело петь о приятном ртом гарпии. Мы ведь созданы для того, чтобы рвать на части. Тяжело просто плакать…
Клюв следует добыть – не украсть: нужно спеть погребальную песнь удода, когда тот умрёт, и, если его птенцы сочтут песню достаточно хорошей, они отдадут клюв. Вот как удоды распределяют мировую скорбь.
Когда я отправилась на поиски клюва, мне было за тридцать. Довольно многие сомневались, что я когда-нибудь заслужу право его носить. Уверена, ты с изумлением думаешь про удодов – они же просто маленькие яркие и глупые порхающие птички. Как может клюв, похожий на грудную кость голубки, производить похоронные звуки, о которых говорю я? Но послушай: некогда жили великие удоды, коим нет равных в эти дни упадка. Их розово-оранжевые крылья были как у альбатросов, а клювы – словно трубы, и мы были ветром, который их обдувал.
Я отправилась в горы. Не стану досаждать тебе подробностями Подвига. Почти все Подвиги одинаковые: некто отправляется в путь, добивается желаемого и возвращается. Но, найдя огромную старую удодиху, умиравшую на гнезде, я упала на колени среди её птенцов с огненными головами, перьями с чёрными кончиками и белыми пятнышками, чтобы узнать о жизни птицы, которую мне предстоит оплакивать. Она повернула ко мне старую пушистую голову и рассказала вот что.
Сказка Удодихи
Моё яйцо было трудно разбить: желток оказался золотым и тягучим. Я открыла глаза посреди сияния. Моя мать пронзила грудь клювом и накормила меня своей кровью, которая имела вкус полёта. Она назвала меня Оранжевой-как-Солнце.
Прилив пришел – прилив ушел. Я ела червей и жуков.
Я пела очень громко: так же громко пел удод с чёрным и сильным хвостом. Я сделала гнездо из веток лещины, пуха и кусочков странного сладкого красного дерева, небрежно брошенного строителем плота. В тот год я снесла три яйца и ещё четыре – на следующий год. Я пронзила грудь клювом и накормила птенцов своей кровью, которая имела вкус полёта. Я назвала их Розовый-как-Жирный-Червяк, Рябой-как-Тень, Красный-как-Кровь-Матери… По-разному. Их было много, всех трудно вспомнить.
Ещё через год я снесла одно яйцо, а в прошлом году – пять. Так бывает.
Прилив приходит – прилив уходит.
Однажды меня преследовал ястреб. Он проделал дыру в моём черепе и ещё одну – в клюве. Я выклевала ему глаз.
Кот покалечил удода с чёрным хвостом, и последние мои яйца были от другого, с синим хохолком.
Теперь я старая, и у меня нет крови для новых птенцов.
Я прожила хорошую жизнь.
Сказка Плакальщицы
(продолжение)
Я держала в руках её старую усохшую голову, напоминавшую коричневое яблоко, и тринадцать её птенцов собрались вокруг: Розовый-как-Жирный-Червяк, Рябой-как-Тень, Красный-как-Кровь Матери… а также Синебрюхий-как-Сойка, Розовый-как-Обгоревший-Фермер, Мрачный-как-Голодный-Барсук и остальные. Я подняла голову и спела об алмазном яйце, о том, как трудно было его разбить, как мерцал желток в лучах утреннего солнца, и о вкусе материнской алой крови. Я спела о красоте чёрного хвоста, о гладких яйцах с младенчиками, о том, как текла кровь из груди Оранжевой-как-Солнце, и о той боли, которую она чувствовала, когда дети клевали её грудь. Я спела о ястребе, внушающем страх, о его грозных криках и великой битве, в которой хищник утратил драгоценный глаз. Я спела о коварном коте и потерянном супруге, о новой любви с синим хохолком. Я спела о всех яйцах, всей крови и о пустой груди, что поёт на исходе дней.
Я слетела с горы, держа в руках клюв Оранжевой-как-Солнце, и на нём была маленькая дырочка, оставшаяся после сражения с ястребом. Благодаря ей мне удаётся издавать самые нежные, надломленные и печальные ноты, на какие способен любой клюв. Я привязала его к лицу и начала заниматься своим ремеслом.
Через несколько лет после этого ко мне пришли женщины, плакавшие как удоды о своей подруге, чьё бездыханное тело они несли на похоронных носилках из носа корабля. У умершей были белые волосы, и она улыбалась. Я внимательно слушала, пока они рассказывали историю её жизни. Потом взяла тело в своё обычное место, спрятанное в забытом пустом краю у маленького озера, где меня никто не побеспокоил бы годы, которые точно понадобились бы, чтобы взрастить погребальную песнь этой женщины. Но её подруги мне хорошо заплатили, и я принялась за дело, превращая тускнеющий труп в историю. Он пах сладко, будто и не труп вовсе, а как розы и ладан, хотя тебе, наверное, смешно такое слышать. Я многое узнала, пока мёртвая медленно превращалась в ничто. И хотя её тела уже нет, по-прежнему создаю её погребальную песнь. Прежде чем оно рассыпалось в прах, я случайно заметила большие погребальные носилки на воде – к моему удивлению, на них лежал скелет с головой дряхлого старого лиса, чья шерсть когда-то была рыжей.
Сказка Танцовщицы, что спустилась в мир мёртвых
(продолжение)
– Я пробыла здесь так долго, так много лет, что другие гарпии забыли про меня.
Женщина раскрыла длинные складки своего плаща, и я увидела, что тело гарпии, покрытое коричневыми перьями, полностью вросло в землю. Теперь не осталось почти никакой разницы между перьями и листьями, её ног совсем не было видно. Она вырастала из грязи, как коренастое дерево.
Гарпия коротко рассмеялась и снова закрыла полы плаща.
– Я говорила, не стоит на это смотреть. Я была здесь так долго, что земля поднялась и приветствовала меня, и мы с ней подружились. Я питаюсь землёй, как куст, и странные корни этого места позаботятся о том, чтобы мне хватило времени для завершения погребальной песни. Плащ растёт будто листва, и моё лицо превратилось во что-то вроде коры. Но, даже не прекращая работы, когда грязь поднялась, чтобы выслушать мою юную погребальную песнь, я начала ощущать дуновение от других тел из пещеры, начальные ноты других погребальных песен, которые умоляли взрастить их. Я поняла – хоть и не сразу, ведь я говорила, что была далеко не лучшей ученицей? – где меня угораздило свить гнездо. Однажды меня прервали, когда я трудилась над погребальной песней девушки-лисы, и попросили разрешения войти в пещеру. Сначала я думала, что мне безразлично, кто и куда идёт, но потом, поняв истинную суть пещеры, которая представляет собой что-то вроде двери, решила, что будет справедливо взимать плату.
– Какую плату?
Гарпия ухмыльнулась.
– Есть только одна плата, которую принимают мёртвые: кровь. Это всегда кровь! Удоды, газелли, Звёзды. Пронзи свою грудь клювом и пролей кровь ради голодных.
Моя рука взметнулась к груди.
– Что там? Как выглядит Остров Мёртвых?
– Откуда мне знать? Я не умерла, а вросла в землю. Может, туда отправилось Небо, чтобы скрыться от своих детей? Или это его обратная сторона? А может, просто другой край с другими законами и обычаями? Никто не говорит Слезе, она просто хранительница врат.
– Тебя зовут Слеза?
– Я проливаю слёзы всю свою жизнь, но не ради себя. Это моё имя и моя суть.
Я вытащила нож из ножен, она – миску из теней. Я помедлила, а потом сделала надрез на коже своей спины и позволила соку течь в металлическую миску; он был золотым и густым, как желток. Слеза вскинула брови и широко улыбнулась, словно ребёнок, которому показали что-то новое. Она широко развела полы своего плаща, чтобы дать мне пройти. Войдя во тьму, я почувствовала, как её перья касаются раны.
Сказка о Переправе
(продолжение)
– Да, – выдохнул Семёрка. – Конечно, я мог дать Слезе только кровь. И мне она не рассказывала сказок. Я помню её лицо и миску. Но почему? – взмолился он. – Почему ты бросила меня? Я бы никогда тебя не бросил.
Темница посмотрела на него тусклым взглядом.
– Я украла лист, – просто сказала она, взяла Семёрку за руку и увела в глубь леса.
Плеск волн одинокого озера у пустынного берега растаял вдали.
Это был не городок. Не совсем деревня. И точно не город. Но там стояли дома – низкие, серые и лоснящиеся от затяжных дождей, будто давным-давно в них кто-то жил. В этой части острова было очень темно, но посреди слякоти виднелись искры света, напоминавшие Звёзды. Одна из них вращалась всё быстрее, пока не превратилась в женщину. Она была полна красок, любых, какие только мог дать лес; на неё было почти больно смотреть. Её кожа походила на кожу змеи, чешуйчатую, плотную и пронзительно-зелёную, с чёрными, синими и алыми разводами. Большая часть тела казалась по-змеиному волнистой и лишенной костей, а торс был длиннее и гибче, чем полагалось бы женщине. На ней было жёлтое полупрозрачное одеяние, которое колыхалось и скреплялось застёжками у пяток, но ничего в общем-то не скрывало, особенно её зелёную кожу, темневшую и блестевшую сквозь золотистую ткань. У неё были длинные волосы, чёрные, гладкие и блестящие как стекло. Браслеты на руках украшали сотни разновидностей агата. Глаза чёрные, словно дно колодца, а сине-чёрные пальцы – длинные и хваткие. Она сжимала ноги будто в отчаянной надежде, что они превратятся в хвост, но упрямые конечности оставались раздельными.

Под прозрачной одеждой выдавался зелёный живот, как бриллиант Вумимм, – женщина была беременна.
– Я принесла ей лист, – сказала Темница, словно это было объяснение, которого Семёрка не понял. – Лист Иммаколаты. Я танцевала её танец много лет, любила её и не хотела, чтобы она оставалась одна. Я была в долгу перед ней, перед ними обеими, должна была найти пещеру, озеро и отрезать хвост. Мы тут, вместе… в каком-то смысле счастливы.
– Я не одинока, – сказала женщина низким гортанным голосом, и из леса ей ответило эхо. – Мне не дали побыть одной.
Сказка про Лист и Змею
Я смотрела вниз из тьмы, туда, где свет держался за руки со светом. Помню первый обжигающий шаг с Небес – как же это больно! – и как я звала мать, пока падала. Они приняли меня в зелёные объятия; моё тело было сплошной раной, истекавшей светом, кожа висела лохмотьями, а кровь текла из коленных чашечек, локтей и затылка – из всех мест, что раньше объединяли дыру и небо. Я истекала кровью и плакала… Так было с каждым из нас. Мы хотели погрузиться в мир, но не знали, насколько это больно.
Змеи тоже были там: белые и чёрные, красные и золотые. Их оберегающие капюшоны, утешительные хвосты… Я смотрела на них, а они остановили кровь из моих ран своими маленькими ртами и согрели меня телами, которые впитали солнечный свет на плоских камнях; шипели и шёпотом пели песни. Я смотрела на них и хотела быть как они – так же двигаться, извиваться, шипеть и петь, переливаться цветами. Для меня они были самыми красивыми из всего, что мне довелось видеть после тьмы. Пока мой брат превращал себя в острогу, я удлинялась, тянулась, изгибала спину и свивалась в кольца, пока не стала длинным зелёным и улыбающимся кольцом. Впервые легко скользя в теле змеи, я ненароком сокрушила чайный куст с нежными лепестками и не заметила этого, как женщина, бегущая через лес, не замечает веточки, хрустнувшей под ногами.
Я не видела, как умерли Маникарника, но слышала их крик. Мы все его слышали. Я ускользнула прочь за холмы вместе с остальными… не хотела оставаться одна. Так много малых Звёзд увидели мои кольца и, восхищённые, обратились в мои подобия. Мы уединились вместе, ели воробьёв и мышей, глотали их целиком, или каплунов и мёд, как желали. Наши тела менялись со временем: мы были текучи как реки. И были не одни.

Я узнала его, когда он пришел. Конечно узнала! Даже Звёздам снятся сны. Этот мужчина мне снился давно, и я смотрела, как блестящая нить его жизни выплетается, пока не пересечется с моей, и искры летели от травы под моими ногами. Я смотрела на этого мужчину и думала: «О, мы причиним друг другу боль». Но у Звезды, видишь ли, только одна дорога, и неумолимую орбиту не изменить, как зайцу не укоротить собственные уши. Я видела, что его нить кнутом хлещет и щёлкает во тьме, однако не могла ничего сделать.
Мотылёк сказал мне, когда я умру.
Я была в своей комнате, и мои дети собрались вокруг, забавлялись с игрушечными и настоящими мечами, в зависимости от возраста, отдыхали; их кожа расслабленно мерцала зеленью – их отец оставил нас на день, и мы могли обратиться в змей, не прятать свои чешуйки. Мы были друг у друга, и никто не должен был нас беспокоить.
Я сидела у окна. Дул ветер с чайных полей, слегка отдававший сладостью и терпкостью. Сын подшивал подол моего платья, во рту у него было полно булавок. Дочери играли в чатурангу , и их плечи были тёплыми, как спинки гремучников, отдыхающих на солнце. Несколько моих мальчиков гонялись за белым котёнком, которого я раздобыла для них, и их глаза горели азартом и голодом. Мы были не одни, ни в коем случае! Я вытерла нос младшей и велела ей не высовывать свой беспокойный язык, розовый и раздвоенный. Этим и занимается мать. Ведь когда-то Небо вытирало наши носы и велело держать спины прямо; чернота нашей матери поощряла нас говорить увереннее, быть любопытными, смелыми и помогать друг другу, если любопытство подводило. Ведь она говорила нам, что любит и что мы никогда не будем одни.
Во тьме начала мира она говорила нам все эти вещи. А я говорила их своим детям, хотя слова часто застревали у меня в горле, и я не думала, что буду их говорить, когда ярко сияла возле своего брата, а не под щёлкающим кнутом – мужчиной, чьё дыхание доносило до меня страхи других женщин и в кого мой свет утекал, утекал и утекал. Я не желала детей. Они были негодной заменой того, что я утратила… Неужели Небо чувствовало то же самое? Может, мать потому нас и покинула? Но в тот день я смотрела на детей и понимала: они – часть меня, он прогрыз во мне дыры, и они горели так ярко! Из-за них я не ушла. Возможно, я не понимаю свою мать, но, думаю, не я одна испытывала подобные чувства.
Я сидела у окна; моя рука была зелёной, как лозы на подоконнике. Мотылёк опустился на мой указательный палец, лишённый ногтя и покрытый чешуйками. Его крылья были бледно-коричневыми, с кругами, похожими на следы, которые оставляют чашки на старой деревянной столешнице. В нём не было ничего необычного. Возможно, как и во мне. На миг он засиял драгоценным камнем на моём пальце, а затем повернул мохнатую голову и заговорил тихим шуршащим голосом, точно потирая друг о друга два сухих лепестка:
– Если ты меня не съешь, я кое-что расскажу.
– Зачем мне тебя есть, мотылёк?

Насекомое помолчало, его усики подёргивались.
– Ты очень большая змея. По крайней мере в каком-то смысле.
– А из тебя получилось бы очень маленькое блюдо.
– Благодарю…
Сказка про Птичьи Слёзы
Мы всё знаем благодаря птицам.
В Янтарь-Абаде жил мотылёк с крыльями жёлтыми, как волчьи глаза. Он выпил слёзы из глаза спящего ястреба-охотника. Слёзы были мутные и сладкие, точно молоко одуванчика.
В Мурине жил мотылёк с крыльями чёрными, как спина выдры. Он выпил слёзы из глаз спящего пеликана. Слёзы были синие и прозрачные, будто лёд на замёрзшей реке.
В Шадукиаме жила бабочка с крыльями словно расплавленное стекло. Она выпила слёзы из глаза спящего попугая. Слёзы были красные и блестящие, как розовые лепестки.
В Аджанабе жил мотылёк с крыльями серыми, как пыль на книжной обложке. Он выпил слёзы из глаза спящей майны. Слёзы были жёлтые, с частичками шафрановой пыли.
В Аль-а-Нуре жила бабочка с синими крыльями, на которых красовались белые разводы. Она выпила слёзы из глаза спящего лебедя. Слёзы были кровавые, тёмные и солёные, как то, к чему лучше не прикасаться.
Возле замка в центре Восьми королевств жил мотылёк с огромными крыльями, отбрасывавшими изящные тени. Он выпил слёзы из глаз спящей гусыни. Слёзы были серые и тягучие.
В Джиннистане жила стрекоза с чёрно-зелёным телом. Она выпила слёзы из глаза спящего алериона . Слёзы были острые, словно кончик зуба.
В Хоаке жил мотылёк с крыльями серыми, как пепел на ветру. Он выпил слёзы из глаза спящей белой куропатки. Слёзы были розовые и лёгкие, точно девичьи духи.
В городе Погребальных Песен жил очень маленький мотылёк с крыльями белее всех прочих. Он выпил слёзы из глаз спящего удода. Они были мягкими и гладкими, как детские волосы.
В Ирсиле жила бабочка без крыльев. Она из последних сил выпила слёзы из глаз спящего воробья. Слёзы были пряные и густые, и добра они ей не принесли.
В Каше жил мотылёк, чьи крылья горели и дымились. Он выпил слёзы спящего феникса, которые были раскалены добела, как ещё не рождённый меч.
В Уриме жил мотылёк с крыльями наподобие погребальных вуалей. Он прикрывал ими глаза мертвецов и выпил слёзы хладнокровного зимородка. Слёзы были красные, словно яблочная кожура, и синие, как лунный свет.
В Нахаре жил мотылёк с крыльями, похожими на церковный витраж, полными сияющего зелёного, красного и синего цвета. Он выпил слёзы из глаз спящей гагары. Слёзы были чёрные и густые, как эбеновое дерево.
И в Вараахасинде жил мотылёк с крыльями коричневыми, как у сотен других мотыльков. Он выпил слёзы из глаз спящего павлина. Слёзы были синие, зелёные и золотые, будто кожа змеи. Звали мотылька Фахад, и он, напившись слёз, прилетел к этому окну.
Что снится птицам, когда они так плачут? Мы бы спросили, но они склонны нас пожирать, а не беседовать. Потому мы порхаем над ликом мира, в каждом пыльном закоулке и ореоле вокруг лампы, пьём их скорбь и чувствуем их тоску во вкусе слёз. Яйца, что падают из гнезда и лежат на земле разбитые; ужасные потёки желтка на травинках; слишком мало семян зимой; соколы с хваткими когтями и слишком умная рыба… Ах! Мы знаем эти печали! Но иной раз чувствуем вкус других горестей. Понадобились все слёзы, о которых я сказал, и ещё больше, чтобы понять, в чём дело.
Мы принесли их в тысяче хоботков, точно собирая бриллиантовое ожерелье, в резервуар в центре Илинистана, города Насекомых, – об этом месте тебе не дозволено знать. Там есть пламя, не обжигающее крылья, и паутина, не рвущая их, и реки сахарной воды, текущие среди мшистых камней. Там в ульях собирают мёд ради развлечения и его золотого цвета, а не ради голодных человечьих ртов. Там муравьи могут отдыхать, потому что нам не угрожают холода, и в избытке сладостей.
Там так много цветов, моя госпожа, что ты и представить себе не можешь.
В центре Илинистана есть пень, который изнутри старательно выгрызли муравьи, жуки и термиты; его стены такие гладкие, что на них можно писать, как на хорошей бумаге. Но того, кто умеет писать, быстро сожрали бы оскорблённые пауки… Иногда те, кто пьёт слёзы, собираются там, чтобы понять птичью печаль, а самим птицам путь в Илинистан тоже заказан. И вот мы позволили слезам упасть туда, одна за другой, синяя за белой, красная за зелёной и жёлтой, пока резервуар не наполнился до краёв. Вглядевшись в него, мы увидели облик той, кого оплакивали птицы.
Там, госпожа моя, звезда моя, потерянная и одинокая, я увидел твоё лицо и узнал, что твоя дорога ведёт под землю, где обитают лишь черви. В бледный и слепой город, который они зовут своим и куда мне путь заказан.
Сказка про Лист и Змею
(продолжение)
Мотылёк уставился на меня:
– Ты не плачешь, госпожа? Тебе всё равно?
– Мне интереснее узнать, друг Фахад, что это за место, куда мне путь заказан?
– Он придёт за тобой этим вечером, сегодня же.
– И увидит, что мы надели лучшие наряды, как подобает детям, ждущим отца, и жене, что ждёт мужа.
Я очень осторожно коснулась крыльев мотылька и погладила его нежный пух.
– Звёзды сгорают, мотылёк…
Ты точно знаешь эту историю, танцевала её, или пела, или слышала, когда мать держала тебя у груди. Я теперь стала обычной, и все говорят за меня.
Я не сгорела. О мать, отчего ты мне не позволила? Ты бы смогла пришить меня на прежнее место, как если бы там никогда не было дыры, и я бы забыла, что испытала, когда отрывалась от тебя, когда дети отрывались от меня, когда мой свет ночь за ночью выпивал мужской рот. Я бы забыла, как выглядели мои дети, превращаясь в ничто. И как выглядела я.
Я не сгорела, а оказалась на берегу озера, где в конце концов, наверное, оказываются все. Там был жалкий маленький причал в облупившейся краске, и отлив, пенящаяся серая вода и песочники, охотившиеся на блох. Интересно, как выглядят песчаные блохи? Я шла вдоль берега, и мои локти намокли. Я была чем-то средним между женщиной и змеёй, моё тело застыло на середине превращения из одного в другое. Неужели мать хотела сказать, что мне стоило быть решительнее? Я уже говорила, что не понимаю её. Вероятно, она вообще не имела к этому отношения. Я шла по берегу и видела, как приближается паромщик, видела его плот, и бесполезную мачту, и шест. Когда он причалил, я шагнула вперёд, чтобы ступить на плот.
Но воздух вокруг меня сделался густым, точно сливки, и чьи-то руки упёрлись мне в грудь, толкнули назад. В тумане я видела расплывающиеся лица моих девочек, моих любимых Звёздочек; их красивые глаза поджигали воздух. Они протянули ко мне руки, и я взяла их, как делала раньше. Они были холодными, но у женщин часто холодные руки. Случалось, я дышала на них, растирала докрасна. Они не позволили мне уйти, открыли рты, и я увидела, что у них вырезаны языки. Они давили на меня разом, и я застыла.
И ещё я видела двух – у одной не было глаз, у другой – ушей, и они кричали громче остальных, толкали и плакали. Их скорбные крики были словно камни, которые бросают вслед нежеланному ребёнку. Они оттолкнули меня от берега, паромщик наблюдал, не вмешиваясь. Они толкали меня прочь, к влажным зелёным джунглям и красным башням.
Я открыла сто сорок пять пар глаз.
Они вытолкнули меня в те тела, что съели меня, обсосали мои кости и ещё содержали меня в своих внутренностях. Было странно двигать ста сорока пятью парами рук. Они, будто колесо, вертелись вокруг меня, я не могла их остановить. Смотрела своими глазами в свои же глаза, была внутри каждого из них и всё время чувствовала вонь хряка, постоянно. Они проглотили меня, и я была внутри них, как дитя. В центре каждого из них, под сердцем и визжащими лёгкими, голодным брюхом свиньи было маленькое белое лезвие свиного зуба. Только у моего мужа такого не было; от него я не смогла бы вынести ни запаха, ни звука, ни прикосновения.
Остальные были туманным лабиринтом из хряков и мужчин. Я скользила по нему, отсвечивая зелёным в их ошпаренной гнойной розовой плоти.
«Я устал», – сказал зуб вепря.
«Мне тебя жаль», – сказала я.
«Я просто был голоден. Не хотел пожирать всех дев, юношей и лошадей. Но я был очень голоден. Какого зверя можно обвинить в том, что он голоден? Только меня. Он разделал меня на завтрак и вытащил из меня всех этих тварей. Теперь я ещё голоднее, ем за ста сорока пятерых, моё брюхо урчит в ста сорока пяти телах, и я устал».
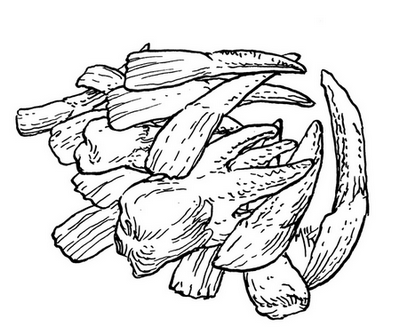
«Мне тебя жаль, – сказала я в глубине этих ста сорока пяти. – Он и меня разделал как ужин и вытащил из меня детей. Я тоже устала».
«Если бы я снова стал собой, я бы сожрал его и насытился».
«Хочешь, я тебе помогу?»
«Да. О да!»
Ты точно знаешь эту историю, танцевала её, или пела, или слышала, когда мать держала тебя у груди. Обо мне теперь говорит каждый, прямо как тогда.
Мой брат позаботился о моём теле. Оно где-то в пещере, по-моему… Иногда я слышу запах падающей воды и старых камней: даже сейчас. Я снова пришла к озеру, и на этот раз никто не упёрся ладонью в мою грудь, не зарыдал над моим ухом. Вокруг было пусто, лишь ветер ласкал камни. Никто за мной не пришел, я была одна. Причал покрасили. Песочники разжирели. Мои волосы на этот раз были мокрые, словно я только что покинула утробу или искупалась в слезах. Я долго ждала, и вот паром пришел, волоча за собой шлейф ряби на тёмной воде.
Я попала на Остров, в то место, что не город, не посёлок и не деревня. Я пряталась в серых домах, мне было холодно и одиноко. Я не испытывала ни облегчения, ни тяжести. По крайней мере его со мной не было, и я смотрела лишь своими глазами, а не ста сорока пятью парами глаз. Я звала мать, но она не ответила. Я звала детей, но и они не ответили… Хотя кто-то тихонько поскрёбся в ветхую дверь.
Я открыла её – моя рука была такой яркой на сером фоне. Не знаю, чего я ждала, но увидела молодую женщину, чьё тело было покрыто алмазами так плотно, что не просвечивало ни клочка кожи, ни пятнышка розового или коричневого цвета – одни драгоценные камни. Её волосы были рекой льда. Вокруг неё плясали четырнадцать безликих огоньков, как четырнадцать свечей, зажжённых в часовне.
– Прости, – сказала девушка-алмаз. Её голос был мне знаком, хотя раньше я его не слышала. – Понимаешь, они так и не выросли. Хотели тебя разыскать, их тянет к тебе, мать-мотылёк. Они ничего не понимают и даже не говорят. Они просто свет, который знает, что раньше был чем-то ещё, но очень плохо помнит. Но ты их позвала, а я привела. Они и впрямь хотели прийти.
Мои дети окружили меня сияющим кольцом, а маленькая Алмаз, яркая, словно полыхающий погребальный костёр, младшая из Маникарника, обняла меня.
Мало кому из нас случалось умереть, и это место пустынное и одинокое. Но мы все вместе, и некое отражение нашего былого света витает вокруг, точно отражение лампы на поверхности воды. Мои девочки здесь, Травяные змейки и Медноголовые, Кобры и Звёзды, мои любимые оракулы. Мы гуляем вместе, как прежде, в нашем маленьком монастыре. Я никогда не буду одна.
– Кто построил эти дома? – спросила я однажды у Алмаз. Она покачала головой.
– Они уже были здесь. Откуда нам знать, кто их построил? Я думаю… – Она покраснела, и алмазы на её лице на миг превратились в рубины. – Я думаю, их для нас построил Идиллия. Ведь бывают дни, когда никто не умирает.
Я хотела бы сказать, что время шло, но не уверена. Я хотела бы сказать, что в один день повстречала среди берёз двух молодых мужчин. Но что такое день? И что такое ночь? Здесь всегда темно, и это благо, потому что темнота напоминает о небесной колыбели. Всё, что я могу сказать, – однажды это случилось, где-то среди белых деревьев, во тьме. Двое шли, держась за руки. Они оба сияли, как я, но я их не знала. Кожа у них была красная, с чёткими узорами, как на древесине, и, когда мы приветственно коснулись друг друга, их пальцы оказались жёсткими, будто доски плота. На их совершенно одинаковых телах была потрёпанная моряцкая одежда, а глаза были тёплыми, как древесина, и с лёгкими морщинами в уголках… Или, может, такие рисунки были у них на коже. На одинаковые лбы падали красноватые волосы, похожие на волокнистую кору.
– Мы Итто, – сказали они в унисон. Один голос был низким, другой – высоким, детским, но различались они только этим. – Раньше мы были Двойной Звездой, и здесь нам суждено быть парой. Это не кажется нам неприятным.
Они всегда говорили хором, и мне лишь первое время это казалось странным. Его превратили в близнецов, как меня – в мою полузмеиную сущность; их кожа сделалась цвета их плота. Они рассказали мне про свой плот и утраченный мир. Мы заблудшие, потерянные, и всё же самые слабые из нас поддерживают самых маленьких, когда те плачут. Я рассказала им историю о своём муже и детях, которые по-прежнему следовали за мной, как сбитые с толку болотные огоньки. Два молодых человека посмотрели на меня огорчёнными покорными глазами, будто ждали чего-то подобного, и протянули ко мне четыре руки. Я не понимала, чего они хотят. Рассказала им о мужах-вепрях и о том, как звучал голос зуба вепря, как женщины остановили меня на берегу. Они заключили меня в древесные объятия на земле в лесу, и я лежала рядом с ними, напряжённая. Я не плакала – змеи не плачут, – но я была благодарна им, их кругу рук и тому, что они не искали меня специально, чтобы показать свою любовь и убедиться, что я не одна; чтобы продемонстрировать мне свою нездоровую страсть и потревожить меня во тьме. Я расслабилась, и они стали гладить мои волосы. Я рассказала им, что лишь однажды осталась совсем одна – когда попала на берег озера во второй раз, и никто не пришёл за мной.
Мои дети лежали кольцом вокруг нас, как неразумные светящиеся грибы.
– Я не плот, – сказала я, и близнецы рассмеялись.
– Мы не король, – ответили они.
Было трудно их разделить, когда они молчали, а молчали они почти всегда. Один из них стал моим любовником: его глубокий голос порождал эхо в моих костях. Другой был жёстче, больше взял от плота; он просто был добр ко мне, его мальчишеский голос звучал редко и высоко. Он помогал мне линять, и однажды, когда над Островом взошло нечто, похожее на луну, пришел ко мне, порезавшись о дверную петлю, и коснулся моих губ пальцем, испачканным в свете. Вкус у него был – соль и дерево. Другой близнец всегда находился со мной; его поцелуи были красными, сухими и нежными. Со вкусом моря. Мы гуляли по лесу, и иногда на ветвях появлялись красные фрукты, будто посланцы какой-нибудь далёкой весны; мы поедали их вместе. Я не была одна. Я не одна! Кому вообще могло прийти в голову, что я когда-нибудь окажусь в одиночестве?
Но пришла девочка с кровавым обрубком вместо хвоста и начала говорить мне, какая я одинокая, и просительно глядела огромными глазами, сжимая в руке лист. Я мгновенно его узнала – видела его в женщине из чая, отдалённом потомке тех листьев, которые я сокрушила сразу после своего падения. Она принесла лист мне, будто он должен был вернуть мой свет, словно это кукла, которую ребёнок давным-давно выбросил: без глаза и с рукой, из которой вылезла набивка. Я приложила лист к своей коже, и он растаял, вернулся в меня. Больше я о нём не думала. А девочке предложила свой дом и красные фрукты, хотя она, неблагодарная, не стала их есть. Но, может, что-то он значил, потому что лишь после этого случая мой живот стал расти.
Не знаю, был ли тому причиной свет одного из близнецов, поцелуй другого, сам лист или девочка, что принесла его, но я снова жду ребёнка. Может, из-за всего сразу. Может, они вообще ни при чём. Но я не одна, даже внутри самой себя.
Сказка о Переправе
(продолжение)
– Как здесь такое вообще могло случиться? – воскликнула Серпентина, обхватив живот руками. – Что я произведу на свет? Кто может родиться от мёртвой матери и мёртвого отца у мёртвых повитух?
Темница пристыженно опустила глаза. По её щекам текли горячие слёзы, от которых в воздух подымался пар. Она уныло покосилась на Семёрку и сказала:
– Прости. Я хотела спасти тебя. И её, чайную девушку. Я была совсем глупая…
Лицо Серпентины смягчилось, на щеках заиграли зелёные блики.
– О, я тебя не виню, бедняжка! Ты ведь тоже заблудилась. Как я могу сдержаться и не подразнить тебя за огромные голодные глаза и все те вещи, что ты сказала, когда пришла сюда, сжимая свой листочек? Но отчего ты не ешь за моим столом?
Змея-Звезда придвинулась к хульдре и взяла её лицо в свои руки.
Темница рассмеялась и вытерла слёзы.
– Любой, кто в жизни прочёл хотя бы одну книгу, знает, что нельзя есть то, что предлагают мертвецы, – ответила она.
Две женщины ненадолго обнялись, словно не хотели смущать своего гостя. Семёрка подумал о том, сколько всего Темница видела и сделала без него, обладателя пустого рукава.
– Почему они так любят тебя? – требовательно спросил он. Женщины вздрогнули, будто испугавшись его тусклого голоса. – Отчего все бросаются к тебе, умоляя их поймать? Иммаколата, Темница… Они от всего отказались ради тебя!
Серпентина посмотрела на склонённую голову Темницы.
– Не знаю! – прошипела она. – Откуда мне знать, что вами движет? Вы глядите на нас и называете богами; приносите в жертву на алтарях седьмых сыновей, о которых мы ничего не знаем, и строите башни, о которых вас не просили. А другой рукой убиваете нас и говорите, что та древесина слишком хороша для таких, как мы, и насилуете, пока ноги не треснут. Как я могла поверить, что кто-то из вас не желает нас изувечить? Но, если эти немногие бросаются ко мне, разве я могу сделать что-то ещё, кроме как поймать их? Кто это сделает, если не я? Если я отвернусь от них, словно от нехороших деток, которые не должны беспокоить старших, что будет?
– Но они не твои дети, чтобы их ловить!
– Скажи это им. А потом скажи мне, чтобы я отвернулась от девочки, ради меня отрезавшей часть своего тела. Скажи, что ей не рады, что сестёр и так много, места ещё для одной нет.
Семёрка повернулся к своей подруге и бросил на неё взгляд, полный мольбы и покорности.
– Разве я был плохим братом?
Темница пристально посмотрела на него.
– Есть вещи, с которыми ничего нельзя поделать, – резко проговорила она. – Ты бросил Тальо и Гроттески без единого сожаления. Разве они были плохой семьёй? Ты вообще о них думал – о том, как они по тебе скучают и что хотели бы, чтобы ты остался? Не добрались ли они уже до Аджанаба? Не вошли ли в его врата? И не поёт ли прямо сейчас Гроттески под окном с запертыми ставнями?
Семёрка ничего не ответил.
– Тогда не спрашивай, думала ли я о тебе, – подытожила она.

