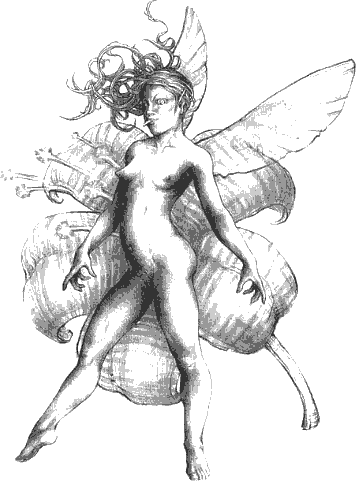Глава 18
И когда он только миновал пустыню, добрался до Мертвого моря и вернулся к возделанной земле и густо пропитанному человеческим дыханием воздуху?! Он не шел — разве были у него силы для этого? Незримые длани несли его, подхватив под руки. Редкое облако, появившееся было в пустыне, сгустилось, потемнело, закрыло небо, раздался гром, и упали первые капли дождя. Земля помрачнела, дорога исчезла. С разверзшегося неба вдруг хлынули потоки. Иисус сложил вместе ладони, набрал в них воды, напился. Он остановился. Куда идти? Молнии разрывали небо. На какое-то мгновение лик земной озарился, становясь то голубым, то желтым, то совсем бледным, и тут же снова погрузился во мрак. В какой стороне лежал Иерусалим? В какой стороне был Иоанн Креститель? Где были товарищи, оставшиеся ожидать его в зарослях речного камыша?
— Боже, — прошептал Иисус. — Просвети меня. Блесни молнией, укажи мне путь!
И лишь только он произнес эти слова, молния рассекла прямо перед ним небо. Бог подал ему знак, и он уверенно направился в сторону молнии.
Шел проливной дождь. Мужские воды низвергались с неба, устремлялись вниз и соединялись с женскими водами земли — реками и озерами. Земля, небо, дождь стали единым целым и гнали его, направляя к людям. Он шлепал по грязи, путаясь в низкорослых растениях, спускался в ямы, поднимался наверх. В свете молнии он разглядел вверху над собой густо покрытое плодами гранатовое дерево, протянул руку, сорвал гранат, наполнил ладонь рубинами и освежил горло. Он сорвал еще один плод, затем еще один, поел и благословил руку, посадившую дерево.
Плоть его окрепла, он снова двинулся в путь. Он все шел и шел. Было ли это днем или ночью? Все было покрыто мраком. Ноги устали месить грязь — казалось, будто они поднимали и несли с собой всю землю.
Вдруг при вспышке молнии он разглядел прямо перед собой стоявшую на высоком холме крохотную деревушку. Молнии то ярко озаряли белые дома, то снова погружали их в темноту. Сердце Иисуса радостно забилось: там, внутри домов, находились люди, его братья и сестры. Ему захотелось коснуться человеческой руки, вдохнуть воздуха, которым дышат люди, съесть хлеба, выпить вина, поговорить с ними. Сколько лет он так упорно стремился к одиночеству, бродил по полям и горам, разговаривал с птицами и дикими зверями, избегая людей. А сейчас… Какое это счастье — коснуться руки человеческой!
Иисус ускорил шаг, добрался до каменистого подъема, почувствовал прилив сил, потому как знал теперь, куда идти, куда ведет путь, указанный Богом. Пока он поднимался, тучи чуть разошлись, показался кусочек неба, и выглянуло солнце, уже клонившееся к закату. Стало слышно пение петухов, лай собак и пронзительные женские крики, доносившиеся с плоских кровель. Над крышами поднимался голубой дым, пахло горящими дровами.
— Благословен да будет род людской… — прошептал Иисус, проходя мимо первых домов и слыша, как там, внутри, переговариваются люди.
Камни, вода, дома — все блестело. Не блестело, а смеялось. Томимая жаждой земля напилась, исчезнувшее солнце возвратилось вновь. Люди и животные испугались было разразившегося потопа, но тучи стали рассеиваться, показалось густо-синее небо, и сердца их снова обрели покой.
Промокший до нитки, но счастливый Иисус шел по шумным узким улочкам. Показалась молоденькая девушка, которая тянула на пастбище белую козу с огромным выменем.
— Скажи, девушка, как называется ваша деревня? — спросил, улыбнувшись, Иисус.
— Вифания.
— Не посоветуешь ли, в какой дом попроситься на ночлег? Я нездешний.
— Входи в любую открытую дверь! — ответила девушка и засмеялась.
«Входи в любую открытую дверь! Добрые сердца у здешних сельчан, здесь рады гостям», — подумал Иисус, ища открытую дверь.
Деревенские улочки превратились в реки, и только самые крупные камни поднимались из воды, так что пришлось продвигаться вперед, перепрыгивая с камня на камень. Двери домов были заперты и совсем черны от дождя. Он свернул в первый переулок и увидел распахнутую настежь низкую, закругленную сверху дверь, выкрашенную в лиловый цвет. Коренастая девушка с крупным подбородком и полными губами стояла посреди двора, придерживая за край передник, наполненный кормом, который она широким взмахом руки разбрасывала курам. Внутри тускло освещенного дома было видно другую девушку, которая работала, сидя за ткацким станком и напевая протяжную песню.
Иисус подошел ближе, остановился на пороге и поздоровался, приложив руку к сердцу.
— Я пришел издалека, из Галилеи, — сказал он. — Я озяб и проголодался, мне негде приклонить голову на ночлег. Я — добрый человек, позвольте мне переночевать в вашем доме. Дверь была открыта, вот я и вошел. Простите меня.
Девушка обернулась, все так же сжимая в пригоршне корм, спокойно смерила его взглядом с головы до ног и улыбнулась:
— Мы рады тебе, добро пожаловать!
Ткачиха оторвалась от станка, вышла во двор. Она была бледная, тонкой кости, с черными косами, уложенными венком вокруг головы, с большими, бархатистыми, печальными глазами, а вокруг ее худой шеи обвивалось ожерелье из бирюзы — от сглаза. Она глянула на гостя и покраснела.
— Мы остались в доме одни. Брат наш Лазарь отправился на Иордан принимать крещение.
— Ну, и что из того, что мы одни? — сказала другая девушка. — Не съест же он нас. Проходи в дом, добрый человек, не слушай ее — она трусиха. Сейчас мы позовем односельчан, чтобы тебе не было скучно, придут и старейшины — порасспросить тебя, кто ты, куда путь держишь и что нового можешь рассказать нам. Проходи в наше жилище. Что это с тобой? Тебе холодно?
— Я промерз, голоден и хочу спать, — ответил Иисус, переступая через порог.
— Сейчас пройдет и одно, и другое, и третье — не печалься, — сказала девушка. — Меня, между прочим, зовут Марфой, а сестру мою — Марией. А тебя?
— Иисус из Назарета.
— Так ты добрый человек? — насмешливо спросила Марфа и засмеялась.
— Добрый, — серьезно ответил Иисус. — Добрый, насколько это в моих силах, сестра моя Марфа.
Он вошел в хижину. Мария зажгла светильник, укрепила его на подставке и осветила дом. Выбеленные известью стены отличались совершенной чистотой, у одной из них стояла длинная деревянная лежанка с постелью и подушками, пара резных сундуков кипарисового дерева, несколько скамеек, в одном углу — станок, в другом — глиняные кадки для зерна и оливкового масла, сразу у входа, справа — кувшин со свежей водой на стойке, а рядом свисало с деревянного гвоздя длинное льняное полотенце. В доме пахло кипарисовым деревом и айвой. В глубине находился широкий очаг, вокруг которого было развешено все, что необходимо для стряпни.
— Сейчас я разведу огонь. Присаживайся, обсохнешь, — сказала Марфа, поставила у очага скамью, а затем проворно выскочила во двор и принесла охапку виноградной лозы, лавровых веток и два толстых масличных пня. Присев на корточки, она сложила дрова кучей и разожгла огонь.
Иисус стоял на коленях, согнувшись и обхватив голову руками, и смотрел.
«Как священно это таинство, когда складывают дрова и зажигают огонь, чтобы в холод пришел он и, словно милосердная сестра, согрел тело! — подумал он. — А если ты еще голодный и усталый вступаешь в чужой дом и две незнакомые сестры выходят навстречу утешить тебя!» На глазах у него выступили слезы.
Марфа встала, пошла в кладовую, принесла хлеба, маслин, меду, медную кружку с вином и поставила все это у ног гостя.
— Перекуси, и настроение поднимется. Сейчас я приготовлю еду. Поешь горячего и придешь в себя. Видать, ты явился издалека.
— С другого конца света, — ответил Иисус, с жадностью набрасываясь на хлеб, маслины и мед.
Какое чудо, какое счастье, что Бог посылает все это людям щедрой рукой! Иисус с наслаждением ел, благословляя Господа.
А Мария стояла подле светильника и молча смотрела то на огонь, то на нежданного гостя, то на сестру, у которой словно крылья выросли от радости, что в доме у них мужчина, которому можно прислуживать.
Иисус поднял медную кружку, посмотрел на сестер и сказал:
— Марфа и Мария, сестры мои, вы, наверное, слышали, что, когда во времена Ноя случился потоп, почти все люди, грешники, утонули, однако очень немногие, избранные, вошли в Ковчег и спаслись. Мария и Марфа, клянусь вам: если снова случится потоп, который будет отдан во власть мою, я позову вас, сестры мои, войти в новый Ковчег, ибо сегодня вечером пришел к вам неизвестный гость, босой и оборванный, а вы развели огонь и согрели его, дали ему хлеба и утолили голод его, сказали ему доброе слово — и Царство Небесное снизошло в сердце его. Пью за ваше здоровье, сестры мои, будьте счастливы!
Мария подошла к Иисусу и села у его ног.
— Слушаю тебя, гость, и все не могу насытиться словами твоими, — сказала она, зардевшись. — Говори.
Марфа поставила горшок, накрыла стол, принесла воды из стоявшего во дворе колодца, а затем послала соседского мальчугана сообщить трем сельским старостам, чтобы те пожаловали, если им угодно, к ней в дом, потому как пришел гость издалека.
— Говори, — снова сказала Мария, поскольку Иисус хранил молчание.
— Что ты хочешь услышать, Мария? — спросил Иисус, коснувшись ее черных кос. — Благословенно молчание, ибо оно говорит все.
— Молчание не удовлетворит женщину, — сказала Мария. — Ей, горемычной, хочется еще и доброго слова…
— Доброе слово тоже не удовлетворит женщину, даже и не думай! — живо отозвалась Марфа, подливавшая масло в светильник, чтобы его хватило на весь вечер, когда придут для серьезного разговора старцы. — Доброе слово тоже не удовлетворит горемычную женщину: ей нужен мужчина, чтобы дом чувствовал тяжесть его шагов. Ей нужен младенец, который будет сосать молоко, облегчая ее тяжелую грудь… Женщине нужно много, Иисусе из Галилеи, много, но откуда вам, мужчинам, знать это!
Марфа попробовала засмеяться, но не смогла: ей было тридцать лет, а она все еще не вышла замуж.
Наступило молчание. Было слышно, как огонь пожирает масличные пни и лижет кипящий глиняный горшок. Все трое смотрели на пламя. Наконец Мария сказала:
— Чего только не передумает женщина, сидя у ткацкого станка! Если бы ты знал это, то пожалел бы Женщину, Иисусе Назаретянин!
— Я знаю это, — с улыбкой ответил Иисус. — Когда-то, в другой жизни, я был женщиной и сидел у ткацкого станка.
— И о чем же ты думал?
— О Боге, и больше ни о чем, Мария. О Боге. А ты?
Мария не ответила, но грудь ее вздымалась. Слушая их разговор, Марфа что-то бормотала, вздыхала, но сдерживалась и молчала. Наконец она не выдержала.
— И Мария, и я, — сказала Марфа, и голос ее прозвучал жестко, — и Мария, и я, и все незамужние женщины во всем мире думают о Боге, но только запомни: они видят его мужчиной у себя на коленях.
Иисус опустил голову и молчал. Марфа сняла горшок. Ужин был готов, и она пошла в кладовую за глиняными мисками.
— Открою тебе, что как-то пришло мне в голову, когда я ткала, — сказала Мария тихо, чтобы не услышала в кладовой сестра. — В тот день я тоже думала о Боге и сказала: «Боже, если ты когда-нибудь соблаговолишь войти в наш бедный дом, ты будешь в нем хозяином, а мы — гостьями». И вот теперь…
Что-то стиснуло ее горло, она умолкла.
— И вот теперь? — переспросил внимательно слушавший Иисус. Появилась Марфа с мисками в руках.
— Ничего… — прошептала Мария и встала.
— Садитесь, поедим, — сказала Марфа, — пока не пришли старцы, а то еще застанут нас за едой.
Все трое стали на колени, Иисус взял хлеб, поднял его высоко вверх и произнес молитву с такой теплотой и страстью, что сестры изумленно повернулись и, взглянув на него, пришли в ужас: лицо Иисуса сияло, а в воздухе у него за головой стояло огненное мерцание. Мария простерла руку и воскликнула:
— Господи, ты здесь хозяин, а мы гостьи. Приказывай!
Иисус опустил голову, чтобы сестры не видели его смятения: это был первый возглас, первая душа, узнавшая его.
Они поднялись из-за стола в тот самый миг, когда в дверях появилась чья-то тень и на пороге показался старец огромного роста, с ниспадающей волнами бородой, широкой кости, с руками, на которых вздымались узлами мышцы, с грудью, словно густой лес, покрытой шерстью, как у барана, ведущего за собой стадо. В руках у него был широкий посох выше его собственного роста — посох служил ему не для опоры, но чтобы бить людей, наводя порядок.
— Добро пожаловать в наш убогий дом, почтенный Мельхиседек, — с поклоном приветствовали его девушки.
Он прошел внутрь, и на пороге показался другой почтенного возраста старец — худощавый, с вытянутой лошадиной головой и беззубым ртом. Его маленькие глазки метали огонь, долго выдержать их взгляд было невозможно. Говорят, змея хранит яд в глазах, у этого же старика в глазах был огонь, а за огнем — изворотливый, зловредный ум.
Девушки с поклоном приветствовали его, после чего он также прошел внутрь. За ним показался третий старец — слепой, приземистый, с тучными телесами. Он ощупывал дорогу посохом, который заменял ему глаза и безошибочно направлял его стопы. Это был добродушный весельчак. Когда приходилось вершить суд над односельчанами, сердце не позволяло ему причинить боль кому бы то ни было. «Я не Бог, — говорил он. — Судящий сам будет судим, и потому помиритесь, друзья мои, чтобы мне не пришлось страдать из-за вас на том свете!» Случалось, он платил из собственного кошеля, случалось, сам отправлялся в тюрьму, чтобы спасти виновного. Одни считали его сумасшедшим, другие — святым, а почтенный Мельхиседек видеть его не мог, но что поделаешь — это был самый состоятельный хозяин во всем селении и потомок жреческого рода Аарона.
— Марфа, — сказал Мельхиседек, посох которого касался потолочных балок, — Марфа, кто этот чужак, пришедший в наше селение?
Иисус поднялся из угла, где он неприметно сидел у пылающего очага.
— Так это ты? — спросил старец, смерив его взглядом с головы до ног.
— Я, — ответил Иисус. — Я из Назарета.
— Стало быть, галилеянин? — язвительно прошамкал второй старец. — Писания гласят, что из Назарета не бывает ничего путного.
— Будь с ним поласковей, почтенный Самуил, — сразу же вмешался слепой. — Правда, галилеяне глуповаты, пустозвоны и не умеют себя вести как следует, но они добрые люди. И наш сегодняшний гость тоже добрый человек. Я понял это по его голосу.
Он повернулся к Иисусу и сказал:
— Добро пожаловать, сынок.
— Ты коробейник? — спросил почтенный Мельхиседек. — Что ты продаешь?
Пока старцы говорили, в открытую дверь вошли сельские богачи, добрые хозяева. Узнав, что в селение пришел гость, они принарядились и отправились приветствовать его, узнать, откуда он, послушать, что говорит, и за разговором скоротать время. Итак, они вошли и опустились на колени позади трех старцев.
— Ничего не продаю, — ответил Иисус. — В моих краях я был плотником, но затем оставил работу, ушел из материнского дома и живу, повинуясь Богу.
— Ты хорошо сделал, сынок, избавившись от людей. Только имей в виду, злополучный, — ты связался с недобрым дьяволом — с Богом. От него-то как избавишься? — сказал слепой и засмеялся.
Услыхав эти слова, почтенный Мельхиседек вскипел от злости, но промолчал.
— Ты что ж это — монах? — издевательски прошипел второй старец. — Стало быть, ты тоже левит, зилот, лжепророк?
— Нет. Нет, старче, — печально ответил Иисус. — Нет. Нет.
— Так кто же ты тогда?
Тут вошли женщины, принарядившиеся, чтобы и на гостя посмотреть, и себя показать. Каков он? Старый? Молодой? Красивый? Что продает? А может, чего доброго, это жених объявился у засидевшихся в девах Марфы и Марии? Пора уже, чтобы их приласкал мужчина, а то с ума свихнутся, бедняжки. Пойдем, поглядим. Они принарядились, пришли и стали в ряд за мужчинами.
— Так кто же ты? — снова спросил язвительный старец. Иисус вытянул ладони к огню. Неожиданно его охватил озноб. Одежда на нем все еще была влажной и испускала пар. Некоторое время он молчал. «Благословенно да будет мгновение сие, — подумал он. — Заговорю, открою этим мужчинам и женщинам, пропадающим среди тщетной суеты, слово, доверенное мне Богом, и разбужу спящего в них Бога. Что я продаю? «Царство Небесное, — отвечу я им, — спасение души и жизнь вечную». Так пусть же отдадут все, что имеют и чего не имеют, чтобы обрести эту Великую Жемчужину».
Бросив быстрый взгляд, он разглядел в свете светильника и в отблесках огня окружавшие его лица — хищные, лукавые, огрубевшие от ничтожных, пожирающих человека тревог, покрывшиеся морщинами от страха. Ему стало жаль эти лица. Он попытался встать и заговорить, но невероятно устал в тот вечер после многих ночей, которые провел вне человеческого жилья, не давая голове отдохнуть на подушке. Его клонило в сон. Он прислонился к закопченной стене и закрыл глаза.
— Он выбился из сил, — отважилась тогда сказать Мария, умоляюще посмотрев на старцев. — Он выбился из сил, старейшины, не мучайте его…
— Верно! — прорычал Мельхиседек и оперся о посох, собираясь встать и уйти. — Верно говоришь, Мария. Мы разговариваем с ним так, словно собрались судить его, забывая при этом, — это ты забываешь, почтенный Самуил, — обратился он к второму старцу, — что ангелы часто спускаются на землю в образе нищих — в жалком рубище, босые, без посоха, без мешка, как этот вот. Поэтому не следует забываться и обращаться с гостем надо так, как если бы он был ангелом. Этого требует благоразумие.
— Этого же требует сумасбродство, — снова, посмеиваясь, заметил слепой. — Вот и я говорю: не только в госте, но и в каждом человеке следует видеть ангела. Да! В том числе и в почтенном Самуиле!
Злюка вскипел от гнева и уже открыл было рот, но сдержался. «Этот негодный слепец богат, — подумал он. — Не исключено, что когда-нибудь придется обратиться к нему за помощью, так что лучше притвориться глухим. Вот что говорит благоразумие».
Свет огня мягко падал сверху на волосы, усталое лицо и открытую грудь Иисуса, бросая голубые отблески на его курчавую цвета воронова крыла бороду.
— Ах, как он мил, — перешептывались между собой женщины. — Ну и что из того, что он беден? Ты видела его глаза? За всю свою жизнь я не видела глаз красивее. Даже у моего мужа, когда он ласкает меня.
— А я не видела более диких глаз, — заметила другая. — Страх и ужас. Хочется бросить все и уйти в горы.
— Ты обратила внимание, как Марфа пожирает его взглядом? Сегодня ночью несчастная сойдет с ума.
— Но он-то тайком поглядывал на Марию, — возразила еще одна женщина.
— Подерутся из-за него сестры, запомните мои слова. Мы живем по соседству, так что придется еще наслышаться их голосов.
— Пошли! — приказал Мельхиседек. — Зря мы утруждались и шли сюда — гость падает с ног от усталости. Поднимайтесь-ка, старцы, пошли?
И он вытянул вперед посох, раздвигая мужчин и женщин, чтобы те дали ему дорогу.
Но когда он уже встал на пороге, со двора донесся шум торопливых шагов, и какой-то бледный, запыхавшийся человек стремительно вошел в дом и рухнул прямо у огня. Испуганные сестры бросились обнимать его, восклицая:
— Что с тобой, брат?! Кто гонится за тобой?
Первый старейшина задержался, прикоснулся к новоприбывшему посохом и сказал:
— Лазаре, сыне Манахима, если ты явился с плохой вестью, сообщи ее нам, но сперва пусть женщины выйдут и останутся одни мужчины.
— Царь схватил Иоанна Крестителя и отрубил ему голову! — на одном дыхании воскликнул Лазарь.
Он встал, дрожа всем телом. Лицо его было бледным, землистого цвета, щеки обвисли на нем крупными складками, а выцветшие зеленые глаза блестели в отблесках огня, словно у дикого кота.
— Все-таки вечер не пропал зря, — довольно сказал слепой. — С утра, когда мы проснулись, и до этого часа, когда мы отправляемся на покой, все-таки произошло кое-что, приведшее мир в движение. Давайте присядем на скамьи и послушаем. Люблю новости, даже если они и недобрые. Скажи на милость, молодец, — обратился он к Лазарю, — когда, как и почему свершилась эта беда? Расскажи все по порядку, не спеша — есть чем время скоротать. Соберись с мыслями и рассказывай.
Иисус вскочил. Он смотрел на Лазаря, и губы его дрожали. Новое знамение посылает ему Бог. Предтеча ушел из мира, потому как перестал быть нужным ему. Он подготовил путь, исполнил свой долг и ушел…
«Пришел мой час… Пришел мой час…» — подумал Иисус, содрогаясь от ужаса, но не проронил ни звука, вперив взгляд в бледно-зеленые губы Лазаря.
— Он убил его? — прорычал почтенный Мельхиседек, гневно ударив посохом о землю. — До чего мы докатились! Кровосмеситель убивает святого, развратник — подвижника! Пришел конец света!
Ужас охватил женщин, и они принялись протяжно голосить. Слепому стало жаль их.
— Это уж слишком, почтенный Мельхиседек, — сказал он. — Мир еще прочно стоит, не бойтесь, женщины!
— Рассечена гортань человечества, умолк глас пустыни, — кто теперь обратится к Богу за нас, грешных? — прерывающимся от рыданий голосом сказал Лазарь, и из глаз у него потекли слезы. — Люди осиротели!
— Нечего было бунтовать против власти, — прошипел второй старец. — Что бы ни делали сильные мира сего, закрой глаза и не смотри! Бог то видит, а ты не вмешивайся. Так ему и надо!
— Стало быть, жить рабами? — вскипел Мельхиседек.
— А голову на что Бог дал человеку? Чтобы поднимать ее против тиранов! Это я тебе говорю!
— Помолчите, старцы, давайте послушаем, как свершилось несчастье! — раздраженно сказал слепой. — Говори, сынок Лазарь!
— Я отправился принять крещение. Думал, может, это возвратит мне здоровье, — начал Лазарь. — В последнее время я чувствовал себя неладно, хворал, голова кружилась, глаза распухли, поясница…
— Хорошо, хорошо, это мы знаем, — прервал его слепой. — Дальше!
— Пришел я на Иордан, к мосту, под которым собрался принимавший крещение народ, услыхал крики и плач, но не подумал, будто что случилось, — люди попросту исповедуются в грехах и потому плачут… Не останавливаясь, подхожу ближе, и что же я вижу? Мужчины и женщины лежат лицом в речном иле и рыдают… Я спрашиваю: «Что случилось, братья? Почему вы плачете?» — «Убили Пророка!» — «Кто?! — «Ирод, злодей окаянный!» — «Как? Когда?» — «Напился допьяна, его бесстыжая невестка Саломея плясала нагой у него перед глазами, а развратник обезумел от ее красоты. «Проси чего желаешь! — сказал Ирод, усадив Саломею к себе на колени. — Хочешь половину моего царства?» «Нет», — ответила та. — «Чего же ты хочешь?» — «Голову Иоанна Крестителя» — «Возьми ее!» — ответил Ирод и поднес ей голову на серебряном подносе».
Лазарь вдруг умолк и снова рухнул, наземь. Все молчали. Светильник затрещал, свет задрожал, собираясь погаснуть; Марфа встала, наполнила светильник маслом, и он снова загорелся ровным пламенем.
— Это конец света… — после долгого молчания снова сказал почтенный Мельхиседек, собрав бороду в кулак. Все это время он рассуждал о судьбах мира, думал о беззаконии и бесчестии, о вестях, которые время от времени приходили из Иерусалима. Идолопоклонники оскверняют святой Храм, священники каждое утро закалывают в жертву быка и двух баранов, но не Богу Израиля, а проклятому безбожнику — римскому императору. Открывая утром двери своих домов, богачи видят на пороге людей, умерших ночью от голода, и, приподняв край своих шелковых одежд, переступают через трупы и направляются на прогулку в портики у Храма… Все это взвесил в уме почтенный Мельхиседек и сделал вывод: пришел конец света. Он повернулся к Иисусу и спросил:
— А ты что об этом думаешь?
— Я пришел из пустыни, — ответил тот голосом, который стал вдруг необычайно проникновенным, и взоры всех устремились к нему. — Я пришел из пустыни, где видел, как три ангела уже покинули небо, чтобы пасть на землю. Я видел их собственными глазами. Они покинули край неба и движутся сюда! Первый — Проказа, второй — Безумие, третий, самый милосердный, — Огонь! И услышал я голос: «Сыне Плотника, мастери Ковчег, дабы взять в него всех, кто безгрешен. Торопись! Пришел День Господень, мой День — я иду!»
Крик вырвался из уст у трех старцев. Сидевшие на полу со скрещенными ногами мужчины поднялись, стуча зубами от страха. Женщины всем скопом бросились с воплями к двери. Марфа и Мария стали подле Иисуса, словно ища у него защиты. Разве он не поклялся взять их ковчег? Пришел час.
Почтенный. Мельхиседек вытер пот, струившийся по обрамленному сединами челу, и воскликнул:
— Истина то, что говорит гость, истина! Послушайте, братья, о чуде, которое случилось сегодня утром. Проснувшись, я, как обычно, развернул Священное Писание и наткнулся на слова Пророка Иоиля: «Трубите трубою Сионскою, да откликнется святая гора. Да трепещут все жители земли, ибо наступает День Господень с тьмою и мраком: перед ним огонь и за ним огонь. Вид его как вид коней скачущих, скачут они по камням, как бы со стуком боевых колесниц, как бы с треском пламени по вершинам гор, устремляющегося пожрать тростники… Таков День Господень!» Несколько раз перечитал я грозную весть и как был босым запел псалом посреди двора, а затем пал ниц на землю и воскликнул: «Господи, если Ты должен прийти вскоре, пошли мне знамение, чтобы я успел приготовиться, пожалеть бедных, открыть свои закрома, заплатить за грехи свои… Пошли мне молнию, глас или человека, который известит меня, чтобы только успеть!» Он повернулся к Иисусу и сказал:
— Ты и есть знамение. Бог послал тебя. Есть ли у меня еще время? Или уже нет? Когда разверзнутся небеса, сынок?
— Каждое мгновение небеса готовы разверзнуться, старче, — ответил Иисус. — Каждое мгновение Проказа, Безумие и Огонь делают еще один шаг, подходят все ближе и ближе. Крылья их уже касаются волос моих.
Лазарь смотрел на Иисуса, вытаращив свои выцветшие зеленые глаза, а затем шагнул к нему.
— Не ты ли — Иисус из Назарета? — спросил он. — Говорят, будто в час, когда палач уже занес топор, чтобы отрубить голову Иоанну Крестителю, пророк простер руку в направлении пустыни и воскликнул: «Иисусе Назаретянин, покинь пустыню, вернись к людям! Вернись, не оставляй людей одних!» Если ты и есть Иисус из Назарета, то благословенна да будет земля, по которой ты ступаешь! Дом мой осветился, я принял крещение и исцелился. Припадаю молитвенно к стопам твоим!
С этими словами Лазарь пал ниц и стал целовать покрытые ранами ноги Иисуса.
Но изощренный в лукавстве почтенный Самуил недолго пребывал в растерянности. На какое-то мгновение мысли его перепутались, но он тут же снова нащупал твердую почву.
«У Пророков можно найти все, чего только душа пожелает, — подумал он.
— На одной странице Господь разгневался на свой народ и уже занес кулак, чтобы сокрушить его, а на другой Он — молоко да мед. В каком духе ото сна встанешь, такое и пророчество найдешь, так что не будем расстраиваться понапрасну…»
Он качнул своей лошадиной головой и тайком ухмыльнулся в густую бороду, не проронив ни слова: пусть народ боится, это ему только на пользу: если бы не страх — бедняков ведь больше и сложены они крепче, мы бы давно уже пропали!
Итак, он молчал, презрительно поглядывая на Лазаря, который целовал гостю ноги и говорил ему:
— Если галилеяне, с которыми я познакомился на Иордане, и есть твои ученики, так знай, Учитель, они поручили передать, если случится встретить тебя, что уйдут оттуда и будут ожидать тебя в Иерусалиме, в таверне Симона Киренянина у Давидовых врат. Убийство Пророка напугало их, и они ушли, чтобы скрыться. Начались гонения.
Тем временем женщины стали уводить своих мужей. Они не сомневались, что у пришельца недобрый глаз и взгляд его вызывает умопомрачение, а речь ввергает мир в пропасть. Лучше уж уйти поскорее!
Слепому снова стало жалко людей.
— Мужайтесь, дети! — воскликнул он. — Я слышу, что вершатся великие дела, но вы не бойтесь. Все опять станет на свое место, вот увидите. Мир крепок и прочны основы его. Сколько выдержит Бог, столько выдержит и мир. Не слушайте зрячих, послушайте меня: я слеп и потому вижу намного лучше всех вас. Бессмертное племя Израилево заключило завет с Богом, Бог скрепил его своей печатью и пожаловал нам всю землю. Так что не бойтесь. Близится полночь, пошли спать!
С этими словами он вытянул вперед посох и направился прямо к двери. Трое старейшин пошли впереди, за ними — мужчины, а затем и женщины. Дом опустел.
Сестры постелили гостю на деревянной лежанке. Мария вынула из сундука льняные и шелковые простыни — свое приданое. Марфа принесла пуховое атласное одеяло, которое столько лет держала неприкосновенным в ларе в ожидании той многожеланной ночи, когда укроется им вместе с мужем. Принесла она и душистые травы, базилик и мяту, и набила ими подушку.
— Этой ночью он будет спать как новобрачный, — сказала со вздохом Марфа.
Мария тоже вздохнула, но не произнесла ни слова. «Боже, — подумала она, — не слушай меня: мир прекрасен, даже если я и вздыхаю. Мир прекрасен, только страшно оставаться в одиночестве, а этот пришелец уж очень мне по сердцу».
Сестры ушли в свою комнатушку и улеглись на жестких постелях. А мужчины, расположились на деревянной лежанке в разных ее концах, стопами друг к друг. Лазарь был счастлив. Воздух в его доме был полон святости и блаженства! Он дышал спокойно, глубоко, слегка, прикасаясь стопами к святым стопам, и чувствовал, как по всему его телу разливается некая таинственная сила некая божественная безмятежность. Не мучила его больше боль в пояснице, не колотилось смятенно сердце, умиротворенно и блаженно переливалась кровь от стоп к голове, питая изжелта-бледное измученное тело, «Это и есть крещение, — думал он. — С этой ночи я крещен, крещен и дом мой, крещены и сестры мои. Река Иордан вошла ко мне в дом».
А сестры? Разве могли они сомкнуть глаза?! Уже много лет в их доме должен бы спать мужчина. Чужие всегда устраивались у кого-нибудь из зажиточных хозяев — кому нужна бедная хижина на окраине? — а их брат, болезненный чудак, не любил знакомств. И вот нынешним вечером — что за чудо нежданное! Ноздри их вздрагивали, втягивая воздух, который так изменился, так благоухал — не базиликом или мятой, а мужчиной!
— Бог послал его мастерить Ковчег, и он дал слово взять нас туда… Ты слышишь, Мария, или уже спишь?
— Нет, не сплю, — ответила Мария, сжимая ладонями разболевшуюся грудь.
— Боже, пусть поскорее наступит конец света, только бы войти в Ковчег вместе с ним, — продолжала Марфа. — Я буду прислуживать ему, и вовсе не важно, что ты будешь рядом с ним. Ковчег будет вечно плыть по водам, я буду вечно прислуживать ему, а ты будешь вечно рядом с ним, сидя у его ног. Так я представляю себе Рай. А ты, Мария?
— И я, — ответила Мария, закрывая глаза. Они беседовали и вздыхали, а Иисус спал глубоким сном, наслаждаясь отдыхом. Казалось, что он вовсе и не спал, но и телом и душой вошел он в реку Иордан, освежился, освободил тело свое от песка пустыни, освободил душу свою от добродетелей и злобы человеческой и вновь обрел чистоту. В какой-то миг показалось, будто вышел он из реки Иордан, пошел нехоженой зеленой тропой и очутился в просторном саду, полном цветов Плодов. И был он уже не Иисус, Сын Марии из Назарета, но Адам первозданный. Он только что вышел из рук Божьих, плоть его была еще свежей глиной, он улегся на цветущем лугу и сох иод солнцем, чтобы затвердела кость, покрылось румянцем лицо, сомкнулись семьдесят два сустава в теле его, чтобы он смог встать и пойти. И пока он лежал на солнце и набирался сил, птицы порхали у него над головой, перелетали с дерева на дерево, расхаживали по весенней травке, переговаривались между собой и щебетали, удивленно разглядывая новое странное существо, лежавшее на траве, и каждая из птиц говорила что-то, а затем улетала.
Он овладевал птичьим языком и радовался, слушая его. Павлин чванливо распускал хвост, прохаживался туда-сюда, искоса бросая жеманные взгляды на лежащего на земле Адама, и пояснял ему: «Я был курицей, полюбил ангела и стал павлином. Разве есть птица краше меня? Нет такой!» Горлица порхала с дерева на дерево и, подняв головку к небу, восклицала: «Любовь! Любовь! Любовь!» Дрозд говорил: «Изо всех птиц только я пою и согреваюсь даже в самые лютые морозы!» Ласточка: «Без меня никогда бы не цвели деревья». Петух: «Без меня никогда бы не вставало солнце». Жаворонок: «Когда я утром взлетаю петь в небо, то навсегда прощаюсь с детьми, потому что не знаю, вернусь ли к ним живым после пения». Соловей: «Не смотри, что одет я бедно: у меня были прекрасные большие крылья, но я поменял их на песню». Рогоносый черный дрозд уселся на плече первозданного, вцепившись в него когтями, наклонился к уху и тихо, словно сообщая великую тайну, сказал: «Врата Рая и ада соединены между собой, не отличаются друг от друга, и те и другие зелены, и те и другие прекрасны, запомни это, Адам! Запомни это, Адам! Запомни это, Адам!»
Под болтовню черного дрозда и проснулся он на заре.