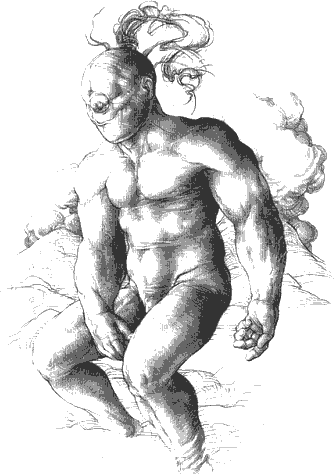Глава 19
«Великие дела вершатся, когда соединяются Бог и человек, Без человека Бог не имел бы на этой земле разума, более понятно отображающего Его творения и с бесстыдством и ужасом познающего Его всесилие. Он не имел бы на этой земле сердца, скорбящего о чужих бедах и пытающегося сотворить добродетели и печали, которые сам Бог не пожелал или позабыл, а может быть, и побоялся сотворить. Однако Он коснулся человека дыханием Своим дал ему силу и дерзость продолжить творение.
С другой стороны, не будь Бога, человек погиб бы от голода, страха и холода, потому как рождается он беззащитным, но если бы и уцелел, то ползал бы слизняком среди львов и вшей, а если бы ему и удалось благодаря непрестанной борьбе подняться на четыре свои конечности, то никогда не смог бы избавиться он от горячих и нежных объятий матери своей обезьяны…»
Так думал Иисус, впервые в тот день столь глубоко осознав, что Бог и человек могут стать единым целым. Ранним утром он вышел на дорогу, ведущую к Иерусалиму, держа в объятиях Бога, и отправился с Ним в путь, разделяя с Ним одну и ту же тревогу; земля сбилась с пути и, вместо того чтобы подниматься к небу, спускалась в ад, и потому оба Они — Бог и Сын Божий — должны бороться, чтобы вывести землю на путь истинный.
Потому Иисус так торопился, шагая по дороге широким шагом, охваченный желанием поскорее встретиться с товарищами и начать борьбу. Солнце, поднимавшееся от Мертвого моря, птицы, которые щебетали, растревоженные его светом, вздрагивавшие в воздухе листья деревьев и дорога, стелившаяся белым полотном до самых стен Иерусалима и увлекавшая его вперед, — все это кричало, взывая к нему: «Торопись! Торопись! Мы гибнем!»
«Я знаю, я знаю это, — отвечал Иисус. — Я иду!»
Ранним утром его товарищи крались вдоль стен по еще пустынным улочкам Иерусалима, да и то не все вместе, но по двое: Петр с Андреем, Иаков с Иоанном, а впереди, сам по себе, Иуда. Они испуганно озирались по сторонам и быстро продвигались вперед, опасаясь, как бы их не настигли. Добравшись до Давидовых врат, они свернули налево, в первый узкий переулок, и, крадучись, проскользнули в таверну Симона Киренянина.
Шарообразный толстяк, хозяин таверны, с распухшим красным носом и распухшими красными глазами, выглядел заспанным, словно только что поднялся с соломенного тюфяка. До поздней ночи он пил запоем со своими завсегдатаями, пел песни и буянил, почему и уснул совсем поздно, а теперь нехотя и в скверном расположении духа очищал губкой прилавок от остатков пиршества. Он уже стоял на ногах, но еще не проснулся. В полусне ему представлялось, будто он держит губку и чистит прилавок… Так вот, маясь между сном и пробуждением, он услышал, как запыхавшиеся люди входят в таверну, и обернулся. Глаза у него чесались, во рту было терпко, в бороде запуталась шелуха жареных тыквенных семян.
— Кто вы, окаянные? — хрипло прорычал Симон. — Когда вы наконец оставите меня в покое? С самого утра явились обжираться и напиваться? Я не в духе, убирайтесь прочь!
Проснувшись от собственного крика, он мало-помалу распознал своего старого друга Петра и его товарищей — галилеян, подошел, посмотрел на них вблизи и расхохотался.
— Ну, и морды! Спрячьте языки, чтобы не свисали наружу, держите свои пупки, не то развяжутся со страху! Тьфу на вас, чтоб не сглазить, молодцы галилейские!
— Ради Бога, не буди людей своим криком, Симон! — ответил Петр, закрывая ему рот ладонью. — Запри дверь. Царь умертвил пророка Крестителя, не слышал? Отрубил ему голову и бросил ее на поднос…
— И хорошо сделал! Пророк все уши ему прожужжал из-за того, что тот взял жену брата своего. Очень хорошо! На то он и царь, чтобы поступать как вздумается. А потом, раз уж мы заговорили об этом, и мне он порядком надоел: «Покайтесь! Покайтесь!» Нет уж, брат!
— Но он собрался умертвить всех, кто принял крещение. На всех на них уже наточены ножи. Мы тоже приняли крещение. Понимаешь?
— А кто вас заставлял принимать крещение, болваны? Так вам и надо!
— Но и ты тоже принял крещение, хмельная бочка! — обрушился на него Петр. — Не ты ли сам рассказывал нам об этом? Чего разорался?
— Это было совсем не так, негодный рыбачишка! Не принимал я крещение! Разве это крещение — нырнул да искупался? Все то, что внушал лжепророк, в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Так поступают все, у кого голова на месте, вы же, пустоголовые… Лжепророки — что зайцы с епитрахилью, ни дать ни взять. «Окунайтесь», — говорят они, а вы — бултых, и окунулись, подхватив простуду. «Не убийте вши в субботу, ибо это великий грех!» Да если вы ее не убьете, так она вас доконает! «Не платите подушной подати!» Вы не платите, а потом — бац! — и вам отрубают голову! И поделом! Так что давайте-ка лучше присядем да пропустим по одной. И вы придете в чувство, и я проснусь!
В глубине таверны темнели две толстые бочки: на одной был нарисован красной краской петух, на другой, темно-серой краской — свинья. Симон наполнил кувшин из бочки с петухом, взял шесть стаканов и прополоскал их в лохани с дурно пахнущей водой. Винный запах подействовал на него, он проснулся.
В таверну вошел слепой и остановился у двери. Зажав между колен посох, он принялся настраивать старую-престарую лютню, сухо покашливая и поплевывая, чтобы прочистить горло. В юности Элиаким был погонщиком верблюдов. Как-то в полдень, проезжая через пустыню, он увидел нагую женщину, купавшуюся в канаве с водой, и вместо того, чтобы отвернуться, впился бесстыжим взглядом в красавицу бедуинку. На беду, ее муж развел за скалой огонь и, сидя на корточках, готовил пищу. Увидав погонщика верблюдов, который приближался, пожирая глазами наготу его жены, он бросился к нему, прихватив пару горящих углей, которые погасил в глазах погонщика… С того самого дня несчастный Элиаким обратился к псалмам и песням, ходил по тавернам и домам Иерусалима с лютней, то прославляя милость Божью, то воспевая наготу женщины, и, получив за то кусок черствого хлеба, горсть фиников и пару маслин, отправлялся дальше.
Он настроил лютню, прочистил горло, вытянул шею и затянул свой любимый псалом: «Помилуй меня, Боже, чрез великое милосердие Твое и чрез обилие сострадания Твоего прости мои прегрешения…» Тут появился хозяин таверны с кувшином вина и стаканами. Услыхав псалом, он пришел в ярость и завопил:
— Хватит! Хватит! Ты тоже прожужжал мне уши. Заладил одно и то же: «Помилуй… Помилуй…» Чтоб ты пропал! Это я согрешил, что ли? Это я пялился на чужих жен, когда они совершают омовение? Бог дал нам глаза, чтобы мы ничего не видели, — разве ты этого до сих пор не понял? Стало быть, так тебе и надо. А теперь, давай-ка, убирайся отсюда!
Слепой снова взял посох, зажал лютню под мышкой и, не проронив ни слова, потащился прочь.
— «Помилуй меня, Боже… Помилуй меня, Боже…» — раздраженно продребезжал хозяин таверны. — Давид наслаждался созерцанием чужих жен, этот вот слепой человечишка наслаждался созерцанием чужих жен, а страдать за это должны мы… Нет уж, брат!
Он наполнил стаканы вином, и все выпили. Затем налил вина в свой стакан и выпил уже сам.
— Пойду поставлю для вас в печку баранью головку. Отменнейшая закуска — пальчики оближешь!
С этими словами Симон проворно выскочил во двор, где стояла им же сооруженная небольшая печь, принес веток и виноградных лоз, развел огонь, сунул внутрь на сковороде баранью голову и вернулся к гостям — жизнь его была немыслима без вина и болтовни.
Настроение у гостей было, однако, нерадостным. Сгрудившись у огня, они вперили взгляд в дверь и сидели, словно на раскаленных углях, порываясь уйти. Чуть слышно перебросились между собой несколькими словами и тут же умолкли. Иуда поднялся и стал у двери: ему было противно видеть этих трусов, потерявших со страху голову. Как спешили они от Иордана до Иерусалима, как ввалились в эту таверну на окраине города с сердцем, готовым выскочить из груди! А теперь сидят, словно зайцы, прижав уши к спине, дрожат и пятки у них уже чешутся, чтобы снова дать стрекача… Да пропадите вы пропадом, молодцы галилейские! Благодарю тебя, Боже Израиля, что не сотворил меня таким, как эти морды! Я родился в пустыне и создан не из мягкой галилейской земли, но из бедуинского гранита! Все вы ластились к нему, давая клятвы и поцелуи, а теперь уповаете только на ноги, спасая собственную шкуру, я же, дикарь с волосами зловещего цвета, головорез, не покину его и буду ждать здесь, пока он не возвратится из Иорданской пустыни, узнаю, что он принес с собой, а тогда уже и приму решение, потому что я не дрожу за свою шкуру и единственное, что меня тревожит, — это страдания Израиля!
Услыхав в глубине таверны приглушенную перепалку, он обернулся.
— А я говорю, надо возвращаться в Галилею — там мы будем в безопасности. Вспомните наше озеро, ребята! — говорил, вздыхая, Петр.
Он видел, как его зеленая лодка покачивается на голубой волне, и сердце его трепетало. Видел гальку, олеандры, наполненные рыбой сети, и на глазах у него выступили слезы.
— Пошли отсюда, ребята! — сказал Петр. — Пошли!
— Мы дали слово ожидать его в этой таверне. Это дело нашей чести — сдержать слово, — сказал Иаков. — Поручим Киреняняну устроить все и переговорить с ним, если он явится.
— Нет! Нет! — возразил Андрей. — Разве мы можем оставить его одного в этом свирепом городе? Подождем его здесь.
— А я говорю, надо возвращаться в Галилею, — упрямо повторил Петр.
— Братья! — сказал Иоанн, умоляюще прикасаясь к рукам и плечам товарищей. — Братья, вспомните последние слова Крестителя. Протянув руку к мечу палача, он воскликнул: «Иисусе Назаретяннн, оставь пустыню, я ухожу. Приди к людям! Приди, не оставляй людей сиротами!» Эти слова полны глубокого смысла, друзья. Да простит меня Бог, если я скажу нечто святотатственное, но…
У него прервалось дыхание. Андрей схватил Иоанна за руку.
— Говори, Иоанн! Какое страшное подозрение мучит тебя в тайне от нас?
— …но что, если наш Учитель есть… Он запнулся.
— Кто?
Голос Иоанна прозвучал тихо, словно он задыхался, исполненный ужаса:
— …Мессия!
Все вскочили. Мессия?! Столько времени провели они рядом с ним и ни разу не подумали об этом?! Вначале его приняли за доброго человека, за святого, несущего людям любовь, затем — за пророка, но не свирепого, как древние пророки, а радостного и спокойного — он низводил на землю Царство Небесное, которое есть доброта и справедливость. Непреклонного прадавнего Бога Израиля Иегову он называл Отцом, и, едва лишь называл Его Отцом, Тот сразу же становился мягче и все мы становились детьми Его… И вот теперь, что за слово сорвалось из уст Иоанна! Мессия! Ведь это значит — меч Давидов, мировое владычество Израиля, война! А они, ученики, первыми последовавшие за ним, — великие властители, тетрархи и патриархи, стоящие вкруг престола его! А то ведь зачем на небесах Бога окружают ангелы и архангелы? Равным образом и они суть на земле владыки народов и патриархи. Глаза у них заблестели.
— Беру свои слова назад, ребята, — сказал Петр и густо покраснел. — Я никогда не покину его!
— И я! И я! И я!
Иуда гневно сплюнул и ударил кулаком по дверному косяку.
— Эх, добрые молодцы! — вскричал он. — Пока вы считали, его немощным, то думали только о том, как бы смотаться. А теперь, едва учуяли его величие, так — «никогда не покину его!» Да все вы в один прекрасный день выдадите его с руками и ногами и — запомните хорошенько! — только я, один только я не предам его. Симон Киренянин да будет тому свидетелем!
Хозяин таверны, который все слышал и посмеивался в обвислые усы, подмигнул Иуде:
— Ну и морды! А еще хотят мир спасать!
Тут его ноздри учуяли доносившийся из печи запах.
— Головка подгорает! — завопил Симон и одним прыжком очутился во дворе. Товарищи в замешательстве переглянулись.
— Вот почему Креститель, увидав его, так и застыл на месте! — сказал Петр, ударив себя по лбу. Волнение охватило их, воображение их разыгралось.
— А помните голубя, появившегося у него над головой, когда он принимал крещение?
— Это был не голубь, а молния.
— Нет! Нет! Голубь! Он еще ворковал.
— Не ворковал, а говорил. Я собственными ушами слышал, как он сказал: «Святой! Святой! Святой!»
— Это был Святой Дух! — сказал Петр, перед глазами которого мелькали золотые крылья. — Святой Дух снизошел с небес, и все мы замерли — разве не помните? Я хотел было подойти ближе, но нога моя онемела — не шевельнуть! Попробовал закричать, но губы не повиновались мне. Ветер улегся, камыши, река, люди, птицы — все, все окаменело от ужаса, и только рука Крестителя медленно двигалась, совершая крещение…
— Ничего я не видел, ничего не слышал! — раздраженно сказал Иуда. — Ваши глаза и уши захмелели.
— Ты не видел, потому что не желал видеть, рыжебородый! — отрезал Петр.
— А ты видел, потому что желал видеть, всклокоченная борода! Захотелось тебе увидеть Святой Дух, ты и увидел Святой Дух. А теперь еще заставляешь увидеть Его и этих вот взбалмошных, вводя их в собственное заблуждение!
Иаков до сих пор только слушал, не говоря ни слова. Грыз ногти и молчал. Но тут он не выдержал:
— Прекратите! Не будем путать огонь с кремнем, а лучше поразмыслим хорошенько, как было дело. Действительно ли Креститель произнес эти слова, перед тем как ему отрубили голову? Мне это кажется мало вероятным. Прежде всего: кто из нас был там и слышал это? И вот еще что: даже если эти слова и возникли в мыслях Крестителя, он никогда не произнес бы их вслух, потому как царь проведал бы про то и послал соглядатаев разузнать, кто таков этот Иисус, пребывающий в пустыне, а затем схватил бы его и тоже отрубил ему голову. Дважды два — четыре, как говорит мой почтенный батюшка. Так что не предавайтесь пустым мечтаниям!
— А я говорю, что дважды два — четырнадцать! — разозлился Петр. — Чтобы там ни говорил разум, будь он неладен! Налей-ка, Андрей, выпьем, заглушим голос разума и вот тогда посмотрим!
Какой-то верзила, со складками на щеках, босой, завернутый в белую простыню, со связками амулетов на шее, ворвался в таверну, приветствовал собравшихся, приложив ладонь к груди, и воскликнул:
— Здравствуйте, братья! Я ухожу. Иду к Богу. Может быть, передать ему что от вас?
И не дожидаясь ответа выскочил наружу и вбежал в соседний дом.
Тут вошел хозяин таверны со сковородкой в руках, и все вокруг наполнилось благоуханием. Заметив чудаковатого верзилу, он закричал ему велед:
— Скатертью дорога! Передавай привет! Еще один… — Симон засмеялся.
— И вправду наступил конец света: мир полон сумасшедших. Этому, видите ли, Бог привиделся позавчера ночью, когда он шел по нужде, и с той минуты разве может он оставаться на белом свете? Не желает принимать пищи: я, видите ли, призван на небо, там и поем. Вот и облачился в саван, ходит по домам, берет поручения, прощается и уходит… Это случается с теми, кто чересчур приблизился к Богу. Смотрите, ребята, держитесь от Него подальше, говорю вам это для вашего же блага, — я тоже молюсь Его Милости, но только издали. Дайте-ка поставлю!
Он поставил на середину стола сковороду с дымящейся бараньей головкой. Его губы, глаза, уши смеялись.
— Свежая головка! — воскликнул Симон. — Иоанн Креститель! Пожалуйте откушать!
Иоанн почувствовал тошноту и отшатнулся. Андрей протянул было руку, которая так и застыла в воздухе. Лежавшая на сковороде головка смотрела на них — то на одного, то на другого — широко раскрытыми неподвижными, мутными глазами.
— Подлый Симон! — сказал Петр. — Ты намеренно вызываешь у нас отвращение, чтобы мы не притронулись к ней. Как теперь вынуть из нее глаза — мое любимое лакомство?! Мне будет казаться, что я ем глаза Крестителя.
Хозяин таверны расхохотался.
— Не беспокойся, любезный Петр, я сам их съем. Но перво-наперво — язычок, столько радовавший меня своей болтовней: «Покайтесь! Покайтесь! Настал конец света!» Прежде тебе самому пришел конец, злополучный!
С этими словами Симон вынул нож, отрезал язык и мигом проглотил его. Затем он выпил полный стакан вина и горделиво посмотрел на пару своих бочек.
— Ну, будет, ребята, жаль мне вас. Поговорим лучше о другом, чтобы вы забыли о голове Крестителя и могли отведать бараньей… Итак, как вы думаете, кто нарисовал эти восхитительные метки, которые красуются на бочках, — петуха и свинью? Я, собственной персоной, вот этими руками… а вы как думали? А знаете, почему именно петуха и свинью? Откуда вам знать, недотепы галилейские! Сейчас я вам это растолкую, чтобы просветить ваш умишко!
Петр смотрел, как головка стынет, но все не решался протянуть руку и вынуть из нее глаза. Он непрестанно видел перед собой Крестителя: и он вот так же смотрел на людей глазами навыкате.
— Итак, послушайте, чтобы просветился ваш умишко, — продолжал хозяин таверны. — Когда Бог сотворил мир — и захотелось же Ему этих хлопот, благословенному! — и отмывал руки от глины, Он кликнул, чтобы все новосотворенное явилось пред очи Его, и горделиво спросил: «Эй, птички и всякая прочая живность, как вам нравится сколоченный мною мир? Может быть, найдете какой-нибудь изъян?» Все тут же принялись реветь, мычать, мяукать, лаять, блеять и щебетать: «Никакого! Никакого! Никакого!» «Примите мое благословение, — сказал Бог. — И Я тоже — клянусь верой! — не нахожу никакого изъяна. Да здравствуют длани Мои!»
— Но тут на глаза Ему попались петух и свинья, которые стояли опустив головы и не проронив ни звука. «Эй, свинья, — воскликнул Бог, — а ты, твое превосходительство петух, вы почему молчите?! Может быть, вам не нравится сотворенный Мною мир? Неужто ему чего-то недостает?» Но те ни слова в ответ! Их, видите ли, научил Дьявол, шепнув им на ухо: «Скажите Ему вот что: «Миру недостает стелющегося по земле корня. Из него произрастает виноград, который нужно подавить, поместить в бочку и сделать из него вино». «Что молчите, твари?» — снова крикнул Бог, занося ручищу. И только тогда эти двое животных, которым Дьявол придал отваги, подняли головы: «Что тут сказать, Первотворец? Да здравствуют длани Твои, прекрасен Твой мир — тьфу, чтоб не сглазить! — но ему недостает стелющегося по земле корня, из которого произрастает виноград: его нужно подавить, поместить в бочку и сделать из него вино». «Ах вот как?! Вот я вам сейчас покажу, мошенники! — вскричал Бог, охваченный яростью. — Вина вам от Меня захотелось, пьянства, брани да блевотины? Да произрастет виноград!» Он засучил рукава, взял глины, вылепил лозу, посадил ее. «Да будет проклят всякий, кто перепьет! — изрек Бог. — Да имеет он петушиные мозги и свиное рыло!»
Все засмеялись, забыли о Крестителе и набросились на жареную головку. Самым проворным оказался Иуда, который в два счета вскрыл череп и набрал полную пригоршню бараньего мозга. При виде такого разбоя хозяин таверны перепугался. «Не оставят мне ни косточки», — подумал он.
— Эй, ребята, ешьте и пейте на здоровье, но не забывайте и покойного Иоанна Крестителя. Ох, бедная его головушка!
Все так и застыли на месте с куском в руке. А Петр, который жевал глаз, собираясь проглотить его, чуть было не подавился: проглотить глаз было противно, а выплюнуть жалко. Что было делать? Только Иуда не стеснялся. Симон наполнил стаканы:
— Вечная ему память! Жаль его головушку. И за ваше здоровье, ребята!
— И за твое тоже, пройдоха! — сказал Петр, собрался с духом и проглотил глаз.
— Не беспокойся, мне-то бояться нечего, — ответил хозяин таверны. — Я в дела Божьи не вмешиваюсь, а спасать людей мне никогда бы и в голову не пришло! Я держу таверну, я не ангел и не архангел, как вы, — от этого-то я избавлен — сказал он и схватил все, что осталось от головки.
Петр открыл было рот, но тут голос у него пропал: какой-то верзила дикою вида, с изрытым оспой лицом, остановился у двери и заглянул внутрь. Товарищи забились в угол, а Петр спрятался за широкие плечи Иакова.
— Это Варавва! — проворчал Иуда, сдвигая брови. — Входи!
Варавва согнул свою могучую шею, разглядел во мраке учеников, и его свирепая образина язвительно усмехнулась:
— Привет, ягнятки! Я обшарил всю землю, чтобы вытащить вас из норы.
Хозяин таверны поднялся, бормоча себе что-то под нос, и принес ему чашу.
— Тебя только не хватало, атаман Варавва, — проворчал он.
Его брало зло, что всякий раз, заглядывая в таверну, тот напивался допьяна и затевал ссору с проходившими мимо римскими солдатами, а ему это доставляло одни неприятности.
— Только не затевай снова своего обычного свинопетушения!
— Послушай-ка, до тех пор пока неверные попирают землю Израиля, я не сдамся — даже мысль такую выбрось из головы! Принеси закуску, шкура негодная!
Хозяин таверны подтолкнул к нему сковороду с костями.
— Жри, зубы у тебя собачьи, разгрызут и кости.
Варавва одним духом осушил свою чашу, подкрутил усы и повернулся к ученикам.
— А где же добрый пастырь, ягнятки? — спросил он, и в глазах у него заиграли искры. — У меня с ним старые счеты.
— Ты захмелел, прежде чем выпил, — строго сказал Иуда. — Твои славные деяния до сих пор доставляли нам одни только хлопоты. Довольно!
— Зачем он тебе? — без страха спросил Иоанн. — Он святой человек и, когда идет, смотрит себе под ноги, чтобы даже муравья не раздавить.
— «Даже муравья не раздавить» значит «бояться». Разве он мужчина?
— Он вырвал у тебя из лап Магдалину. Ты все фыркаешь на него, а ему до тебя и дела нет, — отважился и Иаков.
— Он оскорбил меня, — прорычал Варавва, и в глазах у него потемнело. — Он оскорбил меня и заплатит за это?
Но тут Иуда схватил его за плечо, отвел в сторону и тихо, но быстро и гневно проговорил:
— Что ты здесь околачиваешься? Почему ты оставил горы Галилеи? Братство там выделило тебе логово. Здесь, в Иерусалиме, распоряжаются другие.
— Разве мы не сражаемся за свободу? — яростно возразил Варавва. — Я свободен и потому поступаю, как знаю. Я тоже пришел сюда посмотреть, что представляет себя этот Креститель, который творил чудеса и посылал знамения. А вдруг он и есть Тот, кого мы ожидаем? Пришел наконец, чтобы встать во главе и начать расправу. Но я не успел: ему отрубили голову. Что скажешь об этом ты, мой старшой Иуда?
— Скажу, чтобы ты встал, ушел отсюда и не совался в чужие дела.
— Ушел? Ты это серьезно? Я пришел ради Крестителя и нападаю на след Сына Плотника. Я столько времени охочусь за ним, и вот теперь, когда Бог посылает мне его прямо в руки, уйти и оставить его?
— Уходи! — властным голосом приказал Иуда. — Это мое дело. Не распускай рук!
— Что ты задумал? Братство желает покончить с ним, тебе про то известно. Он римский наймит: ему платят, чтобы он провозглашал Царство Небесное, вводя в заблуждение народ, чтобы тот не видел, что творится на земле, не видел нашего рабства. А теперь ты… Что ты задумал?
— Ничего. Это моя забота. Уходи!
Варавва повернулся и напоследок бросил взгляд на учеников, которые внимательно следили за их разговором.
— До скорой встречи, ягнятки! — злобно крикнул Варавва. — От Вараввы так легко не отделаешься, мы еще поговорим!
С этими словами он исчез у Давидовых врат.
Хозяин таверны подмигнул Петру.
— Он дал ему указания, — тихо сказал Симон. — «Братство», видите ли! За убийство одного римлянина будет убито десять израильтян. Десять и пятнадцать. Имейте в виду, ребята! Он наклонился и прошептал Петру на ухо:
— Послушай-ка вот еще что: не верьте Иуде Искариоту. Они, рыжебородые… Тут он умолк, потому что рыжебородый снова занял свое, место на скамье.
Иоанн обеспокоенно поднялся, стал у двери, посмотрел по сторонам, по Учителя нигде не было видно. День уже начался, улицы заполнил народ. За Давидовыми вратами простиралась пустыня: щебень, пепел, ни одного зеленого листочка. Только кое-где возвышались белые камни — могильные памятники. В воздухе стоял смрад от трупов, собачьей и верблюжьей падали… Иоанну стало страшно от этой дикости: все здесь было из камня. Из камня — образины, из камня — сердца, из камня — Бог, которому здесь поклоняются. Где же милосердный Бог-Отец, которого нес им Учитель?! О, когда же придет любимый Учитель и они отправятся в Галилею!
— Пошли, братья! — сказал Петр и поднялся, потеряв уже терпение. — Он не придет!
— Я слышу, как он идет к нам… — робко прошептал Иоанн.
— Где же ты услыхал его, духопровидец? — спросил Иаков, — ему не нравилось, что брату являются призраки, и он тоже хотел уже возвратиться на озеро к своим лодкам. — Где ты услыхал его, скажи на милость?
— В сердце моем, — ответил младший брат. — Оно предвидит, оно предчувствует…
Иаков и Петр пожали плечами, но тут вмешался хозяин таверны.
— Парень прав, — сказал он. — Нечего пожимать плечами! Я слышал, будто Ноев Ковчег знаете что такое? Сердце человеческое! Там внутри пребывает Бог со своими созданиям. Все якобы захлебывается в воде и идет ко дну и только Ковчег плывет вместе со своим грузом. Ему все известно — да уж, не смейтесь! — ему все известно, сердцу человеческому!
Заиграли трубы, народ на улице раздался в стороны, поднялся крик. Ученики, словно ужаленные бросились к двери.
Прекрасные юноши левиты несли шитые золотом носилки, внутри которых возлежал, поглаживая бороду, облаченный в шелковые одежды, с лоснящимся от жира лицом, на котором отображалась прожитая беззаботно жизнь, с пальцами, унизанными золотыми перстнями, тучный вельможа.
— Каиафа! — сказал хозяин таверны. — Старый козел, первосвященник. Закройте носы, ребята, — рыба гниет с головы.
Он зажал нос и сплюнул:
— Снова направляется в свои сады нажраться, напиться, порезвиться со своими женщинами и мальчиками. Эх, да будь я Богом! Говорят, мир уже вист на волоске, так я бы оборвал этот волосок — да, клянусь вином! — оборвал бы его и катился бы мир к Дьяволу!
— Пошли отсюда! — снова сказал Петр. — Здесь для нас добром не кончится. Мое сердце тоже имеет уши и глаза и потому кричит мне: «Уходите! Уходите, злополучные!»
Сказав, что он услышал собственное сердце, он и вправду услышал его, испугался, вскочил, схватил из угла первый попавшийся посох. Все тоже вскочили и, видя испуг Петра, тоже перепугались.
— Если он придет, Симон, — ты ведь знаком с ним — скажи, что мы направились в Галилею, — дал поручение Петр.
— А платить кто будет? — обеспокоенно спросил хозяин таверны. — Головка, вино…
— Ты веришь в загробную жизнь, Симон Киренянин? — спросил Петр.
— Верю.
— Так вот, даю тебе слово, — а если хочешь, дам его тебе и в письменном виде, — там я тебе и заплачу.
Хозяин таверны почесал свою огромную голову.
— Как?! Разве ты не веришь в загробную жизнь?! — строго спросил Петр.
— Верю, Петр, верю. Но не настолько…