Глава 6
Реванш разума
Начало конца
Итак, в начале 1950-х годов этология из узкого кружка посвященных быстро превращалась в респектабельное научное направление, а присутствие школы Павлова в мировой науке о поведении стало почти незаметным. А что же бихевиоризм, историю которого мы проследили как раз до этого момента?
В древнегреческой философии есть такое понятие – акмэ. Оно означает наивысшую точку подъема и расцвета какого-либо явления, но подразумевает, что в этой точке уже проступают черты будущего упадка: то, что она – наивысшая, означает, что дальнейшее движение будет только вниз.
Для бихевиоризма таким акмэ стали годы с конца 1940-х до середины 1950-х. Он безраздельно господствовал в Америке и приобрел множество сторонников в Европе. Он мог позволить себе просто игнорировать альтернативные направления в психологии и науках о поведении, считая их недоразумением и анахронизмом. Со столь же царственным пренебрежением он относился к критике «изнутри» – со стороны немногочисленных вольнодумцев в собственных рядах. Идеи и понятия бихевиоризма вышли далеко за пределы наук о поведении, влияя на идеологию других областей науки.
Приведем только один пример. Известно, что история искусственного интеллекта как научной проблемы начинается с 1950 года – с выхода знаменитой статьи Алана Тьюринга, в которой замечательный английский математик и один из основателей кибернетики предложил простой и ясный критерий интеллекта: машина считается обладающей разумом, если она способна делать все то, что человек (по его собственному мнению) делает при помощи разума. Даже из простого сравнения этого критерия с манифестом Уотсона видно их явное сходство: в обоих случаях нам предлагают отказаться от попыток выяснения внутренних процессов, управляющих поведением объекта, и сосредоточиться только на внешних проявлениях этого поведения. Причем совпадения этих внешних проявлений вполне достаточно для признания самих объектов эквивалентными друг другу: если нечто выглядит как лягушка, прыгает как лягушка и квакает как лягушка, то это лягушка. Но подход Тьюринга связывает с бихевиоризмом еще более прямое и близкое родство – помните «психические машины» Халла, которые путем обучения должны были освоить любые интеллектуальные операции, доступные человеку? Правда, если Халл считал создание таких устройств чисто инженерной задачей ближайших лет, то Тьюринг спустя два десятилетия рассматривал лишь принципиальную возможность их существования. Тем не менее, по сути, вся последующая полемика вокруг критерия Тьюринга – лишь ответвление старого спора между бихевиоризмом и «ментализмом».
Статья Тьюринга – только один из примеров влияния бихевиоризма на другие области знания и в конечном счете – на интеллектуальный климат эпохи. Казалось, интеллектуальная мощь и влияние бихевиористского подхода будут только возрастать, не зная ни преград, ни соперников. Но в то же время смежные науки и соперничающие направления все чаще и громче задавали вопросы, на которые невозможно было ответить в рамках бихевиористских представлений.
Выход на научную арену этологии вновь привлек внимание поведенщиков разных направлений к проблеме врожденного поведения. Этот вопрос стоял перед бихевиористской теорией с момента ее формирования – и всегда был чрезвычайно неудобным для нее. Как мы помним, бихевиористы пытались свести его к анатомии: если животное делает что-то без обучения, значит, его строение «заточено» именно под такие действия. Но это объяснение с самого начала наталкивалось на трудности даже в простейших и общеизвестных случаях. Например, у людей при рождении нет никаких анатомических или физиологических различий между правой и левой рукой, но почему-то большинство людей вырастает правшами и почти все – с предпочтением одной из рук. Уотсон в конце концов от этой проблемы просто отмахнулся: это, мол, всего лишь социальное обучение, если бы левшей вовремя учили, как надо, они бы выросли правшами, впрочем, переучить никогда не поздно. Для феномена право- и леворукости такое объяснение еще можно было принять – при очень большом желании и старательно закрывая глаза на неувязки. Но попробуйте объяснить чем-нибудь подобным поведение личинки угря, вылупившейся из икринки в Саргассовом море и уверенно плывущей оттуда в никогда не виденные ею Двину, Дунай или Темзу! Или действия любого из шестиногих героев Фабра. Например, триунгулина, ловко вспрыгивающего на первую встреченную им в жизни пчелу и почему-то не пытающегося оседлать какое-нибудь другое насекомое, кормящееся на том же цветке. Или осы тахита, безошибочно поражающей первым ударом жала именно тот нервный узел богомола, что управляет его грозными «руками». А откуда самец чомги, олуши, серого гуся, серебристой чайки или любой другой птицы со сложным брачным ритуалом знает все те движения и позы, которые он демонстрирует самке, – и откуда самка знает, как реагировать на эти демонстрации? А между тем этологи (множащиеся в Европе и появляющиеся даже в Америке) описывали все новые образцы сложного врожденного поведения и доказывали несводимость их к внешним стимулам и индивидуальному опыту. Как мы видели в интермедии 2, представители неортодоксального околобихевиористского направления попытались обойти эту трудность, дискредитировав само понятие врожденного поведения. Но без особого успеха: никакие изощренные рассуждения не могли отменить того факта, что существует множество сложных и эффективных действий, которые животные выполняют без всякого предварительного обучения. Мейнстрим же бихевиоризма предпочел просто игнорировать эту проблему.
Но отвернуться от всех неразрешимых трудностей не получалось – они появлялись с самых разных сторон. Как раз в конце 1940-х стали приобретать известность работы швейцарского психолога Жана Пиаже. Главным предметом его интересов была психология детей, ее последовательное развитие с возрастом. И конечно же, при такой направленности интересов он никак не мог пройти мимо феномена игры.

Рассказ о работах Пиаже, даже самый краткий, выходит далеко за рамки темы этой книги. Для нас сейчас существенно, что как этологи внесли (или, точнее, вернули) в психологический и поведенческий дискурс проблему врожденного поведения, так Пиаже и его сотрудники внесли в него проблему игры. А с игрой в бихевиористской парадигме все было еще хуже, чем даже с инстинктами: если существование врожденного поведения всего лишь противоречило основам бихевиористской теории, то игра вовсе не могла быть описана в понятиях и терминах бихевиоризма. Что является стимулом для играющих детей? Игрушка? Но одна и та же картонная коробка может быть и королевским дворцом, и пещерой, и космическим кораблем, ничуть при этом не меняясь физически. И наоборот: в руках мальчика, которому родители запретили всякое игрушечное оружие, самые разные предметы – карандаш, метла, хлебный батон – волшебным образом превращаются в вожделенный меч. А другой мальчик, воспитанник еврейского пацифистского детского сада (где игрушки-оружие тоже были запрещены), своими руками – точнее, зубами – превратил квадратный лист мацы в подобие автомата.
Но ведь играют не только человеческие дети и вообще не только дети. Почему щенок ловит свой хвост? Ошибочно принимает его за добычу? Но почему он тогда не учится, не исправляет эту ошибку? Почему взрослая кошка увлеченно играет с пойманной мышью, вместо того чтобы съесть ее – что она, возможно, в итоге и сделает и что сделала бы немедленно, будь она более голодной? Какой стимул приостанавливает пищевое поведение и включает вместо него игровое? И что тут служит подкреплением?
Беспомощность в таких случаях подхода «стимул – реакция» – еще полбеды. Важнее, что при попытке описать эти явления в бихевиористских понятиях (и вообще в рамках «функционального», неморфологического взгляда на поведение) напрочь пропадает их специфика – то самое, что позволяет нам считать все эти разнородные действия игрой. Игра как особый вид поведения исчезает, а конкретные игры отождествляются с теми формами «серьезного» поведения, которые они имитируют. Ловля собственного хвоста превращается в «охотничье поведение», баюканье куклы – в «материнское». А азартный бой подушками в спальне детского лагеря – в «агрессивное». Однако разница между «понарошку» и «взаправду» ясна не только пятилетнему ребенку, но и трехмесячному котенку – и только докторам психологии путем многолетней упорной работы над собой удается научиться ее не понимать!
Примерно одновременно с работами Пиаже в англоязычной психологии стали известны работы другого выдающегося исследователя – советского психолога Александра Лурии. На протяжении своей долгой и плодотворной научной жизни Александр Романович занимался разными областями психологии. Но именно в первые послевоенные годы он обратился к старой проблеме локализации психических функций – «привязки» их к конкретным структурам мозга. Причины, по которым он занялся этой темой, были очевидны и печальны: только что прошедшая чудовищная война предоставила обширный материал для такого рода исследований – множество людей с четко локализованными травмами и разрушениями самых разных участков головного мозга (и прежде всего коры больших полушарий). А вот результаты оказались весьма нетривиальными: они позволяли судить не только о функциях того или иного участка коры, но и о том, что всегда интересовало Лурию, – о структуре психических процессов. Лурия обнаружил, в частности, что при поражении лобной доли больших полушарий мозга у человека сохраняются все базовые психические функции: восприятие, речь, память, способность к счету и т. д. Но при этом любое собственное действие – например, пересказ короткого рассказа или даже просто нажатие кнопки по световому сигналу – оказывается для него чрезвычайно трудным, а то и невыполнимым. Лурия предположил, что мозг таких пациентов, располагая всей необходимой для выполнения подобных заданий информацией и двигательными навыками, не может составить из этих знаний программу собственных действий. И что специфическая функция лобных долей мозга человека заключается именно в составлении и последующей реализации таких программ.
Замечательные открытия Лурии, заложившие основы современной нейропсихологии и до сих пор стимулирующие мысль исследователей, конечно, тоже лежат за пределами нашей темы. Для нас сейчас важно, что, когда Лурия опубликовал свои результаты и предположения в международной научной прессе, американским читателям его статей прежде всего бросалось в глаза резкое противоречие его выводов постулатам бихевиоризма. Мы же помним, что «никаких центрально инициированных процессов не существует», что головной мозг – это не более чем телефонная станция, передающая вызванное внешними стимулами раздражение на нервы, идущие к мышцам и другим исполнительным органам. И вот нате вам, пожалуйста: оказывается, даже простейшее действие – нажать кнопочку, когда загорится лампочка, – невозможно без такого «центрально инициированного процесса» – выработки программы. Хотя и с восприятием стимула, и с управлением мышцами все в порядке.
При своем рождении бихевиоризм обещал когда-нибудь бросить всю психолого-поведенческую область к ногам физиологии – свести все поведение к физиологическим процессам. Неблагодарная дисциплина, однако, не оценила обещания пылкого поклонника. Вооружившись новыми точными приборами, она принялась наносить удар за ударом по бихевиористским построениям. В 1949 году Джузеппе Моруцци и Хорас Мэгун обнаружили спонтанную, не вызванную никакими внешними стимулами активность некоторых нейронов мозга – ту самую, существование которой еще в середине 1930-х постулировал на основании косвенных данных Эрих фон Хольст и которую Лоренц положил в основу своей модели поведения. А два года спустя было показано, что поведенческие акты не могут быть цепочкой рефлексов, где окончание предыдущего запускает следующий: время, необходимое на реализацию такой цепочки (с учетом скорости движения сигнала по нервному волокну и через межклеточные контакты – синапсы), должно было бы в разы, а то и на порядок превышать реально наблюдаемое время выполнения сложных действий. Значит, поведение организовано как-то по-другому – вероятнее всего, из мозга в мышцы поступает уже готовая программа целостного акта. Игнорировать эти данные было особенно трудно: их получил не какой-нибудь европейский чудак-натуралист, даже не уважаемый, но далекий от проблем поведения физиолог, а уже знакомый нам по главе 5 Карл Лешли – один из столпов бихевиоризма, ученик и бывший сотрудник Уотсона!
Обезьянки доктора Харлоу
Еще один удар пришел тоже изнутри бихевиористского сообщества – из лаборатории доктора Харри Харлоу в Висконсинском университете. Харлоу, к тому времени уже снискавший известность в кругах бихевиористов работами, доказавшими, что животное можно «обучить учиться», пытался выяснить, насколько велика способность обезьян учиться путем подражания родителям и вообще окружающим. Для этого нужны были обезьяны, никогда с момента рождения не контактировавшие ни с соплеменниками, ни с людьми. Вырастить их казалось чисто технической задачей: ведь бихевиористская теория гласила, что привязанность новорожденного к матери – это самый обычный условный рефлекс с подкреплением в виде молока. А значит, для нормального развития младенцу нужны лишь полноценное питание, покой и при необходимости – медицинская помощь.
Однако в светлой просторной комнате, где не было никого, кроме них, детеныши макак вели себя совсем не так, как в присутствии матерей. Точнее сказать, они никак себя не вели. Маленькие обезьянки часами лежали без движения, сжавшись в комочек где-нибудь в углу и даже не интересуясь яркими игрушками. Ученые не могли обнаружить никаких следов игры или исследовательской активности, столь характерных для юных резусов в обычных условиях. Несмотря на обильное и полноценное питание, рост таких детенышей резко замедлялся, если не прекращался вовсе. (Позже, после публикации этих результатов, специалисты-педиатры обратили внимание, что все это удивительно похоже на знаменитый «приютский синдром» человеческих детей-сирот. Подобное состояние не раз было описано в медицинской литературе, но его причины оставались непонятными до работ Харлоу.)
В ходе дальнейшей работы выяснилось, что обезьяньего ребенка все же можно вырастить без матери. Надо только, чтобы в его распоряжении было что-то теплое и мохнатое – к примеру, большая мягкая кукла-обезьяна. У плюшевой «мамы» может не быть ни рук, ни ног – лишь бы было лицо и шерсть, за которую можно уцепиться. Приемыши сначала повисали на искусственной маме, а потом, держась за нее задней лапой или даже просто касаясь ее хвостом, принимались исследовать окружающее пространство. Вскоре они свободно передвигались по комнате, но при любой неожиданности (скажем, заводной заяц начинал барабанить) тут же кидались «к маме на ручки».
Некоторым детенышам предлагались две «мамы» – одна плюшевая, но без всякой еды, а другая проволочная, но с молочной бутылкой. Все подопытные обезьянки проводили почти все время на мягкой кукле, а на жесткую забирались только на время кормления. Это означало, что весь данный комплекс поведения врожденный и не имеет никакого отношения к условным рефлексам и «пищевому подкреплению».
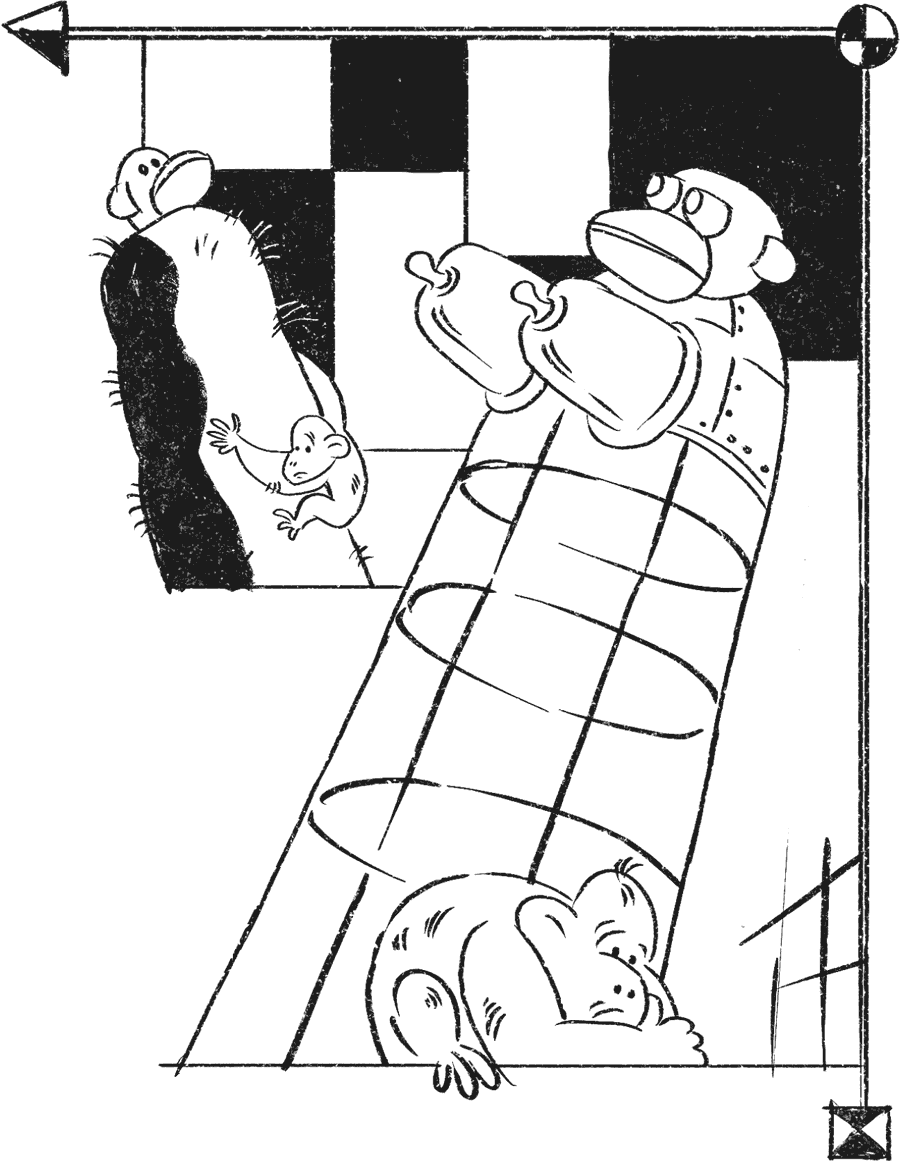
Однако, став взрослыми, питомцы плюшевых мам обнаружили неспособность к нормальным отношениям в стае. Они боялись сородичей и сторонились их, иногда впадали в явно неадекватную обстоятельствам ярость. Обычные для обезьян дружественные контакты – взаимная чистка шерсти, совместные игры и т. д. – оставались им совершенно недоступны. То же самое касалось поведения сексуального: они совсем не понимали заигрываний и кокетства и не умели на них ответить.
Харлоу и его сотрудники все же добились беременности некоторых таких самок (сконструированную для этого специальную установку в лаборатории откровенно именовали rape frame – «рама для изнасилования»). Но и родив, мамы-сироты не знали, что делать с собственными детенышами. Они бросали их где попало, швыряли, кусали. Одна такая горе-мамаша, раздраженная слишком настойчивыми криками малыша, просто раскусила ему голову, как орех. После этого случая исследователи забрали детенышей у других самок-сирот, убедившись, что только так их можно спасти от верной гибели.
Последующие специальные исследования показали, что дело тут не в обучении или подражании. Для формирования нормального социального, сексуального и родительского поведения детенышам макак необходим и достаточен именно постоянный телесный контакт с матерью в раннем детстве, возможность же наблюдать поведение взрослых обезьян никак не влияла на этот процесс.
Помните амбициозные обещания Уотсона? «Дайте мне дюжину здоровых, нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить, и я гарантирую, что, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля – врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором…» По сути дела, Харлоу нечаянно воплотил этот мысленный эксперимент в реальность. Результат оказался однозначным: в «особом мире» Уотсона, свободном от всех «неконтролируемых влияний», включая материнскую ласку, из «здоровых, нормально развитых младенцев» не удалось бы вырастить ни адвокатов, ни врачей, ни торговцев, ни даже попрошаек и воров. Если бы им вообще удалось вырасти в этом мире, то только глубокими психическими инвалидами. А явное сходство состояния маленьких обезьянок в опытах Харлоу с «приютским синдромом» не позволяло спрятаться за дежурной сентенцией о недопустимости механического переноса на человека результатов, полученных на животных.
В 1958 году Харлоу опубликовал большую статью о своих экспериментах и их результатах. Он вовсе не собирался ниспровергать основы, но он был настоящим ученым – наблюдательным и интеллектуально честным. Столкнувшись с феноменом, который никак не мог быть объяснен в рамках бихевиористских представлений, он не только изложил неудобные факты, но и сделал из них неудобные выводы. Один из его публичных докладов по материалам работы с обезьянами-сиротами назывался коротко и крамольно: «Природа любви». Понятия, беспощадно изгнанные полвека назад Уотсоном из науки о поведении, триумфально возвращались в нее – без них понимание поведения оказалось невозможным.
Когнитивная (контр)революция
Впрочем, к моменту публикации ошеломляющего открытия Харлоу в американском психологическом сообществе уже не первый год разгорался открытый мятеж против основ бихевиоризма. Все больше молодых психологов отказывались подчиняться ограничениям «программы Уотсона» – и прежде всего запрету на исследование и даже обсуждение психических процессов. Они опирались не только на работы Пиаже, Лурии и других видных психологов небихевиористской традиции, но и на широкую коалицию единомышленников, представлявших самые разные дисциплины: математику, нейрофизиологию, философию, лингвистику. И едва ли не первой в этом списке стояла молодая и невероятно модная в те годы кибернетика. Наука, всего несколько лет назад выглядевшая едва ли не воплощением правильности бихевиористского подхода (если функции, традиционно считавшиеся психическими, могут выполнять технические устройства, по определению лишенные всякого подобия «души», то какой смысл в изучении психики?), теперь воспринималась как свидетельство его неоправданной ограниченности. В самом деле, если можно строить машины, способные к довольно сложному преобразованию информации, – почему же нельзя изучать аналогичные процессы в живых организмах? Кибернетики уже пишут программы, моделирующие те или иные интеллектуальные умения человека – от логических рассуждений до игры в шахматы, – а психологи даже не могут им сказать, похожи или нет машинные алгоритмы на то, как это делает человек, поскольку над ними сорок лет тяготеет табу на изучение таких процессов! Можно ли дальше терпеть такое положение?
Прежние рассуждения о том, что психология, как и всякая наука, должна заниматься только наблюдаемыми явлениями, больше не казались убедительными. «Считать психологию наукой о поведении – все равно что считать физику наукой о показаниях счетчиков!» – ядовито резюмировал будущий классик лингвистики Ноам Чомски (в ту пору создававший собственную теорию языка и тоже ощущавший необходимость как-то работать с тем, что стоит за речью). В самом деле, физики так ведь и не увидели ни одного атома, однако если кто-то сомневается в реальности атомов – пусть попробует, не прибегая к этому понятию, объяснить, что же произошло в Хиросиме и Нагасаки!
Кульминационным моментом этого мятежа принято считать междисциплинарный симпозиум, прошедший в сентябре 1956 года в Массачусетском технологическом институте. Дело было даже не в том, что в один лишь день симпозиума – 11 сентября – были доложены минимум три работы, ставшие вскоре классикой в своих дисциплинах: кибернетики Аллен Ньюэлл и Херберт Саймон рассказали о созданной ими компьютерной модели «Логик-теоретик», лингвист Ноам Чомски – о своей теории «порождающей грамматики», а психолог Джордж Миллер – об ограничениях способности человека к оперированию единицами информации (знаменитой «семерке Миллера»). Гораздо важнее другое: на симпозиуме окончательно сложилось (и вскоре было закреплено институционально) ощущение, что все собравшиеся ученые исследуют в каком-то смысле одно и то же – когнитивные процессы. Эти слова и стали знаменем нового междисциплинарного научного направления.
Несколько позже и эти события, и сложившееся в ходе их направление получили название «когнитивной революции». Однако один из лидеров этой революции, Джордж Миллер, много лет спустя писал: «Когнитивная революция в психологии была по своей сути контрреволюцией», – имея в виду, что она стала в известном смысле возвращением к тому, что было низвергнуто в 1910–1920-х годах «бихевиористской революцией».
Нужно сказать, что поначалу когнитивная революция носила довольно локальный характер. Ее энтузиасты не пытались доказать реальность и доступность для исследования эмоций, образов, воли и прочих психических явлений, которые нельзя было представить как «процессы переработки информации». А поскольку изучать такие процессы гораздо удобнее у человека, чем у животных, первоначально интересы когнитивистов были сосредоточены почти исключительно на «человеческой» психологии и не касались поведения животных. Прошло около десяти лет, прежде чем волна когнитивной революции докатилась и до этой области – о чем речь еще впереди.
Тем не менее косвенно когнитивная революция сразу же повлияла на положение дел в науках о поведении животных, поскольку в результате бихевиоризм окончательно утратил монопольное положение в этой области. Теперь он уже не мог высокомерно игнорировать бросаемые со всех сторон вызовы. Ему нужно было искать на них ответы. И какое-то время казалось, что он их нашел.
Парадигма играет в ящик
По всей логике ситуации и согласно «законам обучения», сформулированным самой бихевиористской доктриной, последняя должна была адаптироваться к меняющейся обстановке, пойдя на какие-то теоретические компромиссы. В действительности, однако, произошло нечто обратное: именно в 1950-е годы в бихевиористском сообществе формируется и выдвигается на роль ведущего идейного течения своеобразный теоретический фундаментализм – бескомпромиссный возврат если не к букве, то к духу первоначального уотсоновского радикализма. Главным идеологом и живым знаменем этого направления становится самый знаменитый бихевиорист всех времен и народов – Бёррес Фредерик Скиннер.
Собственно говоря, Скиннер пришел в науку о поведении намного раньше: его первые серьезные работы опубликованы еще в начале 1930-х, а книга, где его взгляды изложены наиболее полно, – «Поведение организмов» – вышла в свет в 1938-м. Но именно в 1950-е Скиннер выдвигается в лидеры бихевиористского мира. Отчасти это связано с его переходом в 1948 году из провинциального Индианского университета в престижнейший Гарвард, отчасти с опустевшим «престолом»: в 1950-е годы один за другим умерли наиболее видные бихевиористы первого поколения – Кларк Халл, Эдвард Толмен и сам Джон Уотсон. Но, думается, и без этих обстоятельств Скиннер стал бы в это время фигурой № 1 в американской психологии. В периоды разброда и шатания всегда особенно велик спрос на харизматичных лидеров с радикальными идеями и непробиваемой уверенностью в них. Кроме того, Скиннер предложил простое и красивое решение хотя бы части теоретических затруднений бихевиоризма. Причем найденное не на путях идейных уступок ненавистному «ментализму» и допуска с черного хода «ненаблюдаемых сущностей», а внутри самой доктрины.
Впрочем, одно небольшое отступление от основ Скиннер все же допустил. Полностью разделяя взгляд на внешние стимулы как на причину любого поведенческого акта, он признавал спонтанную активность организма. По Скиннеру, всякое животное постоянно совершает небольшие случайные движения – операнты, не имеющие ни цели, ни конкретной причины, что-то вроде тепловых колебаний в физике. Их роль в поведении аналогична роли генетических мутаций в эволюции: сами по себе они ничего не значат, но если какое-то из этих движений приводит к успеху (случайно задев рычаг, животное получает вознаграждение), оно закрепляется и в следующий раз воспроизводится уже целенаправленно, движения же, не приводящие к успеху, выбраковываются. В общем, все по Дарвину (на которого Скиннер прямо ссылался): надстраивая новые элементарные действия над ранее закрепленными, животное может сформировать сколь угодно сложное и совершенное поведение – как эволюционирующий вид способен приобрести сколь угодно сложные и совершенные структуры.
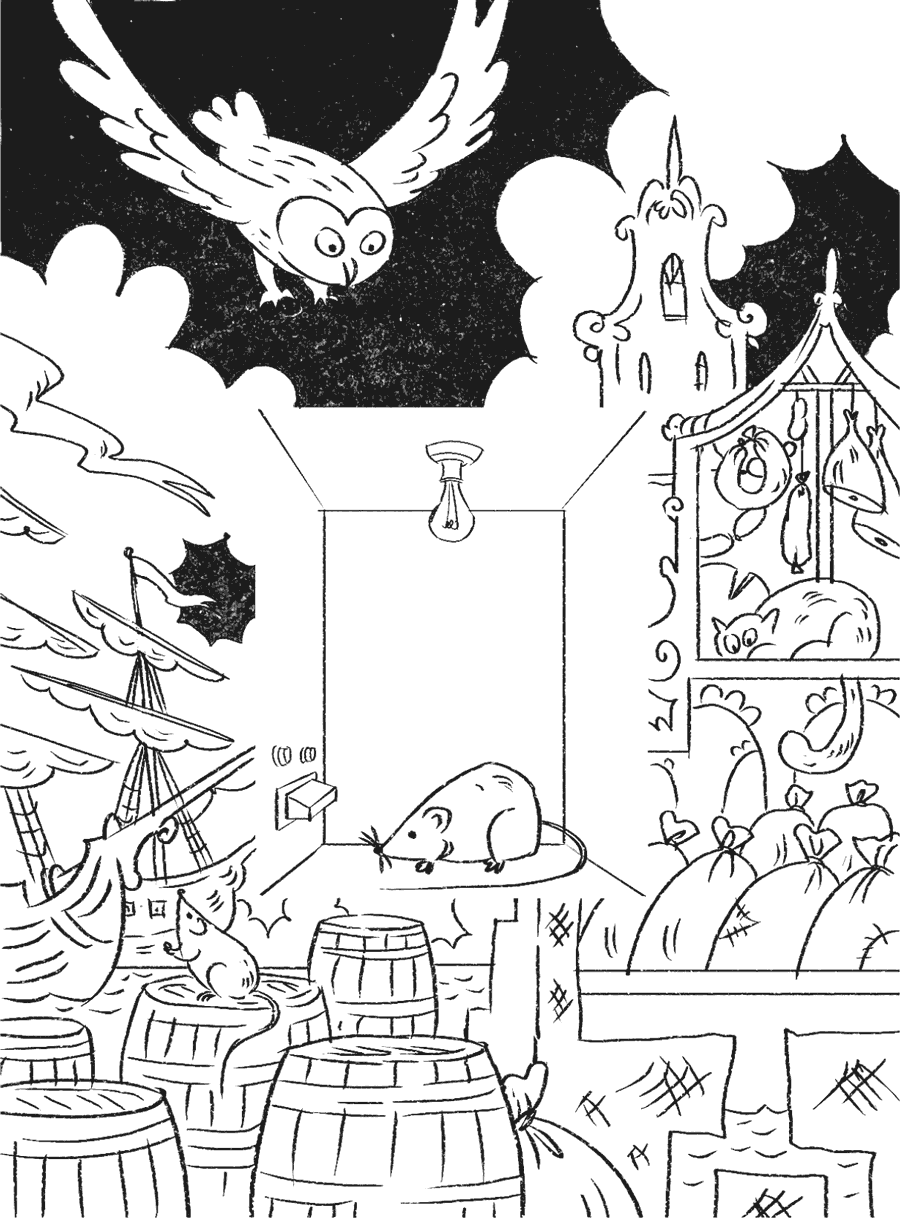
Хуже всего было то, что эта теория вполне успешно описывала поведение модельного животного в экспериментальной ситуации – белой крысы в тесной клетке с рычагами (известной ныне как «ящик Скиннера»). В самом деле, посмотрим на эксперимент с точки зрения крысы, впервые попавшей в такой ящик. У нее нет ни врожденных реакций на какие-либо детали окружающей обстановки, ни собственного опыта, связанного с ней. Ей некому подражать, она не может даже ориентироваться на следы своих предшественниц: скрупулезный экспериментатор тщательно протер клетку спиртом, чтобы исключить такое влияние. При этом крыса встревожена (незнакомое освещенное помещение всегда вызывает у грызунов тревогу) и голодна (об этом специально позаботился экспериментатор). Ей остается одно – включить программу поискового поведения, начать активно обследовать свою тюрьму. И конечно, рано или поздно она – носом ли, лапой или хвостом – заденет заветный рычаг.
Иными словами, экспериментатор не обнаружил соответствие поведения животного своей теоретической схеме, а добился такого соответствия, лишив животное возможности вести себя как-либо иначе. С таким же успехом можно было бы, растя птиц в трубах, где они не могут расправить крылья, утверждать, что птицам для передвижения крылья вовсе не нужны, а так называемый полет есть вредный миф и пережиток донаучных представлений. По сути дела, всякое изучение поведения в «ящике Скиннера» – это изучение артефакта (как и расценивали бихевиористские опыты еще в 1930-е годы основатели этологии). И наоборот: любое проявление естественного поведения в бихевиористском эксперименте неизбежно превращается в источник методологической «грязи». Чем эксперимент чище, чем надежнее экспериментатор контролирует все его параметры, тем меньшее отношение имеет его результат к реальному поведению. «Камера Скиннера – это способ бескровной декортикации, который воздействует как на животное, так и на экспериментатора, причем на последнего – необратимо», – ядовито заметил по этому поводу известный американский невролог Ганс Лукас Тойбер.
В определенном смысле это походило на докоперниковскую астрономию. Как известно, система Птолемея неплохо описывала видимое движение солнца, луны и звезд, но пять известных тогда планет двигались по совершенно немыслимым траекториям. Чтобы описать их, средневековые астрономы ввели понятие эпицикла: мол, планета движется вокруг некой точки, которая сама вращается вокруг Земли вместе с прочими светилами. Расчетные траектории усложнились, но еще были слишком далеки от реальных. Астрономы ввели эпициклы в эпициклах: планета вращается вокруг центра, он – вокруг другого центра, а уже тот – вокруг Земли… В поздних трактатах дело доходило до эпициклов четырнадцатого порядка, а общее число орбит, необходимых для описания движения пяти планет, – до 75. И чем точнее то или иное нагромождение эпициклов описывало видимое движение планеты, тем дальше оно было от ее истинной траектории.
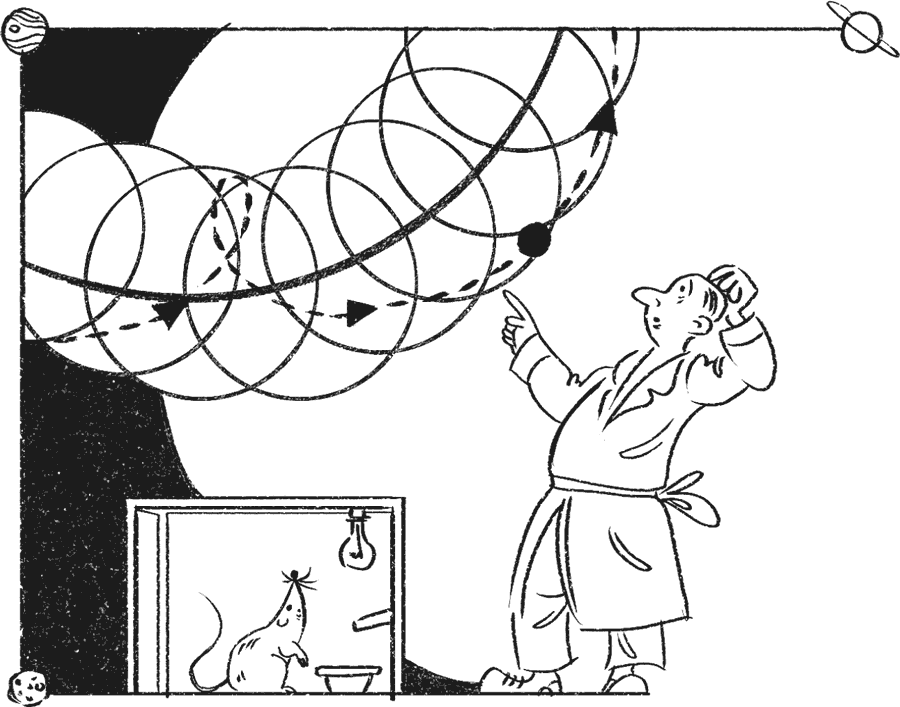
Та же судьба ждала и теорию Скиннера: она могла развиваться только в сторону все большего удаления от реального поведения. Но на первых порах скиннеровская уверенность в себе и способность выдвигать правдоподобно выглядящие модели и теоретические схемы произвели впечатление: на какое-то время многим показалось, что бихевиоризм полон творческих сил и способен справиться со всеми брошенными ему вызовами. Оправдывая эти ожидания, Скиннер в 1957 году выпустил книгу «Словесное поведение». В ней он замахнулся на решение проблемы, которая на протяжении всего времени существования бихевиоризма оставалась для него неустранимой трудностью: феномен человеческого языка. Точнее, человеческой речи – Скиннер, верный своим методологическим установкам, считал реальными только конкретные высказывания конкретных людей; «язык» же как целостный феномен, существующий и тогда, когда никто ничего не говорит, представлялся ему чем-то подозрительно похожим на очередную метафизическую фикцию, не подлежащую научному рассмотрению.
Так или иначе, Скиннер исходил из того, что речевая деятельность людей – это особая разновидность поведения, весьма специфичная, но обладающая всеми общими свойствами поведения и подчиняющаяся всем его законам. (В столь общем виде этот тезис совершенно справедлив – во всяком случае, мы не знаем ничего, что опровергало бы его.) А поскольку для бихевиориста любое поведение – это либо процесс научения (в котором можно выделить стимул, ответную реакцию и подкрепление), либо воспроизведение заученного навыка, Скиннер постарался увидеть все это в человеческой речи. Он ввел понятие «такта» – речевого операнта. По его мнению, человек постоянно генерирует (в раннем детстве вслух, позднее «про себя») разрозненные элементы речи – звуки, слоги, затем слова – точно так же, как крыса в клетке постоянно совершает мелкие ненаправленные движения. Совпадение некоторых из них с появлением определенных внешних стимулов получает подкрепление – в основном со стороны социального окружения, в исходном и самом важном случае – семьи, родителей. Если при появлении куклы ребенок произносит что-то похожее на слово «кукла», мать поощряет его – и связь между предметом и сочетанием звуков закрепляется так же, как у крысы закрепляется связь между нажатием рычага и кормом. В дальнейшем, уже овладев языком, человек так же строит новые комбинации слов – высказывания, проверяя их действие на окружающих и воспроизводя в дальнейшем те, которые были так или иначе подкреплены. Записной остряк повторяет каламбур, который уже вызвал смех в другой компании. Ученик на экзамене старается повторить ответ, который уже давал на уроке и получил хорошую оценку. И политик, выступая перед избирателями, говорит то, что (как следует из его предыдущего опыта) им понравится.
Вопрос, как же тогда объяснить существование людей, вновь и вновь, порой на протяжении десятилетий, повторяющих то, что у окружающих вызывает лишь непонимание и раздражение (основателей новых художественных стилей и направлений, авторов революционных научных идей, религиозных и социальных проповедников и т. д.), мы сейчас рассматривать не будем. Скиннер, конечно, предвидел такое возражение и попытался на него заранее ответить, но подробное рассмотрение этих ответов и их совместимости с его же собственными теоретическими постулатами заняло бы слишком много места. Обратим внимание на другое: в модели Скиннера совершенно исчезает, выпадает из рассмотрения феномен коммуникации – собственно, основная функция языка! Получается, что человек говорит те или иные слова не потому, что пытается что-то сообщить другим людям, а потому, что в прошлом за этим следовало нечто приятное. И совершенно непонятно, почему же окружающие поощряют одни и не поощряют другие (а иногда и те же самые – например, смешной, но уже известный анекдот) высказывания. В общем, как и в случае с игрой, феномен речи, будучи рассмотрен в бихевиористских понятиях, просто исчезал, протекал между пальцами, словно содержание картины, описанной как кусок холста таких-то размеров, покрытый слоем веществ такого-то химического состава.
Тем не менее «Словесное поведение» многим показалось настоящим прорывом в понимании языка – да и человеческого мышления в целом. Однако уже знакомый нам Ноам Чомски отнесся к этой книге совсем по-другому. В своем разборе, опубликованном в журнале Language через два года после выхода книги Скиннера, Чомски оценил ее как «упражнение в говорении двусмысленностей» и доведение бихевиористских теорий до абсурда. По мнению Чомски, понятия «стимул», «реакция», «подкрепление», ясные и однозначные в условиях лабораторного эксперимента, при применении к естественному повседневному поведению людей (и особенно – к речевому) расплываются до полной потери смысла. Вот, скажем, человек смотрит на картину и говорит: «Это Рембрандт, не так ли?» Согласно теории Скиннера, этот ответ определяется стимулом – картиной или, по крайней мере, какими-то ее отдельными свойствами и признаками. Но ведь другой человек (или даже тот же самый, но увидевший картину в другой момент жизни) может сказать что-то совсем другое – например, «Сколько это стоит?», «Это не гармонирует с обоями», «Вы повесили ее слишком высоко», «Это отвратительно!», «У меня дома есть точно такая же», «Это подделка» и т. д. Высказываний такого рода можно привести бесконечно много, все они звучат вполне естественно (и реально могут быть сказаны в описываемой ситуации), и ни Скиннер, ни кто-либо другой не может даже приблизительно угадать, что скажет конкретный человек под действием конкретного «стимула» – и скажет ли хоть что-нибудь вообще. Так какой тогда смысл в утверждении, что речевое поведение определяется стимулами?!
Нетрудно видеть, что этот аргумент бьет не только по скиннеровской интерпретации феномена языка, но и по самым основам бихевиористских представлений о поведении вообще. Что же касается собственно языка, то тут Чомски был особенно язвителен и беспощаден. Мол, профессор Скиннер считает, что обучение языку происходит методом проб и ошибок, за счет подкрепления случайных совпадений появления предмета с произнесением обозначающего его сочетания звуков? Что ж, давайте возьмем лабораторные данные по скорости выработки условных рефлексов и на их основе подсчитаем, сколько времени потребуется, чтобы таким путем овладеть хотя бы активным словарным запасом среднего пятилетнего ребенка. Несложные расчеты показывают, что, даже если заниматься таким тренингом непрерывно, на это уйдут многие тысячи лет. Между тем почти все дети успешно справляются с такой задачей к своим пяти годам, словно бы даже и не тратя на нее отдельного времени и сил.
Статья Чомски имела, пожалуй, не меньший резонанс, чем сама книга, поощряя и вдохновляя молодых революционеров-когнитивистов на полный разрыв с бихевиористской парадигмой. Некоторые современные историки даже полагают, что именно Чомски сыграл решающую роль в ниспровержении бихевиоризма: «Разум, изгнанный Дж. Уотсоном в 1913 году, вернулся в психологию усилиями стороннего человека – Ноама Чомски», – пишет Томас Лихи. Вероятно, это преувеличение, но можно согласиться, что в какой-то момент Чомски (столь же харизматичный и радикальный, как Скиннер) и в самом деле оказался неформальным лидером когнитивной революции.
Впрочем, сам Скиннер критику Чомски попросту проигнорировал – как он игнорировал и всякую другую критику. Он не вступал в полемику об основах своей концепции, заявляя, что он и его последователи не проверяют гипотез, а просто шаг за шагом распространяют экспериментальный анализ поведения на новые области. Скиннерианцы создали собственное отделение в APA, учредили два собственных журнала (понятно, что публиковались там исключительно работы скиннеровской школы, причем со временем в них становилось все меньше ссылок на ученых других направлений). Сам Скиннер открыто говорил, что его студенты должны быть девственно невинными во всех остальных направлениях психологии, включая даже столь идеологически нейтральные, как измерение психических параметров. Одним словом, начиная с конца 1950-х радикальные бихевиористы делали все, чтобы оказаться в научной резервации, своего рода идейном гетто.
Если дата рождения бихевиоризма, при всей ее условности, известна совершенно точно, то дату его смерти нельзя назвать даже приблизительно. Где-то в первой половине 1970-х работы тех исследователей, которые еще оставались верны теоретическим знаменам бихевиоризма, окончательно замкнулись в своем кругу и практически перестали влиять на развитие психологии и наук о поведении в целом. Со смертью Скиннера в 1990 году поредевшее и постаревшее бихевиористское сообщество окончательно выпало из поля зрения науки.
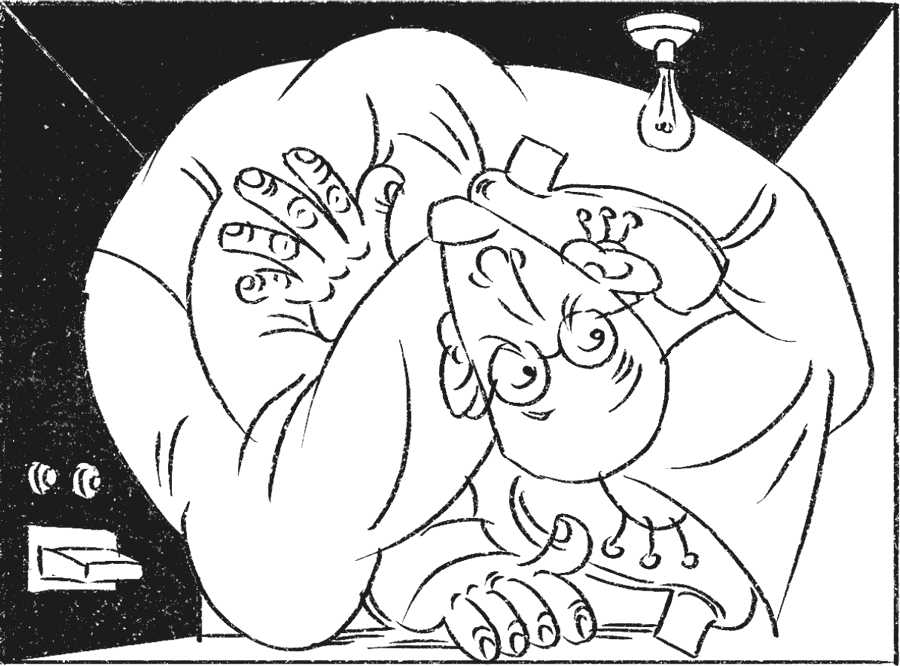
Вообще-то такое в науке случается не столь уж редко: некогда живое и плодотворное направление, выработав свой ресурс, превращается в окаменелость, в замкнутую секту, на которую окружающие смотрят с иронией и жалостью. Однако поразительным образом нарастающая самоизоляция школы «экспериментального анализа поведения» словно бы даже усиливала огромную личную популярность ее лидера. В 1972 году членов APA (которых к тому времени было уже почти сто тысяч) попросили назвать самых выдающихся психологов XX столетия. Первое место в этом рейтинговом голосовании уверенно занял Скиннер (Зигмунд Фрейд был только вторым). К тому времени бихевиоризм был уже фактически мертв: новые работы по «экспериментальному анализу поведения» появлялись только в скиннерианских журналах и почти не цитировались учеными других направлений. Но легенда о великом ученом пережила и его учение, и его научную школу, и его самого. После теоретической смерти бихевиоризму предстояла еще долгая и бурная загробная жизнь.
Алхимия поведения
История бихевиоризма как актуального научного направления в психологии и науках о поведении закончилась более сорока лет назад. Но наш рассказ о нем был бы неполон без рассмотрения наследия, оставленного десятилетиями господства бихевиористских взглядов как в академической науке, так и в других сферах, тем или иным образом связанных с поведением людей и/или животных. Наработанные бихевиоризмом подходы, идеи, понятия (или продукты их трансформации) можно обнаружить в самых разных сферах: от перинатальной медицины до кинематографа, от работ по искусственному интеллекту (о чем мы уже говорили в самом начале этой главы) до рекламного дела. Они стали общим местом, и те, кто с ними работает сегодня, обычно не задумываются об их бихевиористском происхождении или даже вовсе не подозревают о нем. Бросим на них хотя бы краткий взгляд – не претендуя на полноту и глубину охвата, но и не ограничиваясь одними только науками о поведении животных.
Как известно, научная химия напрочь отвергла алхимические теории, но включила в себя добытые алхимиками факты и созданные ими методы. Примерно такими же оказались отношения бихевиоризма и современных наук о поведении. Безусловной заслугой бихевиоризма можно считать вообще включение поведения в предмет психологии. Причем эта новация была более важной именно для «человеческой» психологии. Как мы видели в главе 2, экспериментальное изучение поведения животных было хоть и не слишком массовой, но уже обычной практикой и до манифеста Уотсона. А вот поведением человека как самостоятельным феноменом, как ни странно, не занимался практически никто. Для классической психологии, целиком сконцентрированной на явлениях сознания, это было излишним: зачем смотреть, что человек делает, и как-то это истолковывать, если можно просто попросить его рассказать, что он думает и что чувствует?
По сути дела, вся экспериментальная психология, столь бурно и плодотворно расцветшая в XX веке, выросла из программного бихевиористского тезиса «предмет психологии – поведение». Правда, смысл его изменился едва ли не на противоположный. В бихевиористской парадигме анализ поведения позволял обойтись без рассмотрения психики объекта исследования. Для современного же психолога-экспериментатора поведение – внешнее проявление психических процессов, позволяющее судить о них – в том числе и о тех их сторонах, которые скрыты от самого испытуемого.
Не вышли из обращения и разработанные бихевиористами устройства и методики для работы с животными: они стали стандартным инструментом исследования физиологических механизмов некоторых психических функций – прежде всего научения и памяти. Проводить острые физиологические опыты на людях не всегда удобно, а вот сравнить скорость выработки навыка или его сохранность у двух групп мышей, одну из которых подвергали какому-нибудь воздействию, вполне можно. И информативность такого сравнения ничего не теряет от того, что поведение мыши в экспериментальной камере имеет мало общего с ее естественным поведением.
Что касается идейно-теоретического наследия бихевиоризма, то на первый взгляд современные науки о поведении и его механизмах полностью от него отказались. Однако «духом бихевиоризма» явно веет от некоторых самых современных гипотез и концепций.
«Измеряя активность вашего мозга, я могу узнать, что у вас возникнет желание поднять палец, раньше, чем об этом узнаете вы сами… Мы думаем, что делаем выбор, в то время как на деле наш мозг этот выбор уже сделал. Следовательно, ощущение, что в этот момент мы делаем выбор, не более чем иллюзия. А если ощущение, что мы способны делать выбор, есть иллюзия, то такая же иллюзия – наше ощущение, что мы обладаем свободой воли», – пишет, например, современный британский нейробиолог Крис Фрит.
Основанием для столь фундаментального вывода служат знаменитые опыты Бенджамина Либета. В них испытуемого просили просто поднять палец «всякий раз, когда ему захочется это сделать». Одновременно фиксировалась активность его головного мозга. За полсекунды до того, как человек совершит движение, в определенных областях коры происходят характерные изменения мозговой активности: корковые нейроны отдают мотонейронам спинного мозга команду совершить движение. Но когда Либет попросил испытуемых сообщать ему о появлении у них намерения поднять палец, оказалось, что между появлением намерения и самим движением проходит всего 0,2 секунды. Иными словами, мы осознаем собственное желание, когда команда выполнить его уже отдана.
Сам Либет видит в этих результатах доказательство физиологической автономности сознания, его несводимости к процессам передачи и переработки информации между сенсорными и моторными областями мозга. Критики эксперимента резонно указывают: каким бы способом испытуемый ни сообщал о появлении у него намерения поднять палец, такое сообщение – тоже двигательный акт и, значит, тоже требует времени на реализацию. При желании можно интерпретировать опыт Либета и так, что сознание – это высшая инстанция, которой другие мозговые механизмы, занятые оперативным управлением текущими действиями, докладывают о принятых ими решениях, а она их утверждает или отменяет. То есть понимание этих опытов как аргумента против свободы воли, мягко говоря, не следует из собственно полученных в них фактов. Зато в таком толковании отчетливо слышна старая бихевиористская надежда доказать ненужность категории «сознание» для объяснения поведения и вообще как-нибудь обойтись в понимании поведения без субъекта.
Одно из самых замечательных открытий в науках о мозге и поведении за последние десятилетия – феномен так называемых зеркальных нейронов. Эти удивительные клетки активизируются и тогда, когда их обладатель совершает определенное действие (например, поднимает руку или берет какой-нибудь предмет), и тогда, когда он видит, что такое действие совершает кто-нибудь еще. Ученые полагают, что именно система зеркальных нейронов позволяет нам устанавливать соответствие между нашими собственными движениями и действиями других существ – что, в частности, позволяет нам учиться путем подражания и понимать намерения друг друга (помните феномен ритуализации из главы 4?). Однако некоторые видят в ней нечто иное. «Многие устоявшиеся представления об автономии человеческой личности явно находятся под угрозой из-за результатов нейронаучных исследований», – пишет, например, крупный специалист по зеркальным нейронам, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Марко Якобони, видя в изучаемых им клетках заветный рычаг внешнего управления человеческим поведением.
Рассмотрение связи между зеркальными нейронами и поведением требует отдельного обстоятельного разговора и во всяком случае выходит за пределы нашей темы. (Отметим лишь отличительное свойство зеркальных нейронов: их работа всегда сопровождает мысль об определенном действии – независимо от того, намерен человек это действие совершить или нет. А это означает, что решение о совершении действия принимают не они.) Нам сейчас важно другое – трудно не узнать в мнении маститого современного ученого настойчивые утверждения Уотсона: «…содержание сознания представляет собой всего лишь ощущения движений тела, которые свидетельствуют о поведении, а не являются его причиной».
Бихевиористское наследие отчетливо видно, в частности, и в концепции «социального научения» Альберта Бандуры – хотя само ее рождение было, по сути дела, таким же бунтом против основ бихевиоризма, как и работы Харлоу или когнитивная революция. Решительно отвергнув букву теории Уотсона, Бандура, однако, так и не вышел из-под влияния ее духа – взгляда на поведение как на процесс, управляемый внешними воздействиями. Но этот сюжет тоже требует отдельного подробного разговора, выходящего за пределы нашей темы.
Чтобы рассказать обо всем наследии бихевиоризма в прикладных областях – от спорта до повышения безопасности движения, от маркетинга до цирковой дрессировки, – нужно было бы писать отдельную толстую книгу. О самом, пожалуй, полезном применении бихевиористских идей – бихевиоральной терапии – речь пойдет в следующей подглавке. Здесь же я позволю себе остановиться на той сфере, где последствия влияния бихевиоризма оказались наиболее разрушительными.
Как раз на годы господства бихевиоризма приходится резкая смена общественных норм в отношении деторождения: в середине 1920-х три четверти родов в США проходили дома; три десятилетия спустя большинство новорожденных появлялось на свет в родильных отделениях больниц. Именно тогда в этих учреждениях утвердился стандарт minimal touch policy, требовавший свести к минимуму физические контакты матери и персонала клиники с новорожденным. Младенцев приносили матерям только для кормления, остальное время они были лишены всяких телесных контактов.
Трудно утверждать, что эта практика – прямой результат влияния бихевиоризма (примерно в те же времена она сложилась в СССР, где такого влияния не было, – и процветает до сих пор в постсоветских странах). Но именно бихевиоризм подвел под нее «научное обоснование». Мало того: он рекомендовал и в дальнейшем, после выписки из больницы, как можно реже брать детей на руки и вообще как-то соприкасаться с ними. В самом деле, согласно бихевиористской теории, если младенца брать на руки и укачивать всякий раз, как он заплачет, он очень быстро выучится плакать, чтобы его взяли на руки. А это, мол, избаловывает: ребенок привыкает, что все его желания немедленно исполняются, а надо воспитывать его в строгости и с первых дней жизни приучать к дисциплине. Тогда, мол, он вырастет дисциплинированным и законопослушным гражданином.
Как показали опыты Харлоу, неукоснительное выполнение этих рекомендаций обрекло бы детей на глубокие психические увечья. К счастью, у подавляющего большинства мам просто не хватало духу им следовать. Даже образованные, верящие в передовую науку американки, стыдясь собственной слабости и сердясь на себя, таскали и ласкали своих малышей, сюсюкали и пели им песни – и тем обеспечивали им нормальное развитие. (Тем не менее в Америке до сих пор бытует термин «скиннеризировать ребенка» – отучить его плакать и звать родителей.) Сегодня в американских клиниках становится общепринятым «метод кенгуру»: сразу после родов новорожденного кладут на живот матери и больше их уже не разлучают. Хотя одиозная minimal touch policy фактически продолжает применяться к детям с осложнениями – инфицированным, с врожденным иммунодефицитом и т. д.
Личный опыт бихевиоризма,
или Как я себя скиннеризировал
(совсем уж лирическое отступление)
При обсуждении бихевиоризма и его роли в истории развития знаний о поведении человека и животных почти всегда встает вопрос: почему же по крайней мере некоторые практические рекомендации бихевиористской теории успешно работают? Например, бихевиоральная терапия.
Помните эксперимент с Маленьким Альбертом? Под конец Уотсон и Райнер собирались вылечить малыша от страха перед белыми крысами тем же способом, которым привили ему этот страх, – сочетанием пугающего стимула с подкреплением, на сей раз положительным. Эксперимент был прерван досрочно, а позже Уотсон уже не возвращался к исследованиям, но идея не пропала: ученица Уотсона Мэри Кавер Джонс подхватила ее и развила на ее основе целую оригинальную систему психотерапии.
Суть состоит в следующем: если пациент чего-нибудь боится – например, мышей, – мы начнем с того, что будем показывать ему мышь издали и всякий раз при этом давать что-то, что ему очень нравится, – лакомство, игрушку и т. д. В следующий раз мышка придвинется чуть поближе. Если страх слишком силен, можно начинать не с реальной мыши, а с упоминания мышей в разговоре. (Так же поступают, если страх вызывает не объект, а ситуация – например, экзамен.) Так или иначе, в конце процесса пациент перестает выказывать какие-либо признаки страха, даже когда мышь скребется совсем рядом.
Бихевиоральная терапия широко применяется во всем мире, и найдется немало людей, которым она помогла. Можно было бы отмахнуться от этого возражения: точно так же в мире найдется немало людей, которым помогла гомеопатия, коррекция астрального тела или молитва. Кстати сказать, неврозы и фобии, против которых в основном и применяется бихевиоральная терапия, – идеальный объект для демонстрации эффективности любого плацебо: от них может помочь что угодно, лишь бы сам пациент верил, что данное средство поможет!
Это, конечно, правда, но не вся. Бихевиоральная, или поведенческая, терапия может помочь и тем, кто в нее не верит или даже не догадывается, что подвергается ей. И это я знаю совершенно точно, ибо сам невольно оказался таким пациентом. Теоретические взгляды моих целителей также не могли оказать влияния на достигнутый результат, так как их просто не было: моими терапевтами стали существа, не знакомые ни с бихевиоризмом, ни с другими психологическими теориями.
В детстве я очень боялся собак. Уже само появление незнакомой собаки меня напрягало, если же она начинала лаять (не обязательно на меня) – мое сердце уходило в пятки, даже если лающая собака была за забором или на поводке. По всем приметам я должен был возненавидеть собак – но этого почему-то не произошло. Возможно, потому, что я заметил: другие люди, в том числе и мои сверстники, не выказывают страха перед собаками – а значит, дело не в собаках, а во мне, в моей трусости. Но, вероятно, еще важнее было другое: собаки мне при этом вообще-то нравились, и когда я убеждался, что данный конкретный пес не собирается меня кусать, мне было приятно гладить его, бросать ему палку или мячик и просто находиться в его обществе.
В этом, собственно, и состояла бихевиоральная терапия, объектом которой был я. Конечно, она сильно отличалась от профессиональной: я не находился в состоянии мышечного расслабления, не было строгой постепенности нарастания терапевтического воздействия… Но в основе моих отношений с собаками лежал именно главный принцип бихевиоральной терапии – то, что Мэри Кавер Джонс называла «контробусловливанием»: регулярное сочетание пугающего стимула с положительным подкреплением. Почти все встретившиеся мне в жизни собаки успешно играли обе эти роли.
Неосознанное самодеятельное лечение растянулось на десятилетия, однако результат оказался превосходным. Сегодня я прохожу сквозь брешущую свору здоровенных бездомных дворняг и даже сквозь собачьи свадьбы, не выказывая ни малейших признаков тревоги. Люди, не знавшие меня в детстве, очень удивляются, узнав, что я когда-то боялся собак.
Картину омрачает только одно: я по-прежнему их боюсь. Мое отношение к ним не изменилось – изменилось только мое поведение. Я не избавился от страха перед собаками, а лишь научился блокировать его внешние проявления.
Скиннер, вероятно, сказал бы, что мой страх – величина ненаблюдаемая: коль скоро он никак не проявляется в поведении, то его просто нет. Конечно, это уже похоже на известную черную шутку «если больной связан, наркоз не обязателен»: обычно пациенты приходят к психотерапевтам (в том числе и бихевиоральным), чтобы излечиться в первую очередь от неприятных переживаний, а уж как следствие – от того поведения, на которое те их толкают. Но дело не только в этом. Мой страх не имеет внешних проявлений только для человека – да и то не очень наблюдательного. Всякий раз, когда на меня с лаем внезапно выскакивает незнакомая псина, мой организм исправно воспроизводит все вегетативные составляющие реакции испуга – в том числе резкое усиление потоотделения и изменение состава пота. Для любой собаки, не утратившей обоняния, мой страх должен быть так же очевиден, как если бы я бледнел и хватался за сердце.
Однажды я рассказал об этом профессиональному кинологу. В ответ он поведал мне, что у него в детстве был другой «пунктик»: самих собак он не боялся, но его буквально передергивало от прикосновения к собачьей шерсти. И возиться с собаками он начал именно для того, чтобы избавиться от этой дурацкой и неприятной фобии. Со временем он вырос в модного и авторитетного собачьего тренера, тонкого знатока собачьей психики и поведения. Но его фобия никуда не делась – хотя его клиенты, конечно, ничего не замечают. Его «бихевиоральная терапия», как и моя, позволила исправить поведение – но не отношение.
Здесь, впрочем, надо сделать одну оговорку. Строго говоря, мое отношение к собакам все-таки изменилось: круг ситуаций, в которых собака вызывает у меня страх, очень резко сузился по сравнению с детством. В большинстве случаев я теперь не только не выказываю испуга, но и в самом деле не испытываю его. Однако это стало возможным не благодаря «контробусловливанию», «реципрокному торможению реакций» или каким-нибудь еще бихевиористским механизмам, а исключительно потому, что за полвека общения с собаками я немного научился понимать их намерения. То есть благодаря именно тем феноменам – тому, что у собак есть намерения, и тому, что я способен их понять, – которые, согласно бихевиористской теории, вообще не должны рассматриваться.
И еще одно немаловажное уточнение: даже относительный успех моей нечаянной «бихевиоральной терапии» стал возможен лишь потому, что я этого хотел. Мне не нравилось собственное поведение, я хотел его изменить – и я его изменил. Если бы кто-то попытался сделать это со мной помимо моей воли, результат был бы скорее обратным. Такой опыт у меня тоже есть: начиная с трехлетнего возраста меня на протяжении нескольких десятилетий приучали рано вставать. И положительных подкреплений тоже хватало: в те времена, например, детские сеансы в кинотеатрах проходили (вероятно, именно из педагогических соображений) строго в 9 утра; на утро же ставились и почти все детские телепередачи. Тем не менее внутреннего желания перейти на «правильный» режим у меня так и не появилось – и я отказался от него сразу же, как только получил такую возможность.
Но, может быть, все это справедливо лишь для самодеятельной бихевиоральной терапии? Может быть, профессионалы способны изменить не только поведение своих пациентов, но и их внутреннее отношение?
Сами специалисты, однако, настроены скептически. «В поведенческом подходе, наоборот, лечится сам симптом… В более сложных, запутанных, „личностных“ случаях, касающихся не просто поведения, а ценностей и образа жизни… использование бихевиоральных методов неустойчиво и дает недолговременный эффект», – читаем мы на профессиональном психотерапевтическом сайте в разделе, специально посвященном бихевиоральной терапии.
Это, разумеется, не означает, что такая терапия не приносит никакой пользы. Я, например, немало выиграл от того, что выдрессировал себя не шарахаться от собак. Не говоря уж об удовольствии, полученном в процессе дрессировки.
Возвращаясь к чисто теоретической стороне вопроса, можно констатировать, что эффективность (в определенных отношениях) бихевиоральной терапии никак не свидетельствует о правильности породивших ее теоретических установок. Скорее наоборот: ее действие сводится к усилению произвольного контроля над поведением – то есть именно того, чего, согласно этим установкам, вообще не существует.
Слепящая объективность
Прежде чем окончательно проститься с одним из двух самых крупных и влиятельных направлений в исследовании поведения животных, следует подвести некоторые общетеоретические итоги. Почему направление, основанное на простых, разумных и почти самоочевидных исходных положениях, в конце концов вступило в явное противоречие с фактами или оказалось вовсе неспособным их описать? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется еще раз приглядеться к теоретическим основам бихевиоризма.
Ни во времена наибольшей популярности, ни тем более позже у бихевиоризма не было недостатка в критиках – в том числе и принципиальных, отвергавших весь подход целиком. Однако подавляющее большинство критических атак было направлено на единственный пункт бихевиористской программы: вывод из рассмотрения собственно психологической проблематики. В самом деле, что ж это за психологи, которые принципиально отказываются рассматривать какие бы то ни было психические явления? Какое они вообще право имеют называть себя психологами – то есть «исследователями души»?!
Претензия, безусловно, справедливая, но на первый взгляд чисто терминологическая. Даже во времена триумфального шествия бихевиоризма не все его приверженцы и лидеры принимали фанатический тезис Уотсона о том, что никакого сознания (а также мыслей, чувств, образов и вообще психических явлений) на самом деле нет, что все это – лишь респектабельные светские эвфемизмы для старой глупой выдумки о бессмертной душе. Многие, в том числе и самые видные, исповедовали так называемый «методологический бихевиоризм»: психические явления, может, в каком-то смысле и существуют, но никак не влияют на поведение, оно определяется не ими. С этой позиции остается один крохотный шажок до полюбовного согласия: пусть, мол, психология и дальше изучает эту самую психику, которая никакими объективными методами не фиксируется, ни на что не влияет и вообще то ли есть, то ли нет. Одна такая «наука» – теология – у нас уже имеется, ну пусть будет в пару к ней вторая. Мы же – не психологи, а поведенщики (ведь слово «бихевиористы» буквально означает именно это), мы бедны, да честны, изучаем то, что точно существует и доступно для изучения объективными научными методами, – поведение. Все в порядке, никто ни у кого хлеб не отбирает, мы просто занимаемся разным делом.
Займи бихевиоризм такую позицию – и для упрека в выхолащивании собственно психики не осталось бы никаких оснований. Никто же не упрекает, скажем, лингвиста, что он интересуется только языком древних рукописей, игнорируя их содержание.
Как мы помним, примерно такие предложения – разделить сферы влияния, оставить психику психологии, пусть даже переименованной для этого в какую-нибудь «антропономию», а поведение бихевиористам – выдвигали некоторые видные американские психологи в первые годы после манифеста Уотсона. Однако такой «мирный договор» вряд ли изменил бы что-то в судьбе самого бихевиоризма. У «объективной науки о поведении» имелись куда более серьезные проблемы, которые нельзя было устранить ни исправлением терминологии, ни смирением гордыни.
Одну из них мы затронули вскользь, когда говорили об экспериментах Скиннера и о том, что в силу самой их процедуры все то, что в них изучалось, было чисто искусственными феноменами, а любое естественное поведение могло в них выступать лишь в роли источника помех. На самом деле здесь бихевиористы прикоснулись к специфической философской проблеме биологии – проблеме естественного.
Вроде бы все естественные науки потому так и называются, что предметом им служат явления естественные, созданные не целенаправленной человеческой деятельностью, а силами природы. Однако царица естественных наук – физика – с первых шагов равно распространяет свои законы и методы на природные и искусственные объекты. Зависимость формы орбиты от соотношения силы тяготения и скорости движения тела одинаковы для планет, астероидов и космических аппаратов. Закон сохранения энергии сформулирован для природных процессов, но он же запрещает создание определенного рода технических устройств – вечных двигателей. Термометр одинаково меряет температуру воды в водоеме и в котле. Таков же подход и химии, одинаковыми методами и с одинаковых теоретических позиций изучающей вещества, составляющие мир вокруг нас, и синтезированные молекулы, которые в природе просто не могут существовать. Даже в таблице Менделеева искусственно созданные элементы, вроде астата или технеция, стоят в ряду элементов природных, подчиняясь общему закону.
А вот в биологии дело обстоит иначе: на самых разных уровнях изучения живого «естественное» и «искусственное» ведут себя по-разному. Вот, допустим, у нас есть две хорошо различимые, но явно близкородственные формы неких животных, которые в неволе успешно скрещиваются и дают плодовитое потомство. Достаточно ли этого для вывода, что обе формы принадлежат к одному виду? Нет – нужно еще проверить, скрещиваются ли они в естественных условиях.
Или мы рассматриваем некий ген, одна из мутаций которого в гомозиготе летальна – то есть организм, получивший такой вариант гена от обоих родителей, обречен на раннюю смерть. В лабораторной популяции доля носителей этой мутации будет постепенно убывать по хорошо известному закону, постепенно приближаясь к нулю. В природе, однако, мы можем найти популяции, где частота смертоносной мутации достигает почти 50 % и, главное, не меняется в ряду поколений.
Или мы выделили из гейзера бактерию, живущую в 70-градусной воде. И оказалось, что некоторые ее жизненно важные ферменты в пробирке денатурируют еще на подступах к 60 градусам. В то, что крохотная клеточка способна каким-то образом охлаждать себя, поверить трудно. Как же тогда она там живет?
И так – на каждом шагу. Какой бы областью биологии мы ни занялись, мы то и дело наталкиваемся на вопрос: насколько то, что мы изучаем, эквивалентно тому, что мы хотим изучать? Набор факторов, от которых зависит это соответствие, в каждом случае свой, но сама проблема универсальна. Ее можно назвать «проблемой естественности».
Заметим, что хотя слово «естественный» широко употребляется и в других областях знания и даже входит в состав важных терминов («естественные языки» в лингвистике, «естественные монополии» в экономике, «естественный прирост населения» в демографии, «естественные обнажения» в геологии и т. д.), нигде за этим термином не стоит неотвязная проблема соответствия изучаемого естественному. Невозможно представить себе, скажем, что, вскрыв экскаватором склон, мы увидим совсем не те геологические структуры, которые обнаружились бы при естественном обнажении – оползне. Естественность как проблема присутствует разве что в исторической и культурной антропологии, где часто бывает важно определить, что в изучаемом явлении определяется биологическими особенностями той или иной группы людей (например, полом или расой), а что имеет чисто культурную природу. Но уже по самой такой постановке вопроса видно: категория «естественного» тут целиком взята из биологии. То есть в известном смысле противопоставление «природа – культура» в антропологии – это частный случай проблемы биологической естественности.
В наши задачи, разумеется, не входит всесторонний анализ этой глубокой философской проблемы. Для нас сейчас важно лишь то, что при изучении поведения она встает, как говорится, в полный рост. (В главе 8 мы немного затронем этот вопрос в связи с одной частной, но очень интригующей проблемой поведения.) Между тем в бихевиоризме проблема естественности не только не нашла никакого удовлетворительного решения, но фактически так и не была осознана и сформулирована до самого конца этого направления.
Но главным камнем преткновения для бихевиоризма стало даже не это. Взглянем повнимательнее на позитивную часть манифеста Уотсона в самой умеренной и потому приемлемой для всех редакции. Итак, единственная несомненная реальность – это поведение. Мы можем наблюдать его, но о том, что происходит внутри обладающего им организма, мы можем только гадать – научных методов выяснить это у нас нет. Что нам остается? Применить метод «черного ящика»: подвергая исследуемый объект-организм различным воздействиям и регистрируя его ответные реакции, попытаться найти некие закономерности, связывающие одно с другим.
Такой подход выглядит чрезвычайно привлекательным: он ясен, прост, логичен и не опирается, казалось бы, ни на какие неявные предположения. Однако, хотим мы того или нет, при таком подходе все поведение организма предстает как реакции на стимулы. Мало того что любому действию животного обязан предшествовать тот или иной стимул – именно в стимулах следует видеть причины совершаемых животным действий. (Где же еще их искать, если никакие внутренние факторы мы принципиально не рассматриваем, а отказываться от причинных объяснений не хотим?) Таким образом, поведению неизбежно приписывается сугубо пассивная, «отвечающая» природа. Живой организм, как мы помним, предстает подобием торгового автомата: бросили монетку-стимул – он срабатывает, не бросили – не срабатывает. Разные «монетки» могут вызывать разные ответы (помните древние советские автоматы с газировкой: копейка – вода с газом, трехкопеечная монета – еще и с сиропом?), но в любом случае это ответы на монетки. Никакого собственного поведения у автомата нет: если за неделю никто не бросит ни одной монетки, он так и простоит в невозмутимом ожидании.
Уотсон прямо так и говорил: организм – это автомат, его поведение определяется воздействиями извне и ничем иным. Но даже если бы ни он, ни кто-либо еще из видных бихевиористов этого не сказал, бихевиоризм никак не мог бы избежать такого взгляда на природу поведения. Его исходные положения, его исследовательская программа не оставляли ему выбора.

Между тем, как мы видели в главе 4, природа поведения принципиально иная: оно всегда начинается изнутри. Внешние стимулы, конечно, влияют на него (в известном смысле и известной мере даже управляют им), но никогда не являются его причиной.
Разницу между причиной и влиянием легко понять на такой аналогии. Представим себе, что мы инопланетяне и изучаем поведение одной из групп обитателей Земли – автомобилей. Исходно мы ничего не знаем о том, почему они куда-то едут, но хотим и пытаемся это узнать. Довольно скоро мы выделим группу сигналов (разметку, дорожные знаки, сигналы светофоров, указатели и т. п.), очень сильно и определенно влияющих на движение автомобилей. Мы начинаем манипулировать этими сигналами в своих исследованиях – и рано или поздно нам начинает казаться, что они и есть причина передвижений автомобилей. Но ведь на самом-то деле это не так: едущий по дороге автомобиль, конечно, реагирует на дорожные знаки и огни светофоров – но едет-то он совсем не потому, что на него воздействуют все эти стимулы. Более того – он может даже целенаправленно искать определенный указатель (например, поворот на нужную улицу), чтобы отреагировать на него, и при этом полностью игнорировать аналогичные другие.
Поведение реальных обитателей Земли (в том числе и наше собственное) обусловлено внутренними факторами даже в еще большей степени, чем «поведение» автомобилей на дороге. Смысл, важность, критерии специфичности стимула определяются организмом, его внутренними состояниями. Не от стимула зависит, каким будет поведение организма, – от организма и его внутреннего состояния зависит, какой из объектов или факторов мира внешнего станет для него стимулом. Попытка вывести поведение «из стимулов» неизбежно приведет нас или к резкому сужению предмета исследований (рассмотрению только отдельных актов поведения в искусственно созданных условиях, когда влияние конкретного стимула явно преобладает над всем прочим), или к теоретическому двоемыслию (стыдливому возвращению в рассмотрение отвергнутых внутренних факторов под благопристойным именем «скрытых переменных», «внутренних стимулов» и т. п.), сопровождающемуся чисто софистическими попытками доказать, что внутреннее – это тоже внешнее. И в конечном счете – к абсурдным выводам.
Подобно крысе в экспериментальных лабиринтах Толмена или Халла, бихевиоризм испробовал все возможные маршруты, пройдя по каждому из них до конца. И каждое многообещающее ответвление заканчивалось либо тупиком, либо возвратом к исходной точке. Выхода у этого лабиринта не оказалось.

