Глава 10
Начало конца
Я не уверен: дело ли в том, что все намеренно пытаются разыграть меня, или в том, что, сойдя с пьедестала, я перестал казаться таким уж пуленепробиваемым, каким был когда-то. Я поднимаю этот вопрос, потому что в последнее время многие люди, включая друзей, членов семьи, коллег по цеху и тех представителей СМИ, с кем я познакомился за время своей карьеры, внезапно стали говорить мне, что, имея тот талант, что у меня есть, я должен был играть на самом высшем уровне и притом куда дольше.
Я ничего не имею против подобных суждений, если они сказаны по делу, но, по крайней мере, постарайтесь критиковать меня тогда, когда это уместно, а не когда я уже ничего не могу поделать, чтобы изменить ситуацию. Я не говорю, что я бы что-то сделал, потому что в глубине души я всегда сомневался в своем желании играть на высоком уровне, под светом софитов, и сомневался с тех пор, как стал футболистом. Всегда было что-то, что тянуло меня. Я не знаю, что именно. По сути, я даже не уверен, была ли это какая-то конкретная вещь. Может быть, все дело в том, что я попросту убедил себя, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на футбол.
Где-то раз в две недели я примерно по часу беседую со своим агентом. Среди моих любимых тем для разговора: если бы ты мог жить в любом месте мира и делать любую работу, что бы ты выбрал? (Виллу на холмах Ибицы, писательство, которым бы я занимался, попивая хорошее вино и закусывая хрустящим хлебом с ветчиной.) Что ждет футбол? (Создание Европейской суперлиги, вне всяких сомнений, вопрос лишь в том, когда ее запустят.) Почему это все еще работает? (После стольких лет общения с ним я до сих пор ни на шаг не приблизился к ответу на этот вопрос.)
В течение разговора мы переходим на более узкоспециальные темы. Как наша страна превратилась в такую помойку? (Благодаря огромному госдолгу.) Какой наилучший путь выхода из кризиса? (Более масштабный экспорт товаров.) Что творится в клубе, который он поддерживает? (Скверный менеджмент, недостаток средств.) Как вышло так, что я был более талантлив, чем все остальные его клиенты вместе взятые, но не сумел выжать из этого максимум?
Вопрос справедливый, но он не делает ответ на него сколько-нибудь проще. Когда что-то заканчивается, человек испытывает горечь разочарования, которое трансформируется в пять различных состояний, что вам подтвердит любой психолог:
ОТРИЦАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ
Я играл на высшем уровне и получал десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю. Один из клубов, на который я работал, сделал меня объектом рекордной трансферной сделки в своей истории. Несколько раз подряд я становился «Игроком года» (сделаю паузу в этом месте, чтобы насладиться аплодисментами). Я брал трофеи и играл против всех больших звезд, которых только способна предложить Премьер-лига. Но когда ситуация принимает серьезный оборот, ничего из перечисленного выше уже не берется в расчет.
Несколько лет назад, на пике своих финансовых возможностей, я обнаружил вдруг, что практически все хорошие вещи в моей жизни, ради которых я трудился, за какую-то ночь почти полностью исчезли стараниями самодовольного тренера, одолеваемого жаждой бахвальства. После одного матча Премьер-лиги у нас появились с ним разногласия – мы обменялись некоторыми репликами, как это бывает во всех раздевалках по всей стране, и обычно такие конфликты разрешаются легко и быстро одним рукопожатием. Но в этом случае все дошло до того, что тренер сделал меня козлом отпущения в глазах всех остальных.
С того самого момента я превратился в изгоя, я был вынужден тренироваться и переодеваться в раздевалке молодежного состава, мне запретили любое общение с прессой, меня даже есть заставляли в одиночестве, чтобы я никак не мог контактировать с первой командой. В тех редких случаях, когда я натыкался где-то на своих партнеров (даже если это была парковка тренировочного центра рано утром), я видел, равно как и ощущал, насколько некомфортно им находиться рядом со мной. Не потому, что я им не нравился; они просто были до дрожи напуганы, что их поймает менеджер или кто-то из его штаба, когда они будут беседовать с игроком, к которому все относятся так, словно он страдает от заразной болезни.
Помимо этого бахвальства сложнее всего было принять то, что игроки, которых я считал своими друзьями – люди, с которыми сидел рядом в командном автобусе годами и ради которых сражался в матчах так, словно от этого зависела моя жизнь, – были так обеспокоены тем, что с ними может случиться то же самое, что закрывали глаза на любые проявления несправедливого отношения, которому подвергся один из их партнеров по команде. Но мне не стоило удивляться. В свой первый же день в качестве профессионального игрока я понял, что в этом деле каждый сам за себя.
ГНЕВ
Меня раздражает то, что люди считают себя вправе судить мою карьеру: эксперты, фанаты, семья и все остальные. Один американский игрок постоянно рассуждал о менталитете британцев. «Если кто-то здесь преуспевает, – говорил он, – вы все сразу же начинаете завидовать. В Штатах народ вдохновляется чужими успехами». Исторически сложилось так, что я мало общался с американцами лично, но в этом вопросе вынужден с ним согласиться.
Практически все игроки, которых я знаю, ощущают зависть со стороны болельщиков: благодаря деньгам, которые те зарабатывают, девчонкам, которых те привлекают, и стилю жизни, который те ведут. Это особенно отчетливо видно, когда дела на поле складываются неважно. Я сидел на нескольких фанатских форумах, и число людей, восклицающих там: «Я плачу тебе зарплату», поразило меня. Это аргумент, с которым мог выйти на спор пятилетний ребенок. Годами моим заученным ответом был: «Что ж, должно быть, твой дом будет побольше моего?», пока я не решил узнать у одного из своих клубов, какая часть наших зарплат напрямую зависит от продаж билетов на матчи. Выяснилось, что в процентном соотношении – около 26 %, и средний показатель по Премьер-лиге не сильно выше.
И кое-что еще: я изучал футбол на протяжении всей своей профессиональной карьеры, и притом изнутри, так что если вы вздумаете спорить со мной о тактике, игроках, тренерах или о чем угодно еще, я буду более осведомлен, чем вы, и никак иначе. Как однажды сказал мне отец, абсолютно нормально признавать себя неправым время от времени. Меня приводит в ярость то, что люди, беседуя со мной о футболе, говорят не со мной, а сами с собой. Футбол – настолько эмоциональная тема для разговора, что каждый думает, что его мнение сродни евангелию. Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-нибудь учил меня, как я должен играть в футбол; я знаю, как это делать. Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-нибудь распекал меня и отчитывал; я жду, что все будут на стороне моей команды, даже если все складывается не так, как планировалось изначально.
Несколько лет назад я играл в матче, который судил Роб Стайлз. Мне казалось, что он подсуживает команде-гранду (в очередной раз), и я говорил ему об этом при каждой возможности. Спустя какое-то время в игре наступила пауза, и я решил обменяться с ним парой любезностей:
– Да ну на хрен, Роб, какой тут был риск? Тут каждый раз фол, а ты, блин, ни хрена не видишь!
– А ну завали! Ты судил когда-нибудь раньше? – получил я в ответ.
– Нет, – ответил я. – А ты играл когда-нибудь раньше?
– Не так плохо, как ты, – ответил он.
Должен признать, он парировал мой выпад с блеском, и с тех пор я миллион раз применял его аргумент в спорах с арбитрами, но в обратную сторону. Но он все равно ублюдок.
ТОРГ
Ну ладно, мы не стали чемпионами мира, что было моей целью в детстве, когда отец купил мне тот альбом со стикерами Panini за 1986 г. Но опять-таки, это удалось немногим игрокам; еще меньше среди них британцев. Я сделал хорошую карьеру, если подумать. Существуют места, куда я могу прийти, рассчитывая на бесплатную выпивку за счет заведения, а есть клубы, появись я в которых, на меня тут же накинется разъяренная толпа – но это ведь в порядке вещей, правда ведь? Я никогда не чувствовал, что зарабатываю столько, сколько должен в сравнении с другими игроками, на которых работала огромная пиар-машина. С другой стороны, за неделю я зарабатывал больше, чем все мои друзья получали за год, и я старался делиться с ними нажитым так щедро, как только мог.
Я потерял счет случаям, когда оплачивал ежегодный совместный отпуск с друзьями и семьей. Я не хвастаюсь. По сути, начиналось все совсем не так. Но то, как все развивалось, кажется мне куда более интересным. Вначале мы покидали страну ради своего рода двухнедельного запоя с агрессивным флиртом, а иногда и с жестокими драками, спровоцированными пьянками и тем же флиртом.
Потом я стал зарабатывать больше денег, чем все остальные – причем вместе взятые. Это открыло новые возможности, я узнал о существовании ранее неизвестных мне культур, мне стал доступен более высокий уровень жизни. Я многое мог позволить себе, чего не было никогда раньше. Отличное вино, произведения искусства, роскошный отдых на самых дорогих курортах. Вкуснейшая еда, огромные дома, новые машины, дорогая одежда. Женщины. Мне открылся целый новый мир. И я полюбил его. Многие вещи, которыми я начал интересоваться, представляли для меня интерес лишь потому, что мой финансовый советник пытался таким образом разнообразить мой инвестиционный портфель. Я из тех, кто никогда не купит шоколадный батончик, не узнав его историю, так что легко понять, почему во мне пробудился интерес ко всем этим вещам. Я ходил по галереям, дегустациям вин, шикарным ресторанам, все время чему-то учась и впитывая в себя новые веяния, видел то, что проходило мимо того социального слоя, к которому я принадлежал.
Тем временем кое-кто из парней начал встречаться с великолепными девушками. Теперь я понимаю, что это было проявлением эгоизма с моей стороны, но мне не нравилась мысль о том, что мы больше не сможем ездить куда-то вместе, так что я стал брать их с собой – семью, друзей, их жен, детей и т. д. У нас никогда, ни разу, не возникало никаких проблем, споров или выяснения отношений, за исключением того случая, когда трое или четверо из нас сбросили телевизор в бассейн вскоре после поражения Англии от португальцев в четвертьфинале Евро‑2004. Но все совершают ошибки. Я знаю массу ребят, которые мазали пенальти.
С каждым годом кажется, что нам требуется вилла все больших и больших размеров, способная вместить нас всех плюс арендованные байки, машины и даже нанятых инструкторов по йоге; последнее – запрос моего отца, который всегда учил меня твердо стоять на ногах и не зазнаваться. Впрочем, это никогда и не было проблемой. Я беру на себя счет за дом, а все остальные оплачивают себе перелет и скидываются на питание и напитки. Мы уже объездили почти весь земной шар и не планируем останавливаться. В конце концов, это редкая жизненная удача – взять с собой всех, кого ты любишь, и провести с ними рядом неделю-другую, отключившись от стресса и головной боли ежедневной рутины. Я знаю, что все остальные чувствуют то же самое и благодарны, что побывали в местах, о которых раньше и не смели мечтать.
Но некоторые вещи, на которые я пытался раскрыть глаза своим друзьям, не встретили такого же понимания, как предложение отдохнуть вместе две недели. Один из моих дней рождения, к примеру, без сомнения обернулся настоящей катастрофой. Поначалу все было хорошо: местом проведения должен был стать модный ресторан, которым заведовал один очень известный шеф-повар…
Мы встречаемся в Лондоне, идет дождь – некстати, но для Британии это не то что бы удивительно. Я вижу, что пара моих друзей некомфортно ощущают себя в рубашках и пиджаках – но таков строгий дресс-код ресторана. Для них рубашки и пиджаки – одежда, которую надевают разве что на похороны, и то умерший должен быть близким родственником.
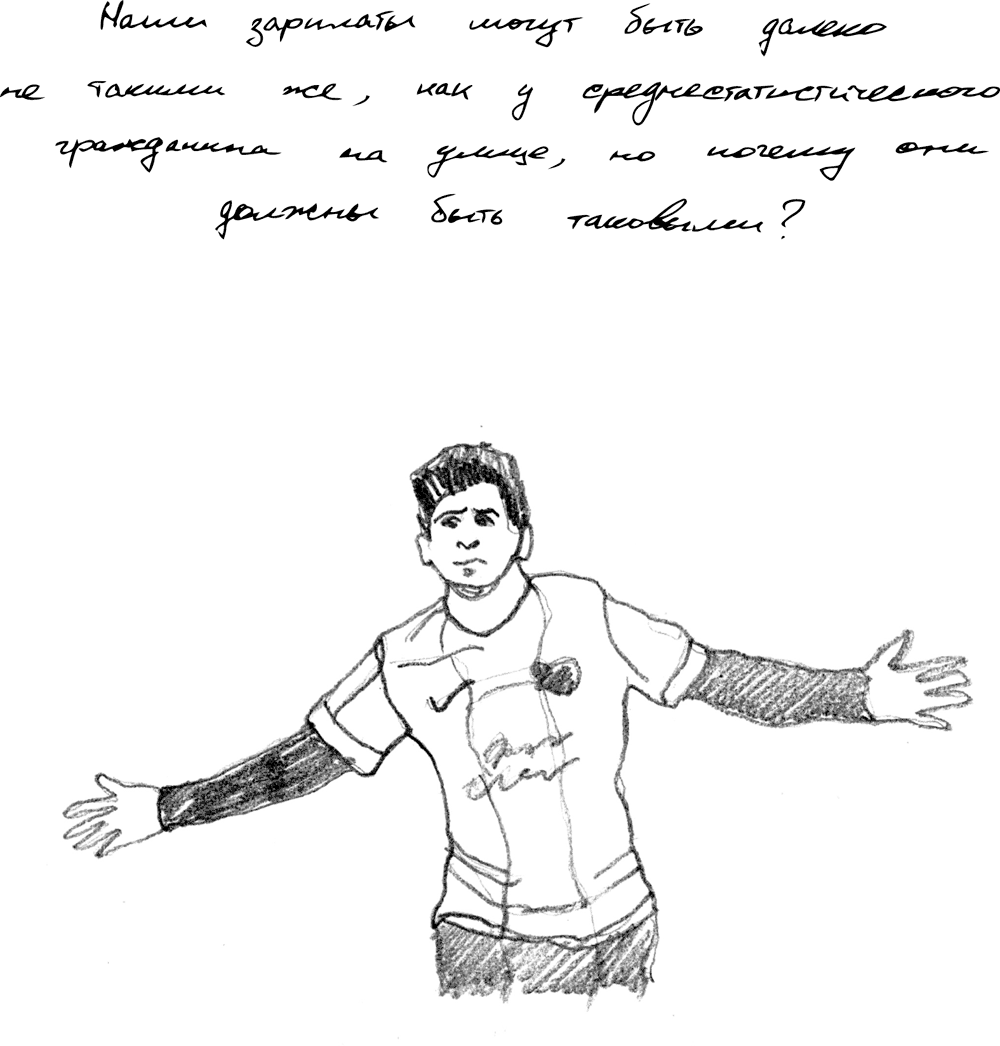
Мы входим в помещение. Теперь им совсем неловко, они не на своем месте. Я знаю, каково это – мы все знаем – и это неприятно. Я замечаю, что у одного из них грязь на шнурках ботинок. Их не расшнуровывали с тех пор, как сотрудник магазина положил обувь в коробку – их снимали и надевали снова сотни раз, так что каблуки уже изрядно износились.
Это не катастрофа, но и ничего хорошего в этом нет. Швейцар открывает нам двери и провожает к столику – немного торопливо, как мне кажется, – и пока мы занимаем места, сомелье не теряет времени и представляется. Я делаю заказ. Шампанского для начала, а затем большую бутылку Chateau Mouton Rothschild урожая года моего рождения. Шампанское никого не впечатлило. Тем временем некоторые все же путают винный бокал с рюмкой, и, несмотря на вопросительные взгляды в мой адрес, второй порции не наливают.
Вот подают еду и разливают вино. Разумеется, еда идеально приготовлена; вино просто отличное. «Братишка, а где остальное?» – спрашивает у меня кто-то. Девять десятых стола смеется; весь ресторан пялится на нас. Мальчишка из муниципального района внутри меня находит шутку забавной, но новоиспеченный сноб во мне – в ярости. «Да, скажи, чтоб несли остальное, кореш!» Это более вялая вариация на ту же тему, но и ее наш стол встречает благосклонно. Напряжение в ресторане нарастает. Некоторые из официантов тоже это услышали. Я вступаю. Объясняю, что в солидных заведениях правила этикета несколько отличаются – важно соблюдать приличия и относиться с уважением к другим посетителям заведения. Люди платят большие деньги за возможность пообедать тут, и для некоторых из них поход сюда может оказаться единственным за год, а то и за пять лет или даже за всю жизнь. В ответ звучит оглушающее: «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ…»
Я смотрю на метрдотеля: он недоволен, и на десятую долю секунды я тоже занимаю его сторону, но вскоре я задумываюсь о верности моих друзей и говорю себе, что они (то есть мы) имеют не меньше прав на то, чтобы быть здесь, чем все остальные, и что наши (мои) деньги ничуть не хуже денег других людей. Но от очевидного никуда не деться – нам тут не место, по крайней мере не в такой компании. Я разочарован собой, ими, сотрудниками ресторана, всем. Разочарование быстро уступает место затуманивающему разум гневу; в моем случае это очень опасно, потому что он одолевает меня только тогда, когда мне кажется, что я выгляжу глупо. Разрушительные последствия, которые может иметь этот гнев, стали притчей во языцех в нашей компании.
Я оплачиваю счет и размышляю, оставлять ли на чай или нет. В итоге оставляю, отчасти из чувства вины, отчасти для подстраховки на тот случай, если когда-нибудь приду сюда вновь и кто-нибудь из официантов узнает меня и поднимет записи. Такое уже случалось раньше и – спешу добавить – отнюдь не из-за скромных чаевых. На улице я уже не могу сдерживать свой гнев, переходя в полномасштабную атаку гостей и говорю им вещи в духе: «Неужели я так много прошу?» и «Как вам не стыдно?» И когда я готовлюсь разразиться уничижительной тирадой, я вижу эти ботинки и эти грязные шнурки. Они выглядят жалко, им как будто стыдно за самих себя. Я чувствую себя ужасно. Эти мысли приводят меня в чувство, и вот уже я стою под дождем, ощущая себя ничтожно и так же ничтожно выглядя. Мой лучший друг делает шаг навстречу мне и говорит, что если я успокоился, они с радостью приглашают меня продолжить празднование в баре Yates в паре кварталов отсюда. Но сначала я должен повеселеть, иначе я точно испорчу им свой же праздник.
Когда мы выпили в пабе уже немало «Гиннесса», парни почувствовали, что прошло достаточно времени, чтобы начать шутить, и стали выражать свои подлинные чувства относительно произошедшего, что так меня оскорбило. «Это чертово красное вино – как его только люди пьют? Надеюсь, оно хоть не было дорогим». Все смотрят на меня. «Не, не было, – говорю я. – Я просто подумал, что оно будет хорошо сочетаться с едой». На самом же деле оно стоило 1700 фунтов за бутылку, и лишь я один смог выпить чуть больше бокала, остальные же к нему почти не притронулись.
Под конец вечера несколько человек из нашего отряда решили взять такси и поехать домой вместе. Я остаюсь у своих родителей, на дворе ночь. В конце концов, всех моих гостей развезли по домам, кроме одного, немного перебравшего, но выглядящего куда счастливее, чем в начале вечера. «Слушай, братишка, – говорит мой лучший друг. – Я знаю, что все прошло далеко не гладко, но должен сказать, что это была лучшая свинина, которую мне доводилось пробовать. Спасибо за приглашение. С днем рождения». И после этого он от души целует меня в щеку, вываливается из кеба и подходит к двери своего дома, после чего оборачивается, поднимает большой палец вверх и заходит внутрь.
Я сижу в кебе, улыбаясь самому себе и глядя на скромный муниципальный дом, в который он только что зашел, облепленный спутниковыми тарелками, прикрывающими обветшалые стены, на ржавую колымагу в саду. Я признаю, что скучаю по всему этому. Иногда мне по-настоящему этого не хватает. Наверное, не все рождены для роскошной жизни. И то, что мне удалось в нее вписаться, не значит, что каждый сможет так же. Вероятно, они не понимают ее. Нет. Они не хотят ее, им она не нужна, они счастливы тем, что имеют… и кто я такой, чтобы принуждать их или, как в этом случае, пихать им ее в глотки? Одна мысль тем не менее всплывает в моем сознании, пока я наблюдаю за тем, как за выцветшими оранжевыми занавесками включается экран телевизора. «Долбаный кретин, – проговариваю я про себя. – Это была говядина».
ДЕПРЕССИЯ
В субботу, 26 ноября 2011 г., газета Guardian опубликовала мою колонку под заголовком: «Иногда за светом софитов скрывается тьма».
«Способность футбола перевернуть все вверх дном одним-единственным свистком арбитра делает тебя почти полностью уязвимым перед лицом сильных эмоций, которые могут иногда брать верх, – писал я. – Сейчас все идет замечательно, а секунды спустя все уже кажется как никогда беспросветным; иногда это давление слишком велико. Попытка арбитра Бундеслиги Бабака Рафати убить себя на прошлой неделе привела к тому, что все комментаторы и эксперты как один стали призывать «сравнить футбол с другими поприщами», вместо того, чтобы начать задавать реально неудобные вопросы, на которые никто не хочет честно отвечать.
Многие звезды спорта прекрасно знают, через что пришлось пройти Рафати. В пятницу Стэн Коллимор, экс-форвард «Ливерпуля», рассказал в своем «Твиттере» о своем недавнем приступе депрессии, который оказался невероятно тяжелым для него и вынудил его признаться, что он не выходил из дома уже четверо суток. Я определенно понимаю это желание закрыться от мира, и когда мне впервые поставили диагноз депрессии в 2002 г., это казалось даже большим проклятием, чем сейчас.
Около двадцати лет назад футбол превратился в глобальное бизнес-предприятие, и с тех пор давление на всех причастных к нему людей стало невероятно велико. Иногда мне казалось, что любой человек в этой сфере будто бы делает глоток из отравленной чаши. С одной стороны, награда за твои усилия очень велика, но, с другой стороны, провал, любая случайность могут стать показателем, по которому люди будут судить все аспекты твоей жизни.
Не поймите меня неправильно: я не намекаю на то, что все причастные к игре люди пребывают в состоянии неизлечимой депрессии, но, думаю, что многие из нас ощущают градус этого давления, начиная с мыслей о том, какими заголовками могут удивить нас завтрашние газеты и заканчивая размышлениями о фанатах, которые могут не иметь достаточно денег, чтобы заправить машину, но, глазом не моргнув, потратят очередные 40 фунтов на билет на субботний матч.
Когда я начинал карьеру игрока, не существовало никаких программ подготовки к общению с прессой, не было спортивных психологов; давление было привычным явлением, с которым ты должен был уметь справляться. Некоторые игроки настолько нервничают, что перед игрой им становится физически плохо, у одного из моих друзей даже появилась привычка дышать кислородным баллоном, настолько был велик его страх неудачно выступить.
Много раз я наблюдал, как игроки реагируют на то, что кто-то о них написал на форуме или в газете. Даже если в теме представлено преобладающее большинство позитивных комментариев, они приложат все возможные усилия, чтобы отыскать негативную ремарку, а после всю свою энергию пустят на размышления и переживания о ней.
Футболист, разумеется, отлично понимает, когда сыграл плохо, а когда хорошо, и тем не менее страх узнать о своем неудачном выступлении от журналиста для многих остается огромным препятствием. Я должен признаться, что раньше не раз отказывался давать интервью некоторым репортерам, когда чувствовал, что рейтинг, который они мне выставили неделю назад, не соответствует моему реальному вкладу в игру. Написав это предложение, я понимаю, насколько жалко это звучит со стороны, но представьте, что вашу работу кто-нибудь публично оценивал бы каждую неделю.
Подобные примеры проявления страха и неуверенности в себе ни в коей мере не распространяются исключительно на игроков. Всякий раз, когда какой-нибудь тренер упоминает в интервью, что никогда не читает газет, можно быть твердо уверенным в том, что первое, что он делает в понедельник утром, это прохаживается по всем отчетам о матчах в прессе с ярким маркером в руке.
Дополнительное давление на тебя лично временами просто неизбежно и способно отрицательно сказаться на твоей игре, а кульминацией всего это может стать мрачный и вгоняющий в депрессию эмоциональный тупик. К несчастью, в нашем мире есть трагические примеры игроков, которые достигли этой точки невозврата. В 2009 г. немецкий голкипер Роберт Энке покончил с собой, не сумев пережить смерть собственной дочери, а его болезнь только усугубилась постоянным и тщательным изучением собственных выступлений, к которым он зачастую предъявлял завышенные требования.
К несчастью, психические заболевания среди состоятельных людей, особенно среди тех из них, кто, по мнению публики, занимается своим любимым делом, по-прежнему остаются слишком сложной темой. Сам термин «депрессия» несколько искаженно воспринимается общественностью и, судя по всему, не получает такого отклика в сердцах людей, как, например, тот же посттравматический синдром.
Однако, как это ни странно, в игре, пышущей тестостероном, признание проблемы депрессии имеет место и лечение ее становится все более эффективным. Сегодня тренеры понимают, как никогда раньше, что талант современного футболиста позволяет ему наслаждаться богатством и славой уже в раннем возрасте, но, кроме этих наград, он еще и наделяет его чрезвычайной уязвимостью.
Освещение футбола в СМИ тоже изменилось, новый вектор привел к неустанному поиску каких-то жареных подробностей из жизни футболиста, перенеся объект интереса с поля в частную жизнь многих игроков. По этой причине я полагаю, что сейчас у наших управляющих органов появилась реальная возможность законодательно провести черту между тем, что игроки могут ожидать от прессы и трибун, и тем, что является откровенным нарушением их прав.
Некоторые могут спросить, почему банкир, кем был Рафати по специальности, вообще мог захотеть стать частью всего этого. Давление, с которым приходится сталкиваться судьям, работающим на матчах топ-уровня, совершенно очевидно, но банковское дело, несмотря на то, что это верная дорога к хорошим заработкам, в первую очередь, всего лишь работа. Футбол же – страсть, в идеальном мире нечто, ради чего хочется жить, а не то, в результате чего придется жертвовать жизнью.
Мир, разумеется, весьма далек от идеала, и это позволяет нам иногда с такой легкостью осуждать других, показывая пальцем. Порой я вижу, как фанаты настолько зло орут на игроков собственной команды, что в этот момент я совершенно теряю с ними всякую связь; эффект бабочки таков, что в результате игрок торопливо бежит в сторону командного автобуса, пока сотни детей ждут его автографов.
Я смог научиться справляться с побочными явлениями этой игры, но лишь потому, что верю, даже знаю, что если кто-то из имеющих отношение к футболу людей дойдет до того, что им захочется встать на пути идущего поезда или перерезать себе вены в номере отеля, поскольку это будет единственный выход, тогда футбол перестанет быть просто игрой, не так ли?»
Я отправил эту колонку в газету в самом начале недели, потому что ее тема была очень деликатной. Насколько я помню, в редакцию Guardian поступило много звонков с вопросами вроде: он точно хотел, чтобы это напечатали? Кто еще, помимо клубного доктора, знал о его депрессии? Готов ли он к комментариям, которые неизбежно последуют, потому что среди читателей обязательно найдутся люди, не готовые сопереживать футболисту, страдающему психологическими проблемами? После тщательных размышлений в последнюю минуту я принял решение – заметка должна выйти. Ее тема была слишком важна, и я хотел, чтобы читатели понимали: жизнь профессионального футболиста далеко не сахар. Временами, как написал в подзаголовке заместитель редактора, за светом софитов скрывается тьма. Колонку опубликовали в оригинальном виде, исправив только один момент: редактор сказал мне, что в той части, где речь идет о Бабаке Рафати, нельзя оставить «совершил самоубийство», поскольку этот термин считается оскорбительным и огорчает многие семьи. Вместо этого я должен был написать «убил себя». И да, я тоже не вижу никакой разницы.
Я ожидал огромное количество комментариев от людей, задающихся вопросом, как я могу в своем положении вообще страдать депрессией, но реакция читателей оказалась невероятно позитивной. Однако ничто не могло подготовить меня или кого-то еще, связанного с футболом, к тому, что произошло на следующий день. Я помню, как мне позвонили и спросили, не видел ли я новости на бегущей строке одного из спортивных телеканалов. Я включил телевизор и прочитал слова: «Менеджер сборной Уэльса Гэри Спид обнаружен мертвым у себя дома». Я помню, что у меня в голове пронеслась чудовищная мысль (и прежде чем вы начнете обвинять меня в том, что я эгоцентричен и тщеславен, скажу вам правду – эта первая мысль была подсказана инстинктом): интересно, прочел ли он мою колонку?
Проблема современного мира скоростных коммуникаций в том, что вместо того, чтобы взять время на обдумывание того, что ты собираешься напечатать, написать в сообщении или в «Твиттере» и оценить, насколько это вообще уместно и полезно для других, люди сразу пишут и отправляют и только потом задаются вопросом, а в некоторых случаях, не делают и этого. Буквально каждое текстовое сообщение в папке моих входящих укладывалось в одну и ту же канву: «Гэри Спид повесился… Думаешь, он видел твою статью?»
Тот факт, что все мы в тот день находились на одной волне, был каким угодно, только не радующим. Произошло кошмарное совпадение, но настроение, переданное в моей заметке, в какой-то степени нашло свое отражение в реальной жизни тем самым утром, и этот факт был очень тревожным. Каким бы ни был истинный мотив поступка Спида (а у меня нет никакого желания выяснять подробности), он стал трагической иллюстрацией того, что с людьми могут делать давление и стрессы, которые они по каким-то причинам копят в себе.
Я не был знаком со Спидом лично, но общался со многими, кто его знал. Я играл против него и команд, которые он тренировал, и никто не мог сказать о нем плохого слова, за исключением нескольких фраз о том, как он ушел из семьи, оставив родных. В тот день я разругался в пух и прах с одним игроком после того, как он назвал всех, кто решается на самоубийство, трусами. Подобный аргумент я нахожу весьма оскорбительным, потому что такие умозаключения делаются без каких-либо оснований.
Какой бы ни была причина суицида Спида, его смерть показала, что никто, неважно насколько он успешен и любим публикой, не застрахован от мук разума, которые могут нас одолевать. Я могу говорить об этом, хотя я всего лишь игрок и некоторую часть своей жизни я провел на «темной стороне», где футбол выступал главным протагонистом. Существуют два пути: либо ты вбираешь в себя все составляющие большого спорта и он становится твоей жизнью, либо, и это как раз мой вариант, ты восстаешь против некоторых его аспектов, но они никуда не уходят, и ты просто борешься с ветряными мельницами, пока в конечном счете ненависть, чувство вины, гнев и горькое разочарование не берут над тобой верх.
Депрессия всегда имела место в спорте, но по-настоящему поднять эту тему смог только футбол высочайшего уровня. Тогда как раньше я попросту игнорировал свист с трибун, в какой-то момент я понял, что больше не могу терпеть оскорбления и хочу ответить. Я никогда не улыбался на фотографиях с болельщиками, не тренировался, если не хотел того, и не утруждал себя формальными разговорами с игроками, с которыми у меня не было ничего общего. Я пил все больше и все чаще спорил с тренером (чаще, чем обычно).
На худшем отрезке этого периода я стал затворником и превратился в чрезвычайно непостоянного человека, особенно это касалось ситуаций, требовавших от меня конформизма и подчинения, например спонсорских мероприятий. И хотя практически все, с кем я контактировал, приходили к простому выводу, что я обычный заносчивый засранец, клубный врач заподозрил нечто иное и вызвал меня к себе в кабинет. «Как твое психическое здоровье?» – спросил он. Тогда я не знал, но оказалось, что доктор был специалистом по психическим заболеваниям. Не мешкая, он попросил, чтобы я рассказал ему обо всем, что случилось со мной за последние десять лет – историю болезни, предыдущие диагнозы, поведал об особенностях взрывоопасного характера, обо всем.
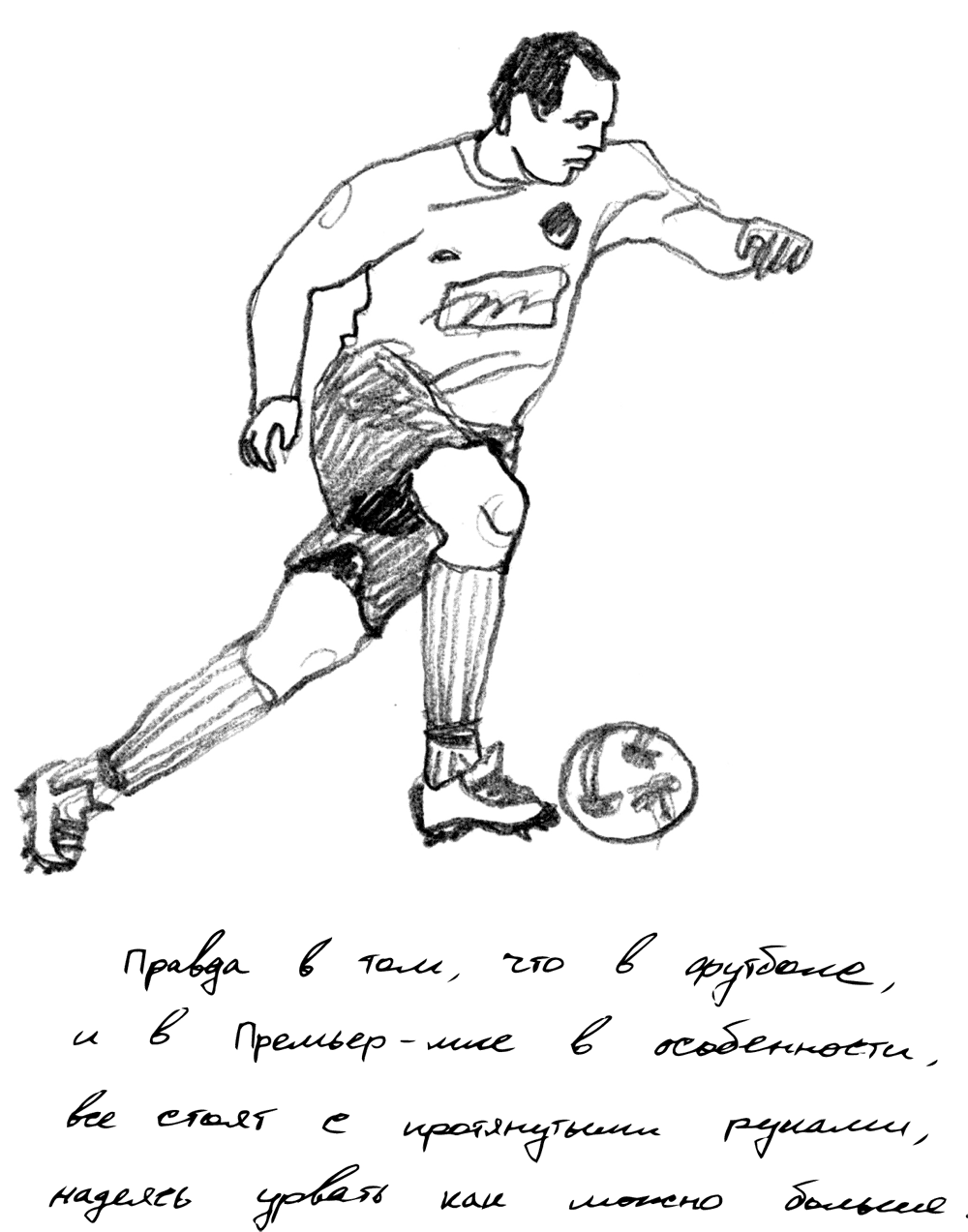
Изначально врач сфокусировался на неверном диагнозе – «маниакальная депрессия», как называлась тогда эта болезнь, сейчас она более известна как биполярное расстройство. У этого заболевания множество форм, но если вкратце, то больной переживает долгие периоды затишья в жизни, в течение которых он не может выполнить самые элементарные просьбы других людей, пока в конечном счете не уходит в тотальную самоизоляцию. За этим периодом следует другой, когда происходит огромный выброс энергии, который в глазах «нормальных» людей выглядит как иррациональное, эксцентричное или просто безумное поведение.
Вслед за громким и дорогостоящим переходом в новый клуб, который обернулся провалом, я обнаружил себя изолированным от остальной команды, в компании «саперов» – это футбольный аналог «желтой группы» младших классов школы. По сути это означало, что я больше никогда не буду играть за этот клуб, только если вдруг на пути с выездного матча наш автобус не попадет в какую-нибудь ужасающую аварию. Но даже если бы это произошло, со мной все равно обращались бы как с прокаженным.
Поскольку я жил вдали от семьи, у меня было много времени подумать обо всем, даже слишком, а это всегда опасно. Как-то ночью мы с другом выпили лишнего и обсудили несколько идей, озвученных в надежде как-то облегчить тоску от однообразия и скуки наших жизней, двигавшихся в никуда. Одна из идей была определенно рисковой, очень идиотской и, без сомнения, самой лучшей из всех высказанных.
Среда – традиционный выходной день у футболистов. В понедельник после воскресного матча обычно проводится легкая тренировка, во вторник темп будет повыше, а четверг и пятница обычно выделяются на отработку технических и тактических аспектов, поскольку тренер занят подготовкой схемы и стратегии для предстоящей в выходные игры.
Тренировки в это время часто наталкивали меня на размышления. В моем понимании на каждой из них должно быть задействовано определенное количество профессионалов, однако нередко на наших сессиях присутствовало около четырех человек. Никто никогда не жаловался – нас бы все равно не слушали. Игроки не хотели приходить на тренировки, равно как и тренеры, но до тех пор, пока причастные к ней лица держали рты на замке, главного тренера устраивала эта ситуация. Помогало еще и то, что я жил в одном номере с парнем, проводившим сессии.
Сидя в наших апартаментах, мы составляли список мест, куда можно было добраться самолетом, а потом вернуться в течение одного дня. Большинство из них естественным образом находились в Европе, но было также несколько точек на севере Африки. Началось все довольно безобидно. Каждую среду мы заявлялись в аэропорт и выбирали место, насчет которого мы были уверены, что сможем посетить его без лишнего шума. Но в итоге все полностью выходило из-под контроля. Покидать страну без разрешения, в разгар сезона, независимо от того, играешь ты или нет, – серьезное нарушение и карается как минимум двухнедельным штрафом. А с учетом моей ситуации в клубе меня и вовсе могли уволить.
Вторая фаза нашего предприятия, прозванного «бей или беги», предполагала изучение расписания рейсов и выбора направления. Мы бросали жребий, используя соусницу, служившую нам также и по назначению, поскольку каждый вечер мы ужинали пастой. Прилетев, мы должны были исполнять желания друг друга, и в результате вышло так, что за свою жизнь я предложил выйти замуж четырем женщинам: шведке Анне, француженке Иветт, чешской девушке по имени Маркита и собственной жене – статистика успеха составляла 50 %. Справедливости ради скажу, что Иветт, наверное, согласилась бы выйти за кого угодно.
Другие воспоминания этого периода связаны с банджи-джампингом, путешествием автостопом, когда мы ловили машину в крошечном пригороде Тираны под названием Камза с двумя ребятами, которые, я уверен, были членами мафии, перелетами в Брно в костюмах Бэтмена и Робина, игрой в швейцаров, когда мы нарядились в свои лучшие костюмы и изображали некомпетентных портье у Four Seasons в Париже, откуда нас впоследствии выгнал постоянный клиент отеля, и еще много с чем, что было настолько неуместным и противозаконным, что я опасаюсь писать об этом даже анонимно. Но привела нас туда не маниакальная депрессия или биполярный синдром, или как там это еще называют. Это был бунт в чистом виде, вызванный скукой и разочарованием (это диагноз, который я поставил сам себе, кстати говоря, в отличие от двух ошибочных диагнозов биполярного расстройства).
Я не жду от вас сочувствия, оно никогда не было мне нужно. В конце концов, мне потребовалось десять лет, чтобы в итоге попросить помощь. Но я скажу, что в худших своих проявлениях депрессия – это самая жуткая болезнь. Она представляет больного заносчивым, грубым, ленивым интровертом, и это еще в хороший день.
Дома у меня стояло кресло Имса. Оно было не очень удобным, но отлично вписывалось в интерьер. Более того, это было первое кресло, которое я видел, приходя домой с тренировки. В худшие дни, когда меня одолевала тоска, я просто заходил в дверь, садился туда и просиживал так до самой ночи, а потом шел спать. Многие люди, страдающие от депрессии, говорят о месте, которое притягивает их словно магнит, месте, в котором они чувствуют себя очень защищенными и где им не приходится с кем-то видеться или что-то делать. Кресло Имса было таким защищенным уголком для меня и совершенно точно служило магнитом. Я садился туда, зная, что как только окажусь в нем, мне не придется вновь вставать и делать что-то, что я не мог вытерпеть.
Все понимали, что как только я окажусь в этом кресле, я уже не буду двигаться. Жена это знала: она ловила меня на входе в дом, разворачивала и вела за собой обедать или просила с чем-нибудь помочь. Все это время я смотрел на экран мобильного телефона (у меня нет часов), надеясь, что секунды будут течь быстрее и я смогу поскорее вернуться к своему креслу. Как только я в нем оказывался, мой день завершался. Это было похоже на паралич: я просто не мог заставить себя встать. Казалось, что у меня на коленях лежит неподъемная ноша, которая не дает мне ничего делать. Я должен отметить, что телевизор обычно не работал, я не читал книг, не вел бесед: я просто сидел молча, час за часом, день за днем, боясь идти в кровать, потому что знал, что как только снова открою глаза, мне надо будет покидать дом и ехать на тренировку, а потом все начнется снова.
Сегодня благодаря 15 миллиграммам миртазапина, который служит антидепрессантом, помогающим уснуть (звучит как оксюморон), и 20 миллиграммам циталопрама по утрам (принимать нужно 40 миллиграмм, но в свое время у меня произошел кошмарный тризм челюсти из-за ингредиента, похожего на МДМА (экстази), в составе этого препарата), я абсолютно другой человек. У меня все еще бывают скверные периоды, но я уже не просыпаюсь в ужасе от грядущего дня, не смотрю из окна на тренировочное поле, желая, чтобы оно было от меня как можно дальше, не воспринимаю каждую задачу равноценной восхождению на Эверест. Никакое количество употребленных таблеток не превратит стояние в очереди в банке или поход в супермаркет Tesco с тележкой в увлекательное приключение, но, по крайней мере, теперь я могу делать эти простые вещи без проблем.
На какое-то время моя игра стала настолько лучше, что я сам не ожидал этого от себя. Казалось, что я прозрел. Знаю, звучит странно, но когда ты находишься в состоянии депрессии, автопилот становится твоим лучшим другом. Одна часть мозга захватывает власть и, как бы это ни было жестоко, выполняет только самый минимум вещей, необходимых, чтобы выжить. Я бы хотел сказать, что в моем восстановлении сыграли ключевую роль долгие разговоры с кем-либо, но это было бы полной брехней: все дело в лекарствах, в особенности в дозировке циталопрама, который я принимал.
Когда клубный врач прописал мне эти препараты, он сказал: «Они очень хорошо помогают моим пациентам… Ах да, передозировка ими невозможна, если ты вдруг задумаешь чего». Он был не единственный, кто ощущал необходимость держать со мной ухо востро. Изначально меня прикрепили к лондонской клинике (я не хотел туда идти), но после двух часов в компании молодого человека, который просто сидел, говорил: «Понимаю» и «Что вы чувствуете по этому поводу?», я сделал вывод, что впустую трачу свое время. Под конец приема он сказал мне: «Я буду с вами честен. Я опасаюсь за вашу жизнь, и мне было бы спокойнее, если бы нашелся кто-то, кто отвез бы вас домой». Он был настолько взволнован, что из его офиса мне так ни разу и не позвонили, чтобы назначить второй прием. Мне интересно, думает ли он о том, что со мной стало.
Психотерапия – очень странный опыт. Я часами сидел, слушая, как незнакомые люди спрашивают у меня: «Когда вы в последний раз проявляли агрессию? Вы думали о суициде? В этих мыслях – каким способом вы себя убиваете?» Я думал, что все это подозрительно походило на одну из тем альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, так что я отвечал: «Я не боюсь смерти. В любой момент я готов умереть, мне все равно. Почему я должен бояться смерти? Никакой причины для этого нет, однажды все мы уйдем». Эти слова, как знают фанаты Pink Floyd, прозвучали в этом альбоме. Никто никогда этого не замечал. Очень много материала для своих колонок я нашел как раз в тот период жизни, что навевает на меня мысль о том, что в маниакальной депрессии все же что-то есть. К примеру, в моем плей-листе iTunes самыми популярными треками были композиции из моего прошлого. На первом месте была песня Love Will Tear Us Apart группы Joy Division, чей лидер, Иэн Кёртис, покончил с собой, и чьи загадочные тексты преследовали меня, долгие годы играя в моей голове. Я не раз пытался засунуть их в свою колонку, но безуспешно.
На втором месте была We Do What We’re Told (Milgram’s 37) Питера Гэбриэла, песня о скандальных экспериментах, которые проводил социальный психолог Стэнли Милгрэм. В песне звучат отдаленные крики испытуемого, что мне тогда очень нравилось, и их я смог вплести в свои заметки. Третьей была потрясающая It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding) Боба Дилана, и эта композиция до сих пор заставляет меня волноваться. Поэзия в ней так хороша, что любая попытка приблизиться к ее уровню будет пустой тратой времени. Один из моментов песни поразил меня особенно сильно. Это те строки, где Дилан говорит о священниках, проповедующих зло, учителях, считающих, что знания умеют ждать. Завершается же куплет словами, что даже президент Соединенных Штатов временами раздевается догола. В этом было что-то, что зацепило меня.
Я помню, как очень сильно боялся лечения препаратами. В идеальном мире, как хотелось бы думать, человек способен вернуться к нормальному психическому состоянию естественным образом, не полагаясь на химикаты, особенно учитывая то, как много придумано других способов ему помочь. Когнитивно-поведенческая психотерапия, или КПТ, предполагает работу с экспертом, и ее суть заключается в том, чтобы «перезагрузить» мозг, который стал иначе воспринимать окружающий мир и ежедневные ситуации. В моем случае я годами накапливал негативные мысли и оттачивал привычку уничижительно относиться к самому себе и всему, что было хорошего в моей жизни, особенно к футболу. КПТ меняет привычные мировоззренческие установки, позволяя взглянуть страхам в лицо и побороть все те вещи, с которыми мозг не хочет и не может разбираться; по сути приводя пациента к старту, откуда он может начать все с чистого листа. Разумеется, трудно сказать, насколько КПТ ответственна за мой обновленный кругозор и какой вклад внесли препараты. Из страха и нежелания думать о том, что последний год я тратил на сессии КПТ по 300 фунтов в неделю, я скажу, что, вероятно, пятьдесят на пятьдесят, и теперь я считаю этот вопрос уже решенным.
Скажу по правде, я никогда не думал, что буду таким старым. Моя карьера пролетела мимо; в ней были невероятные взлеты и кошмарные падения, о которых я никогда не смогу позабыть. Когда я был маленьким, отец рассказал мне историю одного из своих кумиров – Питера Грина из оригинального состава Fleetwood Mac. Отчаянно желая удержаться на волне успеха, сопутствовавшего группе вначале, коллеги Грина по коллективу начали оказывать на него давление, чтобы он написал еще один хит. В середине 1970‑х Грин прошел курс электроконвульсивной терапии в психиатрическом госпитале после того, как ему диагностировали шизофрению, начавшуюся у него по причине провала попыток свыкнуться со свалившимися на него и группу славой и успехом. Тогда он сильно запустил свои ногти, и они достигли такой длины, что он уже не мог играть на гитаре. Я вспомнил об этой истории лишь пару минут назад – вероятно, потому, что сейчас, сидя здесь и печатая последние страницы этой книги, я знаю, что буду честен с собой до конца, если скажу, что в течение последнего года я очень много пил и частенько переедал, преследуя жалкую цель – набрать лишний вес, что, в свою очередь, вынудит тренеров не брать меня в состав. Я не хочу снова играть в футбол. Я не хочу возвращаться. Не заставляйте меня это делать.
ПРИНЯТИЕ
Ладно, руки вверх. Я так и не раскрыл свой потенциал. У меня слишком много изъянов в характере, которые не позволяют мне стабильно и качественно работать, и это касается практически любого дела, за которое я берусь. Все остальное – лишь оправдания. Но футбол – жестокая игра. Он несправедлив, как бы ни пытались уверить нас в обратном эксперты, потому что есть невероятно талантливые команды и есть команды, чьи игроки должны компенсировать нехватку таланта упорной работой: пробегать дальше и бить сильнее. Лично я виноват в том, что слишком много внимания уделял вещам, происходившим вдали от поля, и в результате от этого страдала моя карьера. Чем выше игрок поднимается в футболе, тем больше различных нюансов ему нужно учитывать, а если он не способен нормально с ними справляться – чего я не мог – это его собственное упущение.
Контракты на имиджевые права – очевиднейший пример этого, и они определенно стоят того, чтобы их заключать, если только ты не идешь против системы. Об этих контрактах было многое написано, но люди до сих пор задают вопросы. Давайте начнем сначала.
Если футбольный клуб осознает, что может получать прибыть от использования твоего имиджа, который, по сути, является самым личным объектом интеллектуальной собственности, каким только может владеть человек, тогда это осознание должно быть отражено в денежном плане. Другими словами, они обязаны платить игроку за это, и условия вознаграждения оговариваются в контракте футболиста.
Вот как работает эта система в музыкальном бизнесе. Если у меня есть фотография Пола Маккартни или Лиама Галлахера, которая стоит больших денег, и я захочу ее использовать в коммерческом плане, тогда мне понадобится заключить сделку со звукозаписывающей компанией, владеющей правами на творчество артиста. Если лейбл сочтет, что я предлагаю достаточно денег, а они, в свою очередь, будут способны заплатить адекватный процент с продажи артисту, тогда в теории я смогу использовать изображение для заработка.
В футболе все примерно так же. Если компания или партнер футбольного клуба хотят использовать имидж или имя какого-то определенного игрока, тогда клуб должен получить вознаграждение. Различие с миром музыки проявляется в том, что компенсация игроку уже заранее оговорена, и принцип предоплаты обычно не работает. Чтобы сразу прояснить один момент, скажу, что контракты на имиджевые права не являются незаконными, но их подробности всегда держатся под замком, в далеком темном углу. Если любой имиджевый контракт окажется в суде и станет причиной разбирательства, у обеих сторон будет достаточное количество убедительных аргументов в свою пользу.
Когда имиджевые контракты только начали появляться в футболе, многие агенты стали настаивать на том, чтобы клубы платили за них игрокам через компании, созданные с одной-единственной целью – уйти от уплаты налогов. Нельзя сказать, что у игроков не было имиджа, который стоило бы раскручивать: каждый футболист может неплохо заработать, добившись того, чтобы определенный процент заработной платы или подъемных был уплачен ему через имиджевую компанию, поскольку практически у любого игрока есть именная футболка, продающаяся через клубный фаншоп. Конкретная сумма, которую игрок должен получать от клуба за использование его имиджевых прав, как правило, остается неназванной, потому что Уэйн Руни, как мне кажется (я не знаю этого наверняка), продает больше футболок со своим именем, чем Димитар Бербатов.
Можно также привести в пример Дэвида Бекхэма. Его имя и образ стоят миллионы фунтов стерлингов – они помогают в продажах широчайшего набора различных товаров в клубном магазине и во всем остальном мире. Рыночная ценность Бекхэма так высока, что клуб вроде «Лос-Анджелес Гэлакси» готов платить ему огромные деньги лишь потому, что они продают невероятное количество разных вещей под брендом «Бекхэм». По сути, в данном случае его зарплата начисляется не за игру в футбол – это просто компенсация за продвижение брендовых товаров, которые клуб и его партнеры продают в течение всего срока действия контракта игрока.
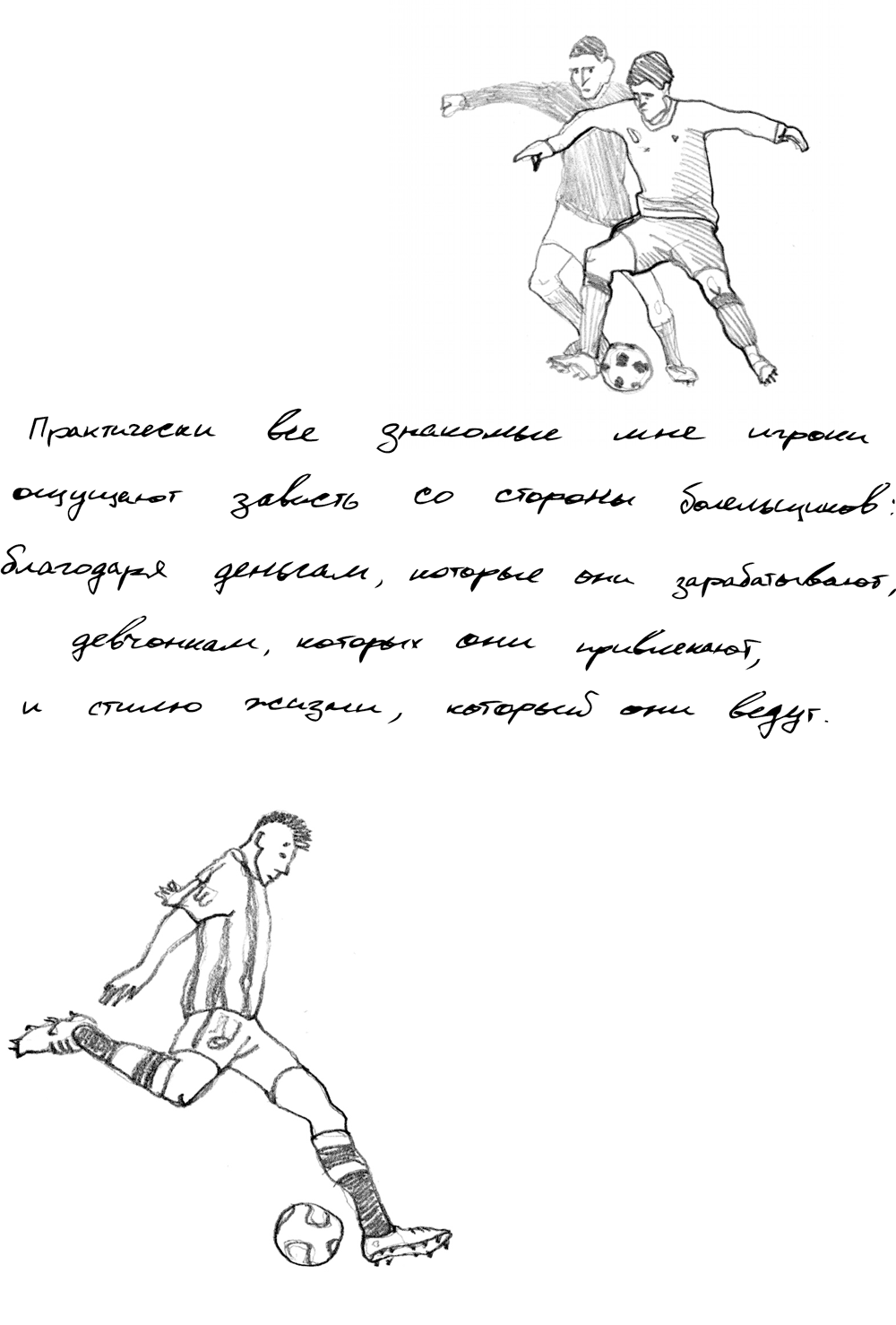
Этот тип контракта – один из немногих, предполагающих ежемесячные денежные отчисления, потому что речь идет об очень больших суммах. Вместо того чтобы платить непосредственно Бекхэму, клуб перечисляет зарплату компании, созданной специально для того, чтобы управлять имиджевыми правами Бекхэма. Она, в свою очередь, выплачивает дивиденды своим акционерам в конце каждого финансового года. Акционер, как правило, всегда один: сам игрок. Лазейка, как любят выражаться в СМИ, в том, что любой налог, который нужно будет уплатить с этих доходов, будет рассчитываться по корпоративной, а не по более высокой ставке личного подоходного налога.
Никто не станет спорить с тем, что образ Бекхэма стоит десятки миллионов фунтов, но существует немало злоупотреблений этой налоговой хитростью. Я слышал о двух игроках одного из топ-клубов Премьер-лиги, которым платили до 75 % их заработной платы через имиджевые компании. Очевидно, что это липа, и налоговики явно не оценят юмора этой ситуации.
Когда я начинал играть в футбол, у меня ничего не было. Являясь вечным романтиком, я тратил свои последние 5 фунтов на то, чтобы купить себе и девушке по хот-догу и банке колы на блэкпульском пирсе. Вскоре после этого я подписал свой первый профессиональный контракт на 500 фунтов в неделю – большие деньги, учитывая мое происхождение. Я продолжал трудиться и с помощью имиджевой компании начал зарабатывать десятки тысяч фунтов в неделю. Мне нравится иметь деньги, но лишь потому, что я люблю их вкладывать и помогать друзьям и членам семьи. Я никогда не имел кучу наличности, потому что инвестировал все до последнего пенни. Наверное, какая-то часть моих денег все же будет потеряна, когда я решусь вложить средства в какой-нибудь новый Facebook, который на деле окажется новым MySpace. Другая их часть будет возвращена мне с процентами, разумеется, если компании, в которые я вложился, продолжат работать так же успешно, как и сейчас. Но проблема подобного образа жизни заключается в том, что у тебя остается очень мало наличных денег на какой-нибудь экстренный случай.
Когда Королевская налоговая и таможенная служба наконец решит, что с нее хватит футбола со всеми его игроками-мультимиллионерами, налоговыми лазейками, хитрыми агентами, имиджевыми компаниями и армией бухгалтеров, что ж, тогда весь этот сумасшедший дом окажется под угрозой уничтожения. Как мне удалось выяснить, все, что должна делать эта служба – рассылать всем такие налоговые счета, которые будут достаточно велики, чтобы даже мысль о том, чтобы их оспаривать, казалась тебе слишком дорогостоящей, ведь что будет с тобой, если ты проиграешь суд? Самое страшное тут в том, что мой счет был одним из самых скромных. Я слышал об игроках, а такие есть практически в каждом клубе Премьер-лиги, которым выставляли аналогичные счета, и они оплачивали их, лишь бы их оставили в покое и избавили от публичного линчевания. Сарафанное радио донесло, что один игрок из Мидлендс должен был раскошелиться, ни много ни мало, аж на 5 миллионов фунтов стерлингов.
В годы экономического бума Премьер-лиги эти проблемы казались чем-то далеким от реальности. У меня был прекрасно обставленный дом с пятью спальнями, игровой, кинотеатром и невероятным количеством остальных комнат (я даже не уверен, что я во всех них побывал). У меня был полноразмерный стол для снукера, который использовался на чемпионатах мира, а также целая коллекция игровых приставок, которая стояла на эксклюзивной дизайнерской подставке стоимостью 6 тысяч фунтов и преимущественно собирала пыль. Вся наша мебель была привезена из Италии, и в некоторых шкафах была размещена большая коллекция самого популярного и высоко котировавшегося марочного вина урожаев последних тридцати лет, от бордо до бургундского.
В доме был мини-спа с джакузи, сауной и двойной ванной со встроенным телевизором, располагавшейся в отдельной комнате. На каждой стене дома висели произведения искусства, особенно ценной была гравюра Пикассо, приобретенная на аукционе Bonhams. У меня была целая сеть дилеров, которые звонили мне задолго до того, как самые лакомые кусочки рынка искусств оказывались вблизи аукционных залов.
У меня были сшитые на заказ в Savile Row костюмы; свадебное платье моей жены также изготовили по индивидуальным меркам. Ее кольца выставлялись на частных показах Tiffany на Бонд-стрит, равно как и ее ожерелья и серьги. Я отвозил детей в школу (стоимость обучения 3 тысячи фунтов в четверть) на какой-нибудь из трех новеньких машин, одна из которых была иномаркой ограниченной серии.
Мы проводили отпуск на Барбадосе и в Дубае, где снимали виллы, чья арендная стоимость доходила до 30 тысяч фунтов в неделю и к которым прилагался целый штат обслуги. В самый доходный год я оплатил своей семье и друзьям перелет на частных самолетах, забитых шампанским и самыми лучшими напитками. Я брал на работу шеф-поваров, чтобы те три раза в день подавали еду на тридцать человек гостей, и бронировал VIP-столики в самых модных местах города. Когда мы устраивали вечеринку дома, я нанимал диджеев и платил группам, которые для нас играли. У нас было членство во всех топовых заведениях Лондона (не то чтобы мы во многие из них ходили), мы смешивались с толпой богачей и знаменитостей за ужином в ресторанах или на благотворительных вечерах в пятизвездочных отелях.
Сегодня большая часть этого уже в прошлом. Налоговая выставила мне такой счет, что я был вынужден отдать почти все – и все, что я нажил футболом, было пущено с молотка. Ну, не совсем все. Как-то раз я собирал по всем не использовавшимся комнатам многочисленные чайные наборы. Если говорить по правде, я искал вещи, которые можно продать. В одной из комнат моего дома находилась душевая. На стеклянной двери кабины я увидел наклейку с логотипом фирмы, специально разработавшей ее таким образом, чтобы она могла вписаться в размеры комнаты, а также голубоватую прозрачную пленку, отрывая которую от стекла или экрана новой вещи, получаешь особое удовольствие. Внизу стены скопился приличный слой пыли. Под раковиной располагались великолепные итальянские ящики для полотенец, которые, впрочем, не видели ни итальянцев, ни полотенец, но тем не менее были прекрасны. Я не знал, что двигало мной, когда я решил открыть один из них, самый большой, отчаяние ли, любопытство ли, потому что, насколько я мог знать, никто и близко к ним не подходил с тех самых пор, как их установили рабочие.
Щелчок открывшегося ящика огласил комнату эхом, поднялась пыль, скопившаяся внизу. Пыль была настолько густой и тяжелой, что мгновенно покрыла мне лицо и руки. Внутри я смог разглядеть большую и измятую синюю сумку с синими же ручками; на каждой из них была знакомая желтая надпись: IKEA. Насколько я помню, в нашем доме не было ничего из этих магазинов. Но сумка казалась полной – об этом говорил вес выдвигаемого ящика, даже притом, что я никогда не открывал его раньше. Она топорщилась по бокам, так что то, что в ней находилось, никак не могло быть привычным для IKEA наполнением типа держателя туалетной бумаги, набора ножей и вилок, рамок для фотографий, в которые ничего не влезает, или того старого разбитого зеркала из первого твоего дома, которое девять лет назад заменили на новое, но которое твоя жена никак не хочет выбросить. Как бы то ни было…
Озадаченный, я медленно потянул за ручки сумки. Она была слегка подернута плесенью, что смутило меня еще больше. «Почему тут спрятана куча красного постельного белья?», – спросил я себя. В нашем доме никогда не было белья такого цвета и, как мне хотелось думать, никогда и не будет. Более того, мы никогда не пользовались шелковыми простынями – даже когда на нас лился дождь из денег, находились вещи, в необходимости которых я не был убежден. Присмотревшись, я увидел, что красная вещь, чем бы она ни была, оказалась небольших размеров и была обернута лишь один раз, слева направо. Совершенно точно это был не пододеяльник – должно быть, это была дорогая наволочка, приобретенная в момент чрезвычайной суеты, вероятно, после того, как какой-нибудь негостеприимный родственник внезапно пригласил нас с ночевкой. Но как только я стал ее разворачивать, стали появляться буквы, одна за другой: сначала «A», потом «Л». Я продолжал тянуть, пока не смог прочесть все слово, простроченное на красной ткани целиком. Надпись гласила: АЛОНСО.
Содержимое этой сумки из IKEA служило настоящим путеводителем в духе «Кто есть кто в Премьер-лиге» настоящего и прошлого; добрую половину часа я потратил в этой комнате, вынимая из сумки одну футболку за другой. За Алонсо последовал Кин, а ему компанию составили Фабрегас и Адебайор. Потом были Джонсон и Дойл, на пару с Лескоттом, Родуэллом и Хююпя. На этом все не кончилось: из сумки я вынул две чемпионские футболки Фердинанда и Видича (очень редкие коллекционные вещи, с золотой эмблемой Премьер-лиги на рукавах). Были еще футболки Кэхилла, Дэвиса, Вудгейта и Ричардса. Я также нашел еще несколько футболок, принадлежавших Куэльяру, Парнаби, Карлайлу, Бейлу, Онуохе, Кину (другому), Хаддлстоуну и Бербатову, и еще с десяток других. У меня даже была домашняя футболка «Лидс Юнайтед», подписанная всеми игроками команды после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В общей сложности, в сумке было около шестидесяти разных маек.
Так как я понимал ценность футболок игроков Премьер-лиги, это был момент божественного откровения. Я подсчитал, что общая стоимость футболок составляет не менее 30–40 тысяч фунтов, не беря в расчет суммы, которую можно было бы выручить за футболки топ-игроков. В хороший день на аукционе, если повезет, можно было бы продать эти футболки больше чем за 50 тысяч фунтов. Чувствуя себя более чем довольным находкой, я отправился в кровать и впервые за почти полгода крепко уснул.
На следующее утро я встал с новой целью. Футболки могли помочь мне, и я это знал. Остаток дня я провел, обзванивая разных людей, в надежде найти для них новых владельцев. День плавно перетек в вечер, и я, наконец, закончил обзвон. Несмотря на то что я устал, я был невероятно счастлив и очень взволнован. У меня появился второй шанс доказать, что я на что-то способен после двенадцати лет игры в футбол на профессиональном уровне. Я нашел возможность положить конец всему происходящему вокруг меня безумию, и я не собирался опять все испортить.
Сегодня практически все эти футболки отыскали себе хозяев: они висят в рамках в домах тех, кто мне дорог. Мои друзья были счастливы получить их от меня, и каждый раз, когда я заезжаю их проведать, они показывают их мне. Я никогда не устану любоваться гордыми обладателями футболок, которые повесили их на стены. Как пел Фил Дэниэлс когда-то, это дает мне ощущение невероятного благополучия.
Останки моей карьеры не ограничивались одними футболками. Я нашел новый дом для каждой подписанной программки к матчу, которые экипировщики собирали для меня долгие годы. Я раздал все подписанные постеры, на которые никогда даже не смотрел, они были сложены в коробке из-под обуви, лежавшей где-то в глубинах моего тройного гаража. Я раздал и все мячи, которые собрал с важных матчей. В саду позади дома мы развели костер, в котором сожгли все до единой газеты и вырезки, собранные за всю мою карьеру. Я раздал все свои награды игроку года, месяца и все бутылки шампанского лучшему игроку матча, скопившиеся у меня за эти годы. Всего таковых набралось пятьдесят семь штук. Но кто считает? Я раздал и все свои медали. Все до единой.
Я отчаянно нуждался в этих 50 тысячах фунтов, но суть не в этом. Футболки, подписанные постеры, медали и индивидуальные награды – все это сделало людей, которые мне дороги, невероятно счастливыми. И что более важно – ведь тут идет речь о моем собственном благополучии, в конце концов, – я окончательно перевернул последнюю страницу очень непростой главы своей жизни. Материально я, быть может, обеднел, с финансовой точки зрения я немного уступаю своим сверстникам, но в плане самоудовлетворения все они смотрят на меня снизу вверх. Моя футбольная карьера, красочная и уникальная в своем роде, всегда будет на своем месте, и любой, кому нечем заняться, может ее рассмотреть в деталях. Мое имя вписано в исторические книги; вы найдете его на сотнях тысячах, если не миллионах веб-страниц; а кое-где оно даже вырезано в камне. Но гораздо важнее всей этой чепухи тот факт, что мое имя живо и будет жить здесь и сейчас, и дальше – в моих детях. А этого, как я продолжаю напоминать самому себе, у меня никогда не смогут отнять.

