Глава тридцать восьмая
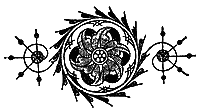
Когда Джордан вышел на сцену театра на Док-стрит и уселся рядом с моим отцом, я понял, что сейчас все разрозненные события его прошлой жизни наконец сложатся в одно целое. Я не решался задавать ему слишком много вопросов о том времени, которое было отравлено для нас обоих, а сам Джордан не выказывал особого желания распространяться на эту тему. Когда он заговорил, я почувствовал, что он впервые чувствует себя спокойно под пронизывающим взглядом отца. Говорил Джордан сухо, по-деловому. Ему легко удавалось восстановить цепь событий, и я невольно понял, почему моя Церковь учила меня, что исповедь полезна для души. Джордан начал, и все мы подались вперед, не желая пропустить ни единого слова, которое произносил этот отстраненный человек с тихим голосом. Даже генерал явно напрягся.
— Не успел я появиться на Булл-стрит, как меня тут же швырнули в комнату без мебели для буйнопомешанных. Врачи давали мне таблетки, чтобы умерить мою ярость по поводу того, что меня посадили под замок, но я продолжал орать на нянечек, ночных дежурных и пациентов, а потому меня постарались изолировать. Они увеличивали дозу лекарств до тех пор, пока я не утратил ясность ума. Когда меня вернули в общую палату, посетителей ко мне не пускали, а письма я мог получать только от родителей. Точно не помню, когда это случилось, но скоро мне провели первый сеанс шоковой терапии, так что мне все стало безразлично. Месяцами я ползал, еле волоча ноги, среди самых опасных психопатов, блуждая в облаках сигаретного дыма и проходя мимо людей, которых медленно убивают торазином. Но что врачи и медсестры действительно считали ненормальностью, так это мою неспособность смириться с предательством отца. Шоковая терапия заставляла меня забыть обо всем, но со временем память постепенно возвращалась, и тогда мне становилось ужасно больно. Когда я вспомнил, как там, на ступенях, отец ударил меня, как текла по моему лицу его слюна, то даже попытался покончить с собой: повеситься на ремне, который украл у уснувшего санитара. Позже я пытался повеситься на простынях и получил еще один курс шоковой терапии. Мать навещала меня дважды в неделю. На Булл-стрит я оставался до мая. Я провел там почти год, прежде чем меня выпустили. Мое освобождение всех застало врасплох. И в первую очередь меня самого. В середине февраля я уже пошел на контакт с персоналом и на полную мощность включил обаяние. К тому времени, как я вышел из больницы, меня уже все любили. С этой целью я провел настоящую кампанию. Даже организовал в своей палате сдачу донорской крови. Я лично брал кровь у половины пациентов, потому что мне они верили больше, чем сестрам. Я добился всеобщего доверия — и пациентов, и врачей. Я выжидал подходящего момента. Всем улыбался. А после начал тайно готовиться к тому, что стану делать, когда выберусь отсюда.
Слушая Джордана, мы видели мир его глазами — глазами пациента, прошедшего продолжительный курс лечения психотропными препаратами и шоковой терапией.
Во время пребывания в изоляторе Джордан почувствовал тягу к монашеской жизни. Вернувшись в обычную палату, он обнаружил, что силой слова можно умерить ужас кротких и смятенных духом. Он стал говорить как священник, скрывая от всех страшную ненависть, отравлявшую его сердце. В нем уже родился священник, но и воин не хотел сдаваться. Единственные голоса, которые он слышал во время пребывания в изоляторе, были голосами его отца и Кэйперса. И голоса эти являлись к нему по ночам, безмерно терзая.
Когда Джордан вышел из больницы, план был уже готов. Он написал родителям открытку, сообщив, что хочет добраться автостопом до Калифорнии, чтобы серьезно заняться серфингом. До базы Джордана довез один полицейский, отдыхавший с подружкой на берегу острова Святого Михаила. У ворот Джордан представился дежурному капралу сыном генерала Эллиота, затем заместитель начальника военной полиции подбросил его до гарнизонной лавки, откуда Джордан уже прошел прямо к дому генерала. Дом был огромным и необжитым. Джордан переночевал в неиспользуемом помещении для прислуги. Спрятавшись среди азалий в человеческий рост, он наблюдал за тем, как ужинают родители, не подозревавшие о том, что кто-то провожает глазами каждый проглоченный ими кусок.
Следующие два дня он готовил отцу ответный удар: месть за пережитое им унижение на ступенях здания суда. В мастерской отца он изготовил самодельную бомбу с двумя батарейками, питающими маленький, но мощный детонатор. Устройство бомбы он тщательно продумал, причем порох взял у отца: тот использовал его для приготовления зарядов для ружья времен Гражданской войны, принадлежавшего одному из его предков, соратнику Уэйда Хэмптона. Бомба должна была быть легкой и безопасной, чтобы ее можно было нести в руке, пока не будет установлен таймер. Джордан начертил подробные карты и снова шаг за шагом мысленно повторял разработанный им план, внося необходимые коррективы и выжидая подходящего момента для претворения его в жизнь.
Когда мать уходила днем по делам, а служанка убирала верхний этаж, Джордан тихонько пробирался в дом через заднюю дверь и крал еду из кладовки, находившейся в полном запустении. После ухода служанки Джордан садился за туалетный столик матери и вдыхал ее запахи, как это бывало в детстве. Он даже переночевал один раз в своей комнате — так ему хотелось снова пережить прежние ощущения. Он мог бы простить отцу любое преступление, кроме одного: он не мог простить отцу украденного детства.
Когда родители на уик-энд уехали в Хайлендс в горах Северной Каролины, Джордан закончил последние приготовления. Он написал родителям письмо, рассказав обо всем, что планировал сделать и почему. Поведал им о том, во что свято верил, а еще о том, что думает о мире теперь. Он еще раз подтвердил, что является противником войны во Вьетнаме, признал, что за время его изоляции в больнице Колумбии это чувство только усилилось. Единственной слабостью этой своей антивоенной позиции он считал нежелание отвечать насилием на насилие. Матери он признался в вечной любви, поблагодарив ее за все. Отцу же Джордан оставлял свой труп, и свою ненависть, и свою благодарность за то, что его не за что благодарить. И это послание, бессвязное, неуклюже риторическое, слегка заносчивое, с налетом самовлюбленности — своеобразный реликт шестидесятых годов, — он оставил в материнской шкатулке для драгоценностей.
В субботу вечером Джордан приступил к реализации своего плана. Он прошел полмили к пристани для яхт, неся на вытянутых руках доску для серфинга. Предыдущей ночью он положил бомбу под переднее сиденье лодки, которую заказал на уик-энд по телефону на имя сына адъютанта своего отца. Мотор он проверил еще накануне — сделал тест-драйв. Джордан поставил в лодку запасную канистру с бензином, положил орешки, шоколадки, кока-колу и бутылку виски «Уайлд терки», которую стащил из отцовского бара, а еще уложил пластиковые мешки с донорской кровью, украденные им в психиатрической больнице. Он завернул четыре пинты крови в газеты и марлю, запихнул в пакет из универсама, а пакет сунул в ящик для снастей. Кровь была его группы — нулевая.
Джордан рассказал нам, как аккуратно надевал форму отца, присвоив себе ранг майора, прикрепив, где надо, знаки различия. Плюнув, начистил до блеска отцовские ботинки. Спасибо строгим больничным правилам: волосы его были коротко острижены, именно так, как у морских пехотинцев. Джордан посмотрел в большое отцовское зеркало, словно заглянув в жизнь, которую хотел для него отец. Джордан выглядел образцовым морпехом, за исключением одного: в тот вечер он был разъяренным, а потому опасным человеком, не способным здраво мыслить.
Джордан взял генеральский служебный автомобиль и, не обращая внимания на дождь, поехал вперед. Солдаты, увидев звезды на переднем бампере, отдавали ему честь, причем никто из них, как бесстрастно констатировал Джордан, не сделал это так четко, как он сам — парень, воспитанный Корпусом морской пехоты. Преодолев пять миль до уотерфордского военного аэродрома, у въезда в который ему отдал честь рядовой первого класса, Джордан проехал мимо взлетно-посадочной полосы к ангарам, где стояли на приколе большие военные самолеты. В караульных помещениях горел свет, офицеры несли дежурство. Но, проверив буквально каждую эскадрилью на предмет признаков жизни, Джордан понял, что все спокойно.
Джордан сказал, что долго не мог решить, что лучше взорвать — А-4 или реактивный «фантом». Ему нравились красивые плавные линии обоих самолетов. Когда-то ему страшно хотелось стать летчиком в Корпусе морской пехоты. Он мечтал стать летающим мальчиком, способным быстро спуститься с неба, чтобы спасти припертый к стенке, окруженный врагом отцовский полк. Это было сто лет назад, еще в другой жизни, но мысли о прошлом вызывали ностальгию, мешали сконцентрироваться на поставленной задаче. Ему не хотелось взрывать самолет, на котором он когда-то мечтал летать, словно этим он мог уничтожить тот маленький кусочек детства, о котором вспоминал без слез.
Итак, он проехал мимо эскадрильи Бамблби, мимо эскадрильи Шамрока, мимо самолетов, расплывчатые тени которых казались гротескными. И тут он увидел его: в конце рулежной дорожки стоял DC-3, жалкий пережиток ушедшей эпохи воздухоплавания. Отличный объект для осуществления его задачи. Джордан съехал с дорожки и спрятал автомобиль за густым кустарником. Он тщательно упаковал бомбу, но сейчас, прежде чем направиться к самолету, дополнительно завернул ее в водонепроницаемую ткань. Дорогу освещали лишь огни взлетно-посадочной полосы, и Джордан чувствовал себя человеком-невидимкой.
Джордан быстро и ловко прикрепил пакет к днищу фюзеляжа DC-3, рядом с топливным баком. Установил таймер на четыре часа утра. Джордан не помнил ни того, как вернулся на остров Поллок, ни того, как поставил машину отца в гараж, ни того, как спрятал ключ в обычном месте, под банкой с краской.
Оказавшись снова в комнате родителей, он повесил форму отца в шкаф. Взял из альбома с фотографиями свою любимую, на которой был снят вместе с матерью. Прежде чем поставить на место отцовские ботинки, поплевав, снова начистил их.
В отцовской ванной украл из аптечки нераскрытую упаковку лезвий «Жилетт». Губной помадой матери написал на отцовском бритвенном приборе слово «Джордан».
Прервавшись, Джордан взглянул на генерала.
— Я хотел, чтобы ты знал. Я использовал дом в качестве базы для операции, — сказал Джордан и продолжил свое грустное повествование.
Так вот, потом он присел за туалетный столик матери, перечитал свою предсмертную записку и подумал, что слишком уж она надрывная. Он надеялся, что ему хватит смелости убить себя, когда придет время, но если не хватит, у него был альтернативный план. Посмотрев на часы, Джордан прошел в свою комнату, надел плавки, а поверх них — спортивный костюм. Еще раз прошелся по дому, чтобы бросить последний взгляд на предметы, сопровождавшие все его детство.
— Я вихрем домчался до пристани, отвязал лодку и пустил ее на волю волн. Мотор я не заводил, пока не добрался до главного канала, ведущего в пролив. Я успел проплыть три мили, когда взорвался DC-3.
При этих словах в театре на Док-стрит все замерли. Все как один. Казалось, мы разучились дышать.
Я прекрасно знал, что еще произошло в ту ночь. За несколько минут до полуночи капрал Уиллет Эглсби и дочь полковника Харольда Пруитта устроили тайное свидание в продуваемом бризом бунгало, расположенном неподалеку от дома, где находилось окно той самой спальни, откуда выскользнула Бонни Пруитт. Их любовные отношения протекали не слишком гладко из-за Эллен Пруитт, которая придавала излишнее значение чинам и званиям, а потому так запилила своего мягкотелого мужа, что тот в результате запретил своей семнадцатилетней дочери встречаться с пылким капралом. Обстановка в доме Пруиттов накалилась до предела, и тут капрал обнаружил недалеко от дома Бонни брошенный DC-3. Капрал Эглсби и девица Пруитт занимались любовью, когда взорвалась бомба, и юных любовников похоронили рядышком на национальном кладбище, расположенном у дороги в Уотерфорд.
И все же из-за таких потерь живой силы в результате взрыва самолета и реакции пожарного расчета Корпуса морской пехоты, так же как и уотерфордской пожарной команды, были безвозвратно утрачены основные вещественные доказательства: на месте взрыва толклось множество пожарных, но ни один из них не заподозрил преступления. Тела Бонни Пруитт и капрала Эглсби были обнаружены лишь на следующий день, когда на место взрыва прилетели военные эксперты. Когда те же самые эксперты явились в дом полковника Пруитта, убитая горем и осознанием собственной вины Эллен Пруитт показала им три предсмертные записки, которые Бонни написала родителям и в которых сообщала, что наложит на себя руки, если те разлучат ее с Уиллетом Эглсби. Капрал Эглсби был сыном инженера из Западной Виргинии, который занимался строительством автострад и хорошо разбирался во взрывчатых веществах. После тщательного расследования военные эксперты пришли к выводу, что юные любовники совершили коллективное самоубийство и что капрал изготовил более чем эффективную бомбу, чтобы осуществить данную ими друг другу мрачную клятву. В отчете, составленном сухим бюрократическим языком, было указано, что, когда взорвалась бомба, топливные баки DC-3 были полными. В отчете также указывалось, что в момент взрыва парочка занималась любовью, а это весьма странно, если учесть явное отчаяние влюбленных.
Повествование продолжила Селестина Эллиот, которая элегантно скользнула в кресло свидетеля и начала говорить, обращаясь к Джордану, ко мне и к Ледар. Она сказала, что, узнав о катастрофе, генерал Эллиот тут же сел на самолет и полетел на аэродром. Она же вернулась на машине прямо на остров Поллок. Ко времени, когда муж после долгих часов разбирательств и общения с новостными агентствами прибыл домой, Селестина уже успела уничтожить все следы присутствия Джордана. Она стерла его имя, которое тот написал помадой на бритвенном приборе отца. Сверяясь с письмом, найденным ею в шкатулке для драгоценностей, Селестина шла по следам сына, начиная от помещения для прислуги и кончая мастерской генерала. Она прочла письмо с признанием сына о намерении взорвать самолет; в письме этом Джордан объяснял свой поступок желанием доказать отцу, что унаследовал от него истинный боевой дух — боевой дух, позволяющий постичь природу военной стратегии, смелой и наступательной, с фактором внезапности. Джордан хотел, чтобы взорванный самолет стал концом карьеры отца как офицера Корпуса морской пехоты. Он хотел опозорить отца и запятнать его имя. Этот акт был ответом на то унижение, которому отец подверг его на ступенях здания суда. На плевок отца он мог ответить только огнем и собственной кровью.
В том письме, которое ей было почти невыносимо читать, продолжила Селестина, с трудом сдерживая слезы, Джордан описал, как забронировал лодку от имени сына другого морпеха и как украл упаковку бритвенных лезвий «Жилетт». Он сообщил, что ночью выведет лодку в открытое море. Он вскроет себе вены, перережет горло и, ослабев, перевалится через борт лодки, предварительно привязав к поясу якорь. Последние предложения были неразборчивы, сказала Селестина, что нехарактерно для Джордана.
Она сожгла последнее письмо сына, так как не была уверена, что супруг сможет все это пережить. Сожгла, а пепел смыла водой из-под крана на кухне. Приготовила себе коктейль и стала ждать возвращения мужа. Когда генерал прибыл домой, его встретила уже совсем другая жена, сломленная и покорная женщина, совсем не та, которую он оставил на поле для гольфа в Хайлендсе в горах Северной Каролины.
Селестина потихоньку погружалась в сумеречное пространство, в котором она либо ходила точно во сне, либо пила. Муж считал, что это реакция на смерть Джордана. Все началось после того, как в Атлантике обнаружили его дрейфующую лодку со следами крови его группы на подушках и на деревянной обшивке. Рыбак, обнаруживший лодку, сказал, что она выглядела так, точно там быка зарезали.
Эллиоты посоветовались с капелланом и решили провести не слишком пышную поминальную службу, только для своих. После службы генерал Эллиот набросился прямо возле церкви на Шайлу, Майка и меня. «Я хочу, чтоб вы знали, что друзья моего сына несут полную ответственность за его смерть», — заявил генерал. Селестина тогда постаралась увести его от греха подальше. «Забавно. Никто из нас на него не орал и уж тем более не бил, — вспыхнула от злости Шайла. — Мы просто любили Джордана. Мы на него не плевали и не засовывали в сумасшедший дом». «У меня никогда не было друга лучше, — сказал я, оттащив Шайлу в сторону. — Мы его обожали». «Мы знаем это, Джек», — произнесла Селестина, и только тут мы вдруг поняли, что она пьяна.
Она не просыхала три года, и тосковала по сыну, и ненавидела мужа, и презирала себя за то, что все еще любила его. Живя бок о бок с мужем, Селестина не чувствовала абсолютно ничего. Бурбон был сумеречным, отвлекающим средством, и она пила, пока генерал не вынужден был выйти в отставку, поскольку жена ставила его в неловкое положение. В день отставки мужа, через три года после поминальной службы, она отключилась, стоя на трибуне, и очнулась в центре детоксикации во Флориде. Таким образом, генерал Элиот уже дважды получил жестокий урок, узнав, что враг внутри городских стен в десять раз опаснее армий, ведущих наступление на поле боя. Многие в Корпусе морской пехоты думали, что президент вот-вот назначит генерала командующим, но неприятности в семье продемонстрировали его неспособность поддерживать дисциплину и порядок на домашнем фронте.
Майк Хесс поднялся со стула рядом с моим отцом и сказал:
— Так для чего же мы сегодня собрались? Все это случилось более пятнадцати лет назад. Ужасно, конечно, что погибли молодая девушка и морской пехотинец. Никто этого не отрицает. Но нам важно идти дальше. Я прав или не прав? Все мы здесь пострадали, потому что война затронула нас так, как мы и не подозревали. После антивоенных манифестаций Шайла стала совсем другой. Мы потеряли Джордана. До недавнего времени большинство из нас считали, что он умер. Мы стали свидетелями того, как представители нашего поколения ополчались друг против друга, ненавидели друг друга, не разговаривали друг с другом — и ради чего? Может, сегодня пора поговорить о прощении?
— Нет, о справедливости, — отрезал генерал, вскочив с места.
— Справедливость для кого, генерал? — задал вопрос настоятель аббатства Мепкин. Он встал во весь рост, и тень капюшона падала ему на лицо. — Справедливость для вас или для Бога? Вы ищете справедливости в военном суде или вам нужна высшая справедливость?
— Мне нужно и то и другое, святой отец, — ответил генерал. — И я уверен, что вы и весь ваш орден мешаете восстановлению справедливости в том или ином виде.
— Мы знаем, что ваш сын — хороший священник и слуга Господа, — спокойно сказал отец Джуд.
— Он взорвал двух невинных людей! — не выдержал генерал. — Это все, что Господь должен знать о моем сыне.
Судья Макколл стукнул молотком и взглянул на часы.
— Не забудьте, для чего мы сюда пришли. Давайте ближе к делу.
— Как ты выбрался из страны, сын? — спросил генерал. — Ведь твою лодку нашли в море.
— На доске для серфинга, — ответил Джордан. — Я два дня добирался до берега. Неделю пробыл на острове Орион в рыбацком домике Макколлов. Рыбачил и ловил по ночам крабов. Отдохнув и восстановив силы, взял плоскодонку Джека и глубокой ночью отправился к нему домой.
Я поднялся и заявил:
— Теперь моя очередь рассказывать.
Переполнившее меня горе камнем давило на сердце. После поминальной службы я заперся в своей комнате, лег на кровать и попытался определить точный момент, с которого все в моей жизни пошло вразнос.
Вскоре после поминальной службы Шайла уехала, чтобы принять участие в антивоенной демонстрации возле здания ООН в Нью-Йорке, я же отказался к ней присоединиться. Я дал себе торжественное обещание никогда больше не терять контроля над обстоятельствами, которые могут возникнуть на моем пути. Я собирался наладить спокойную и размеренную жизнь. Собирался выращивать герань в ящике на подоконнике, каждый год копать грядки, напоминая себе, что я часть большого природного цикла, расширять свой словарный запас, читая лучших мастеров слова, а приятелей выбирать из числа людей без странностей и фанфаронства. Я больше не хотел страдать из-за накала страстей, бушующих в сердцах моих лучших друзей. Джордана погубило его упрямство, а также неспособность либо помириться с отцом, либо просто уйти с его дороги. Шайла отвергала пассивность родителей и позволяла увлечь себя каждой новой идее, способной наполнить смыслом ее жизнь. Подобно заблудшему раввину, она посвятила себя неустанным поискам еще не написанной Торы.
Амбиции Майка горели ярко, как никогда. Он уже работал в отделе писем агентства Уильяма Морриса на Манхэттене и успел подсунуть проект своего первого фильма агенту, с которым встретился в курилке нью-йоркского спортивного клуба. Каждый вечер он ходил в кино и смотрел пьесы, которые шли не на Бродвее и о которых он мне писал, прикладывая собственные критические замечания и объясняя, что бы он исправил, будь это в его власти. Майк не страдал от присущей южанам привычки оглядываться назад, я же чувствовал, что мне все больше и больше нравится образ жизни паралитика, прикованного к дому.
А потом в одну прекрасную ночь я проснулся оттого, что кто-то зажал мне рот шершавой рукой. Я уже хотел было закричать, как вдруг услышал голос Джордана, который что-то шептал мне на ухо. В темноте мне все же удалось разглядеть очертания лица Джордана, и теперь я уже не сомневался, что это он. Онемев от изумления, я с трудом натянул на себя бермуды, футболку и старые мокасины и вслед за Джорданом перелез из окна на дуб, а потом спустился в сад, наполненный треском цикад, и прошел на мостики, где мы уселись, свесив ноги в воду.
— Как там Иисус? — поинтересовался я. — Слыхал, ты отправился с Ним повидаться.
— У Него все прекрасно. Справлялся о тебе, — ответил Джордан и тут же помрачнел. — А вот у меня все плохо. Со мной что-то не так, Джек.
— Спорить не стану, — согласился я. — Вся лодка была залита твоей кровью.
— Группа крови моя, только принадлежала эта кровь другим людям, — объяснил Джордан. — Я еще в психушке все это задумал. А что сказал мой отец о самолете?
— О каком самолете? — не понял я.
— О том, что я взорвал, — отозвался Джордан.
— Ты не мог это сделать! — воскликнул я, молясь про себя, чтобы я оказался прав.
Голос Джордана был каким-то призрачным, безжизненным.
— Я уже в восемь лет мог с закрытыми глазами проехать по полю на танке M1. Хочешь узнать, как приготовить коктейль Молотова? Самодельное взрывное устройство? Или установить пунджи в экскрементах на тропе? В Уотерфорде я прошел по канализационной системе, так что знаю, как улизнуть, если сюда заявятся коммунисты.
— Джордан, случилось нечто похуже, — вздохнул я.
— Да, Джек, с самолетом я зашел слишком далеко, — ответил Джордан. — Я знал, что тебе это не особо понравится.
— Ты когда-нибудь слышал об Уиллите Эглсби или Бонни Пруитт? — спросил я.
— Не-а. Кто такие?
— Они были в самолете, когда тот взорвался, — объяснил я. — Люди думают, что они сами себя подорвали. Так сказать, акция протеста непонятых любовников.
Я до сих пор удивляюсь, как крик отчаяния Джордана не разбудил в ту ночь буквально каждого спящего жителя Уотерфорда. Он рыдал, а я прижимал своего друга к себе и пытался придумать, как его спрятать. Перед рассветом я снова провел Джордана через сад, а потом по ветвям дуба в спальню. Подставив стул под люк в потолке, помог Джордану забраться на чердак, чтобы тот мог поспать на старых матрасах. Нервное расстройство, которое в свое время придумал для отмазки от суда генерал Эллиот, на сей раз случилось на самом деле. Джордан предавался горестным переживаниям в условиях немыслимой жары на чердаке, наверху, в то время как я, единственный человек в мире, знавший, что он жив, в спальне, внизу, разрабатывал план его спасения.
Когда Шайла прибыла на следующий день в наше захолустье, я уже поджидал ее на железнодорожной станции в Йемасси. У нее был особый дар ясно мыслить в атмосфере военного совета, и она гордилась тем, что даже в условиях повседневного хаоса не теряла головы, и я нуждался в ее помощи в деле спасения Джордана. Я привел ее на чердак, и мы втроем, потея от жуткой духоты, пытались найти способ вывезти Джордана. Обсуждали, стоит ли обратиться за помощью к родителям, но то было не самым лучшим временем в истории нашей страны, чтобы надеяться на советы старших. За прошедшие несколько лет мы слишком быстро повзрослели и видели так много подстрекателей в своих рядах, что понимали: верить нельзя никому — только себе. Шайла придумала легенду для прикрытия, я же разработал маршрут побега.
Приготовил автомобиль для долгого путешествия, в женском лагере методистов возле Оранджбурга купил подержанное каноэ, а у поставщика охотничьего снаряжения в Чарлстоне — палатку. Шайла собрала запас продовольствия, упаковав его в корзину для пикника, и набила сумку-холодильник скоропортящимися продуктами. У нас были колбасы и сыры, пакеты с яблоками и апельсинами, сушеные фрукты, банки с сардинами и тунцом, бутылки с вином в количестве, достаточном для того, чтобы придать каждой трапезе элемент праздничности, как бы быстро ни пришлось нам поглощать все во время нашей поездки.
Шайла пошла к врачу, пожаловалась на бессонницу и депрессию и вышла от него с таким количеством валиума и снотворного, что им можно было усыпить маленькое стадо бизонов. Шайла очень тщательно подбирала дозы снотворного для Джордана, и тот впервые со времени появления в моем доме стал нормально спать. На следующий день я сделал анализ крови и, зайдя в городскую библиотеку, написал родителям длинное письмо. Письмо это давалось мне с большим трудом, поскольку застенчивый язык любви был для меня непривычен. Я не собирался писать ласковые слова, однако письмо получилось очень нежным, хотя я прекрасно знал, что оно причинит родителям невероятную боль. Я дал Шайле прочитать его, а она показала мне то, что написала Джорджу и Руфи Фокс. Ее послание было просто прелестным. Шайла сумела выразить любовь к родителям с той простотой, о которой я мог только мечтать. Когда она склонилась над моим письмом, я подошел и поцеловал ее. Она подняла глаза, и, мне кажется, именно тогда мы отдали друг другу свои жизни.
В два часа утра мы втроем выехали из Уотерфорда. Прежде чем завести мотор, мы долго толкали автомобиль по улице в сени дубов. Джордан улегся на заднее сиденье, и мы накрыли его горой одеял. И я, и Шайла оставили свои письма на столе, где обычно завтракали в доме, где прошло наше детство. Мы написали, что собираемся пожениться и медовый месяц проведем на озере Люр в горах Северной Каролины. На самом деле уже меньше чем через сутки мы подъезжали к Чикаго, направляясь на север.
Машину вели по очереди, останавливаясь только для того, чтобы заправиться и сходить в туалет, и без конца говорили буквально обо всем, избегая лишь упоминания о тех чудовищных событиях, которые вынудили нас пуститься в это безрассудное путешествие в неизвестность.
Когда я изучал карту во время очередной остановки, Джордан заметил:
— Невозможно поверить, что Южная Каролина и Миннесота находятся в одной стране.
— Как странно, — произнесла Шайла. — Им ведь надо было уговорить и этих людей, и жителей Южной Каролины отправиться на край земли, чтобы стрелять во вьетнамских крестьян. Интересно, в чем здесь фокус?
— Если не станешь больше поминать всуе вьетнамскую войну, — отозвался я, — обещаю, что не пополнишь статистику избитых жен.
— Если ты меня хоть пальцем тронешь, — парировала Шайла, — то найдешь свое имя в интервью, которые берут у евнухов.
— Будьте счастливы. Это приказ. Вы ведь всем обязаны именно мне, — ухмыльнулся Джордан.
Мы переночевали в мотеле Гундерсена в Гранд-Маре, зарегистрировавшись под вымышленными именами, затем в магазине «Медвежья тропа» обзавелись подробной картой малонаселенной приграничной местности Баундери-Уотерз. Гид разработал для нас маршрут, чтобы мы могли отправиться туда, где не ступала нога человека.
На следующий день рано утром мы вышли в туман, мягкий, точно пух одуванчиков. На озере, отмеченном на карте, мы сели в привезенное с собой каноэ, и когда начали работать веслами, то нам показалось, что мы внезапно очутились в пещере из чистой бирюзы. По вечерам мы разбивали лагерь на берегу и голыми купались в воде, все еще холодной от растаявшего снега. Бутылки с вином охлаждали в прибрежных скалах. Ночью спали все вместе в одной палатке, а днем плыли по цепочке озер, нанизанных одно на другое, словно бусины четок, через густые звенящие лесá, и бурые медведи при виде каноэ оттаскивали подальше от воды медвежат, а лоси, пришедшие на водопой, смотрели на нас со спокойным равнодушием.
Во время этого путешествия наша дружба, наша невысказанная любовь друг к другу превратились во дворец без опор и колонн. Мы плыли, зная, что приближаем ту минуту, когда Джордан исчезнет из нашей жизни так же внезапно, как много лет назад он, с развевающимися на ветру непокорными волосами, вкатился в нее на своем скейтборде. Шайла чувствовала, что молчание болот постепенно излечивает Джордана от нестерпимой боли. В первозданных лесах перекликались друг с другом волки, а однажды мы услышали вой целой стаи, преследовавшей добычу. А еще мы говорили о Боге, так как здесь, плывя по пронизанным солнцем медальонам озер, верить в Него было гораздо легче. Когда мы разбивали лагерь на галечных пляжах, Джордан доставал со дна агаты и опалы и подносил их нам как свадебный дар.
Мы плыли так десять дней, и лишь когда увидели маленький городок на берегу озера и спускающегося к пристани канадского полицейского из частей конной полиции, то поняли, что наше путешествие подошло к концу. Оказалось, что мы, сами того не подозревая, уже три дня находились в канадских водах. В Канаде, где население вполне терпимо относилось к участникам антивоенного движения, Джордан уже мог, ни о чем не беспокоясь, продолжить свой путь.
В наш последний вечер втроем мы с Шайлой за ужином провозгласили тост за Джордана и выпили за его будущее. Мы были абсолютно уверены, что нам не суждено больше увидеть Джордана, так как он сказал, что не сможет с нами связаться, поскольку это будет чревато для нас крупными неприятностями.
— То, что вы сделали для меня, больше, чем дружба, — произнес Джордан. — Я ведь знаю, что вы в ужасе от моего поступка. Я попытаюсь извлечь из этого урок. Обещаю.
— Мы тебя любим, Джордан, — прошептала Шайла. — И это самый главный урок.
Когда на следующий день мы проснулись, Джордан уже затерялся в канадских просторах, начав вести жизнь человека, находящегося в бегах. Мы с Шайлой отправились в обратный путь, и каждое озеро, по которому мы плыли, несло в себе память о Джордане. Именно в Канаде мы впервые занялись любовью, обнаружив, что нам это нравится. Обратная дорога до Гранд-Маре заняла у нас вдвое больше времени. Мы даже не преминули отметить, что подняли искусство медового месяца на новую высоту. Однажды ночью мы занимались любовью под вой стаи волков, и оба согласились, что начали свою женатую жизнь не по правилам. А потому на следующий же день зарегистрировали брак у мирового судьи в Гранд-Маре, штат Миннесота. Мы еще три недели жили в палатке и только потом вернулись в Южную Каролину, чтобы вдвоем встретить то, что уготовано нам судьбой.
Когда я закончил рассказ и вернулся на место, в зале воцарилась напряженная тишина. В Чарлстоне уже был вечер, и всем нам нужно было успокоиться и собраться. Мы были точно фигуры на картине, которые затерялись на фоне темного, чужого ландшафта в стране, где никто не говорил на родном языке. Джордан пробудил в наших душах те чувства, которые в свое время пали жертвой слишком легких ассоциаций и замещенных воспоминаний. Театр будто превратился в подпольную исповедальню. В безвоздушном пространстве, возникшем после моего рассказа, я словно наглотался пыли времен. Я попытался понять, какую же роль играл в душераздирающей драме своих студенческих лет, и вдруг отчетливо осознал, что описал совсем не того мальчика, которым когда-то был. Я обнаружил, что в некоторых местах моего рассказа о собственной жизни меня просто-напросто нет. Я хотел подвести итоги, собрать воедино все противоречивые и несоизмеримые части, с тем чтобы голос из прошлого гарантировал мне благословение на жизнь, которую я, сам того не осознавая, вел. В то отчаянное время я абсолютно ни о чем не думал, позволив инстинкту руководить каждым своим шагом. Молодой человек, подбадривавший Джордана в краю волков, умер, но не был оплакан. Я распрощался с горячим, непримиримым парнем, которым когда-то был, на мосту в Чарлстоне, прекрасно понимая, что все на этой сцене помнят меня именно таким. И я очень боялся, что именно этот парень и послал Шайлу на смерть, подписав приказ идти походным порядком — приказ, приведший бедняжку на перила моста, с которого открывался вид на Чарлстон и на наш общий дом. Бросив взгляд в сторону Ледар, я заметил, что та внимательно меня изучает, и неожиданно понял, что весь этот год она ждала подходящего момента, так как совершила непростительную ошибку, влюбившись в меня. Эта любовь читалась в ее глазах, была написана на ее лице, и Ледар не прилагала ни малейших усилий ее спрятать. Мне хотелось предупредить свою подругу детства, сказать, что моя любовь — это сплошная ярость и у любви моей острые края, о которые можно порезаться. Убивать любимую женщину стало для меня одним из видов спорта. И убивал я вкрадчиво и вероломно, похоже обретя в этом свое истинное призвание. Но сейчас, куда бы я ни бросил взгляд, я видел, как любовь сходит слоями с этой темной эскадрильи, атакующей меня на бреющем полете. Мне не удалось прожить полной жизнью, поскольку я не сумел осознать общность интересов и судьбы этого неустойчивого скопления душ. Боль связала нас всех трагическим любовным узлом. Я хотел выговориться, впрочем, так же как и все остальные.
Мы ждали — словно онемев, — а вокруг работали невидимые камеры.
Что-то мешало нам говорить друг с другом. Над сценой что-то витало, невидимое и непрошеное. И мы не сможем прийти к мирному соглашению, пока не определим природу этого призрачного явления. Я так долго не чувствовал его присутствия, что поначалу даже не обнаружил никакого деморализующего влияния. А потом увидел его и узнал, точно старого друга, нашедшего нас на этой сцене.
«Привет, Вьетнам, — сказал я себе. — Давненько же мы не виделись».
И все же он обозначил свое присутствие в ткани тишины, удерживающей нас. Вьетнам как страна был нам безразличен, но он был нашей гноящейся раной. От него невозможно было далеко убежать: он следовал за нами на культях и костылях, гордясь своей вездесущностью и неумолимостью. Ту войну я ненавидел всеми фибрами души, но здесь, в театре, неожиданно понял, что Вьетнам — все еще моя война. Я обвинял ее в том, что она запутала Америку, заставила забыть о правилах приличия, исковеркала нашу форму, внесла смятение в наши души, привела к попранию прежних истин и разрушила единство законов и институтов. Все было захвачено и расхищено. Ничто не уцелело. В цене было дешевое и поверхностное, и речи полных идиотов вдруг приобрели величественный, хотя и странный характер. Твердость стала понятием только из области физики, безразличие — нормой жизни, и никто ни во что не верил. Бог отошел в сторону. Я жадно пытался найти в мире хоть что-то, во что можно было бы верить, но каждый раз возвращался с пустыми руками.
«Привет, Вьетнам, — снова сказал я себе. — Пора бы нам и подружиться».
И стал ждать, когда хотя бы один из нас обретет способность говорить.
И вот когда это произошло, я, к своему удивлению, услышал голос Кэйперса Миддлтона.
— Так для чего мы сегодня собрались? Я слышал все, но так ничего и не понял. Мне нужна ваша помощь. Действительно нужна.
— Так устроена жизнь, — изрек генерал Эллиот. — Нет никаких гарантий.
— Какое удобное оправдание, — рассердилась Селестина. — Можно избежать ответственности. Переложить вину на других. Как ты обычно и делал.
— И все же мне хотелось бы узнать… — начал Кэйперс.
— Ты слишком строг к себе… — схватила мужа за руку Бетси.
— Нет, позволь мне сказать, — оборвал жену Кэйперс, выглядевший крайне взволнованным. — Я и понятия не имел, как все обернется. Я бы тогда поступил иначе. Мне и в голову не могло прийти, к чему это приведет. Пострадали люди, которые были для меня целым миром. Меня не отпускает чувство вины. Оно всегда со мной.
— А вот я себя ни в чем не виню, — ухмыльнулся Боб Меррилл, на которого, в отличие от нас, рассказ Джордана не произвел особого впечатления. — Я делал то, что считал правильным. Оглядываться назад — обычная, но пустая трата времени.
Майк Хесс, снова взяв на себя роль продюсера, щелкнул пальцами и произнес:
— Пока, Радикальный Боб! Возвращайся в гостиницу. Поужинай на славу и лети себе обратно в свою жизнь. Ты уволен.
Боб Меррилл поднялся и ушел со сцены и из нашей жизни, причем навсегда. Никто не посмотрел ему вслед, никто не сказал ему «до свидания».
— Ну ладно, — сказал Майк, окидывая нас взглядом. — Нам нужен хороший конец всей этой истории. Просто необходим. Давайте поможем друг другу.
— Все как-то прошло мимо меня, папа, — начал Джордан. — Я тогда ничего не понимал.
— Времена были сложены неправильно, как-то странно. Нельзя было просто поднять их, чтобы рассмотреть получше. Все происходило слишком быстро, — отозвалась Ледар.
— Ледар, тебя тогда и на свете-то не было, — заметил Майк. — Тебя не было на борту этого космического корабля.
— Я наблюдала, — ответила Ледар. — В наследство я получила Кэйперса, вытащив его из-под обломков кораблекрушения. Думаю, он тоже страдал из-за всего, о чем мы сейчас говорим. Думаю, Кэйперс никогда не простит мне, что я смогла его полюбить после всего того, что он сделал со своими друзьями.
— А я думаю, что ты просто не знаешь настоящего Кэйперса, — бросилась Бетси на защиту мужа.
— Это я виновата в том, что у нас завелся чужой среди своих, — грустно улыбнулась Ледар. — С твоим мальчиком, Бетси, у нас отнюдь не мимолетное знакомство.
— Это был не настоящий Кэйперс, — упорствовала Бетси. — Не тот, кого знаю я.
— Нет, моя радость, — вмешался Кэйперс. — Именно они знали меня настоящего. И я прошу их принять эту часть меня. Во мне это всегда сидело, и они это прекрасно знали. А вот чего не знал я, так это того, что своими действиями могу навредить друзьям. Я разрушил жизнь Джордана Эллиота. Посмотри, что я сделал с его родителями!
— Ты всегда был слишком самокритичен, — помолчав, сказала Бетси.
— Заткнись, Бетси! — оборвал ее Майк Хесс. — Умоляю, заткнись, ради бога!
— Но могу ли я хотя бы надеяться на прощение? — спросил Кэйперс. — Мне необходимо это знать.
— Ты? Просишь у них прощения?! — воскликнул генерал Эллиот так, словно не верил своим ушам. — Ты единственный здесь, кто с честью вышел из всей этой истории.
— Что ты знаешь о чести? — спросила Селестина у мужа. — Расскажи им все, что знаешь об этом предмете, дорогой. Расскажи жене и сыну, которых ты предал.
— Мама, папа соблюдал свой моральный кодекс, — вступился за генерала Джордан. — Он никого не предавал.
— Уж больно суровый моральный кодекс, — не выдержал я.
— Я тоже его не понимал, — признался Джордан, — пока не встретил в Риме парочку иезуитов.
Отец Джуд и аббат рассмеялись. Шутка была явно только для посвященных.
— Скажи, Джордан, ты стал священником, чтобы спрятаться от прошлого? — поинтересовалась Ледар.
— Нет, — покачал он головой. — Чтобы спрятаться от настоящего. И от самого себя. Но служение Богу — мое призвание, Ледар. Я был рожден, чтобы стать священником, но узнать об этом мне было суждено только после того, как я убил двух невинных людей.
— Сынок, надо было тебе всего-навсего прочесть еще одну молитву, — саркастически хмыкнул генерал. — Молитва помогла бы спасти две жизни и сохранить самолет Корпусу морской пехоты.
— Папа, как бы мне хотелось, чтобы все было именно так, — вздохнул Джордан.
— Какой позор, что у тебя совсем не было характера! — воскликнул генерал Эллиот.
— Нет, папа. Характер-то у меня был. Чего у меня не было, так это выдержки, — отозвался Джордан.
— Оставь моего сына в покое! — прикрикнула на мужа Селестина.
— Он и мой сын тоже, — напомнил ей генерал.
— Ну так ведите себя соответствующе, генерал, — не выдержал я. — Хотя бы смотрите на него, когда он говорит!
— Я такой, какой есть, — огрызнулся генерал.
— И я тоже, папа, — спокойно произнес Джордан.
Селестина вскочила с места и в ярости обрушилась на мужа:
— Ну как ты не понимаешь, Ремберт? Все ведь ясно как день. Никто из них и не мог тогда вести себя по-другому. Характер человека — его судьба. И тут уж ничего не попишешь. С тех пор как мы с тобой встретились, ты ни капли не изменился. Посмотри на себя. Торжество духа. Святее Папы Римского. Ты ведь такой упертый. Я знаю, что у тебя на уме. Мне и спрашивать не нужно. У тебя ведь в голове нет никаких мыслей. Одни шаблоны. Ты не раздумывая бросился бы в атаку на вражеский окоп, чтобы спасти жизни всех здесь присутствующих. Но ты атаковал бы с удвоенной силой, если бы знал, что там прячется твой сын. Ты хочешь посадить нашего мальчика. Хочешь, чтобы он сгнил в тюрьме!
— Я монах, мама, — вмешался Джордан. — И камера меня не пугает. Это всего-навсего еще одно место, где можно молиться.
— Джордан, он просто взял и украл тебя у меня, — с горечью произнесла Селестина. — Никогда ему этого не прощу. И себя не прощу за то, что позволила ему это сделать. Я развожусь с твоим отцом. Я устала терпеть этот позор.
— Ну и зря, Селестина, — прервал жену генерал. — Дело не в том, что ты любила Джордана больше, чем я. Ты просто делала вид. Вот и все. Ты всегда судила о вещах поверхностно. Я признаю, что…
— Продолжайте, генерал, — сказал Майк, причем это прозвучало не как просьба, а как приказ.
Генерал слегка оторопел, но, взяв себя в руки, продолжил:
— Да, я признаю, что любил Джордана не меньше жены. Но не переходя определенных границ и с учетом всех обязательств, которые накладывало на человека мое время. Я умел повести за собой своих людей. Мало у кого есть такой талант. Среди военных я всегда чувствовал себя человеком на своем месте. Но хороший солдат — это не всегда хороший отец.
Тут я услышал стук молотка, а потом голос отца:
— Ремберт, ты уже больше не морской пехотинец. Все в прошлом. Как ты сейчас собираешься поступить с Джорданом?
— Я хочу, чтобы он ответил за свое преступление, — отозвался генерал.
— Сегодня я заметил то, что немало меня удивило, — сказал отец, посмотрев на меня. — Джордан относится к тебе с большим уважением, чем Джек ко мне. Это видно невооруженным глазом. Но похоже, тебя это не трогает.
— Я учил Джордана уметь отличать хорошее от плохого, — начал генерал, — но когда он стал нужен стране, он сбежал.
— Вы имеете в виду Вьетнам? — уточнил Кэйперс.
— Да, Вьетнам, — ответил генерал. — Человек не выбирает, в какое время ему родиться. И я счастлив, что принадлежу другому поколению.
— Да, вы родились среди великих людей, — едва не взорвался я. — Спасибо, что подарили моему поколению эту потрясающую маленькую войну. Мы перегрызем друг другу глотки и, умирая, будем благодарить вас, парни, за вашу непроходимую тупость.
— Война оказалась слишком большой для тебя, Джек, — произнес генерал.
— Она оказалась для меня слишком маленькой, генерал. И этого вам не понять.
— Ремберт, я ожидал от тебя большего, — заметил мой отец.
— Ты ожидал от меня большего? — переспросил генерал с металлом в голосе.
— Джордан пришел сюда, потому что хотел рассказать тебе свою историю, — кивнул судья. — Все остальные здесь на самом деле лишние.
— Судья, ты воевал в Европе с немцами. Был пехотинцем, получал награды. Так что ты думаешь о Джеке и остальных и о том, чем они ответили стране, когда та в них нуждалась?
— Да, я поступил бы по-другому, — признался мой отец.
— Вот именно, — подвел итог генерал.
— Но давай посмотрим правде в глаза. Мы пытаемся подогнать их под стандарты, которых больше не существует, — заявил судья. — Мой сын Джек отстаивал свои убеждения. Он так воспитан.
Я кивнул отцу, и тот ответил мне тем же. Наш обмен благодарностями не ускользнул от внимания генерала.
— Тогда давай говорить жесткую правду, — сказал он. — Так вот, судья, Джека воспитывал известный всему городу пьяница. Стандарты, говоришь? Сомневаюсь, что ты мог оставаться трезвым достаточно долго, чтобы знать, дома ли Джек.
— Стоять по стойке «смирно», когда говорите с моим стариком! — рявкнул я. — Если еще хоть раз позволите себе так с ним разговаривать, я вытру этот гребаный пол вашей физиономией!
Молоток в очередной раз опустился, и мой отец произнес:
— Джек, ты нарушаешь порядок. Генерал попал в самую точку.
— Я прошу прощения, Джонсон Хэгуд, — сказал генерал Эллиот.
— Это произошло в пылу сражения, — благодушно ответил отец. — Ничего страшного. Джек, извинись перед генералом.
— Ремберт, извините меня, пожалуйста, — произнес я, впервые в жизни назвав его по имени. — Меня занесло.
— А мне вот понравилась идея вытереть пол Рембертом, — улыбнулась Селестина, а Майк громко рассмеялся, сняв тем самым возникшее напряжение.
— Я скучал по тебе, Джордан! — воскликнул Кэйперс и, встав с места, осторожно пошел через всю сцену к священнику. — Я не могу пережить того, что, по вашему мнению, я предал своих лучших друзей. Я не хочу считать себя предателем. Это мне не по нутру. Шайла умерла, так и не помирившись со мной. Я как-то написал ей письмо. Написал, что любил ее, как и всех своих друзей. Никто из нас не был виноват в том, что случилось в Каролине. Шайла отослала назад мое письмо, даже не распечатав его. Джек по-прежнему ненавидит меня до дрожи, — продолжил Кэйперс и, посмотрев на меня, добавил: — И не говори, что это не так, Джек.
— А разве здесь кто-то говорил, что это не так? — пожал я плечами.
— Кэйперс, Шайла верила, что ты любил ее, — вздохнула Ледар. — Мы с ней обе ошиблись.
— Я был для тебя плохим мужем, Ледар, — согласился Кэйперс. — Когда я смотрел на тебя, то всякий раз вспоминал, как много я потерял.
— Пустяки, дорогой. Что до меня, то я потеряла гораздо меньше. Всего лишь молодость и веру в брак, — усмехнулась Ледар. — А в общем осталась целой и невредимой.
— Мне так жаль. Пожалуйста, прости меня, если можешь, — сказал Кэйперс.
— Довольно, Кэйперс, — не выдержала Бетси. — Не унижайся. Тебе это не идет, любимый.
— Bay! — воскликнул Майк. — Наша ледышка Бетси. Даже эскимосская девушка вряд ли сказала бы так хорошо. И так холодно.
— Прости меня, Ледар, — вздохнул Кэйперс. — Я оставил тебя, так как начал понимать, что жизнь моя идет куда-то не туда.
— Я тебя умоляю, Кэйперс, — вмешался я. — Надо же, какое лицемерие! Еще немного — и я заплачу.
И тут меня прервал стук молотка.
— Джек, если ты не можешь заставить себя помириться с одним из своих лучших друзей, то в таком случае как мы можем надеяться на то, что Джордан помирится с отцом? Как мы разрешим проблему? — поинтересовался судья.
— Пленка заканчивается. Нам нужен эффектный конец, ребята, — вмешался Майк.
Я взглянул на отца и сразу понял, что от меня требуется, а потому встал и посмотрел на Кэйперса, который так и не садился.
— Прости меня, Джек. Прости меня, пожалуйста, — произнес он. — Как бы я хотел начать все сначала. Тогда бы я все сделал правильно.
— Когда станешь губернатором, буду посылать тебе квитанции со штрафом за неправильную парковку, — улыбнулся я.
Мы пожали друг другу руки, а потом, почувствовав, что нам этого действительно хочется, крепко обнялись.
Но тут неожиданно поднялся генерал, и мы с Кэйперсом поспешили занять свои места. Генерал встал и подошел к Джордану, который смотрел на отца внимательно, но абсолютно спокойно.
— Ты говорил, что суд этот ненастоящий, — обратился генерал к Майку. — Я хочу проголосовать, виновен мой сын или нет.
— Хорошо, — согласился Майк. — Но я здесь продюсер и директор. А потому, генерал, первым буду голосовать я. Хотя, черт возьми, вы лучше меня разбираетесь в субординации. Мое решение — невиновен.
— Невиновен, — сказала Ледар, а Селестина повторила за ней то же самое.
— Невиновен, — сказали аббат и отец Джуд.
— Невиновен, — сказали Бетси и Кэйперс.
— Теперь моя очередь, — произнес генерал, и мне показалось, что голос его дрогнул.
Селестина повернулась к сыну, в упор смотревшему на отца.
— В нем ее нет, Джордан. Любовь для него слишком глубокое чувство. Тебе до нее не достучаться.
— Мама, я смогу до нее достучаться, — ласково улыбнулся Джордан. — Мне это несложно.
— Прости, сын, — сказал генерал, и это был голос отца, а не военного.
Джордан не дал отцу договорить, нежно закрыв ему рот ладонью.
— Можешь не голосовать, папа. Я знаю, каким будет твое решение. Каким оно должно быть. Я пришел сюда, чтобы помириться с тобой. Я должен спуститься с этой сцены, зная, что у меня есть отец. Жизнь показала мне, что я без него не могу.
— Я уж такой, какой есть, сынок, — произнес генерал, когда Джордан опустил руку.
— И я тоже, — ответил Джордан.
— Скажи мне, что ты был не прав.
— Я был ужасно не прав, папа, — отозвался священник. — Мне застилала глаза ненависть к тебе. Я должен был пойти той дорогой, которую ты для меня определил. Америка — достаточно хорошая страна, чтобы за нее можно было умереть, даже если она не права. По крайней мере, такому мальчику, как я. Воспитанному так, как ты и мама меня воспитали.
— Это уж перебор, Джордан, — не выдержал я. — То была грязная война. И не позволяй ему постоянно тыкать ею тебе в нос.
— Что мне делать, папа? — спросил Джордан.
— Сдайся властям, — ответил генерал. — Если ты это сделаешь, я буду тебя защищать. Буду за тебя бороться.
Джордан поклонился отцу, покоряясь его воле. Оба трапписта, худые, иссушенные молитвой, встали и подошли к Джордану, а тот опустился перед ними на колени и принял их благословение. Потом аббат сказал:
— Сегодня рано утром Джордан заставил меня позвонить генералу Питроссу на остров Поллок. Я сообщил ему, генерал Эллиот, что завтра в полдень вы доставите вашего сына к начальнику военной полиции. Генерал Питросс попросил, чтобы вы сначала зашли к нему в кабинет. Он говорит, что знал Джордана еще ребенком.
Селестина всхлипнула, вскочила со стула и кинулась в темноту в глубине сцены. Джордан последовал за ней, и мы слышали, как он утешает мать. Операторы тем временем уже начали разбирать аппаратуру, а мы снова окунулись в нашу обычную жизнь. Я видел, как отец прямо в судейской мантии пошел утешать генерала, который, сделав единственную возможную для себя вещь, выглядел разбитым и подавленным.
В тот вечер мы ужинали в доме Бетси и Кэйперса Миддлтон на острове Салливан. Я занимался стряпней на веранде: смотрел на океан и жарил лук и баклажаны, гамбургеры, креветки и стейки до тех пор, пока все не почувствовали себя наевшимися и счастливыми, а Майку с Джорданом не пришлось бежать за пивом. Трапписты вернулись в аббатство Мепкин. Мой отец отвез генерала в Уотерфорд. Селестина от вечеринки отказалась. Но мы все почувствовали огромное облегчение, собравшись в доме Миддлтона. Дети Ледар, Сара и маленький Кэйперс, были счастливы видеть мирно беседующих родителей под одной крышей, а Бетси проявила себя как хорошая хозяйка, когда мы сидели за обеденным столом, потчуя друг друга историями из нашего общего прошлого. Мне все еще странно было видеть, что Джордан на людях не оглядывается через плечо и не пытается проверить, нет ли за ним хвоста, что он обычно делал во время наших тайных свиданий. На него словно снизошло это странное чувство свободы. И он наслаждался нашим обществом и все не мог насладиться. Он будто упивался общением с нами, пытался вобрать в себя наше настроение, и ему все было мало. Мы же отдавали ему себя целиком, так как это был его вечер.
После полуночи все пошли спать и разбрелись по огромному дому, за исключением нашей четверки. Мы решили прошвырнуться по берегу острова Салливан. Мимо нас прошло судно, направлявшееся в сторону Азии. Лоцманский катер проводил судно в открытое море и, пока мы молча брели по берегу, даже успел вернуться назад.
— Что теперь? поинтересовался Майк. — Я давно не чувствовал себя таким счастливым.
— А как же Голливуд? — спросил Кэйперс. — У тебя полный набор старлеток. Живешь как король. Наверное, все же лучше, чем есть бургеры на побережье Южной Каролины в компании засранцев одноклассников.
— Только не для меня, — ответил Майк.
— И не для меня, — согласился Джордан.
— А как насчет тебя? — обратился ко мне Майк.
— Не хочется портить вам вечер, — ухмыльнулся я, — но я по-прежнему считаю, что Кэйперс — настоящий гондон штопаный.
— А-а, это… — протянул Майк. — Ничего, переживешь.
— Время идет, — сказал Джордан, посмотрев на звезды. — Это самая удивительная вещь на свете, может быть, единственная. Мне кажется, что мы всю жизнь провели на этом берегу. Как будто никогда и не расставались.
— Чуть не забыл! — щелкнул пальцами Кэйперс и помчался к дому.
Он вернулся, неся доску для серфинга над головой, и мы радостно загудели. Разделись до трусов и погрузились в теплокровную, прохладную от ночного воздуха Атлантику. Волна была не слишком сильной, и мы заплыли на глубину.
— И вы называете это волнами?! — воскликнул Джордан. — И вы называете это океаном?
— Лето Джордана, — вспомнил Майк.
— Никогда его не забуду, — отозвался я.
— А помните мои длинные волосы? — засмеялся Джордан.
— Первый хиппи в Уотерфорде, — ухмыльнулся Кэйперс. — Господи! Ты был предвестником шестидесятых. Надо было обмазать тебя смолой, обвалять в перьях и отправить туда, откуда пришел.
— Роди сыновей! Роди сыновей! — радостно заорал Майк.
— Где дельфины? — спросил я. — Майк, нам нужны дельфины.
— Достаньте мне спецэффекты, — крикнул Майк. — Вызовите братьев Уорнер.
— Похоже, все возвращается, — заметил Кэйперс.
— Жизнь идет по кругу. И всегда застает тебя врасплох, — произнес Джордан.
— Как в хорошем кино, — поддакнул Майк.
— Так куда это ты хотел меня отправить, Кэйперс? — поинтересовался Джордан. — И откуда я пришел?
Мы плыли, держась за доску, и еще одно лето подходило к концу, и теплый ветер развевал наши волосы, и морская соль приятно пощипывала язык. Течение уносило нас в безлунную ночь, а так как мы были родом из детства, то нам было совсем не страшно. А потом Кэйперс подвел итог, взъерошив короткие волосы Джордана и сказав:
— Я послал бы тебя сюда. Здесь твое место. Рядом с нами. Навсегда.
Назад: Глава тридцать седьмая
Дальше: Глава тридцать девятая

