Глава тридцать седьмая
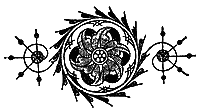
На следующее утро мы вышли из тюрьмы, став за одну ночь символами своего времени, частью той тревожной эпохи, когда американцы неожиданно перестали слышать друг друга. Когда мы оказались под яркими лучами солнца, подаренными нам слишком рано пришедшим в Южную Каролину летом, нас встречали около двухсот студентов и пять телевизионных камер. На радость телеоператорам, Шайла и Кэйперс стиснули нас в объятиях, а потом потащили в тихий анклав на Блоссом-стрит, где СДО обдумывало следующий шаг. Радикалы, которые до сих пор только терпели нас с Джорданом, теперь обращались с нами так, словно мы доказали, на что способны, пройдя испытание на прочность. В этом узком кругу, который на самом деле нам вовсе не нравился, нас встретили как братьев. Мы с Джорданом были страшно напуганы ночью в тюрьме, и то, что нас облизали с головы до ног, стало бальзамом на наши раны. Марихуана была бесплатной, так же как и виски «Джек Дэниелс».
Я был на седьмом небе от счастья, когда Шайла велела нам следовать за ней. Она привела нас к складному столу на заднем дворе, где Радикальный Боб решил собрать военный совет подальше от чужих ушей. Он был против нашего с Джорданом участия в совещании, считая, что один-единственный арест и наша звездная роль в вышедшей из-под контроля манифестации еще ничего не значат. Радикальный Боб опасался, что движение стало местом сбора и тренировочной площадкой для любителей, действующих на свой страх и риск и не опирающихся на философию революции. И вот вам результат: сотня исключенных студентов атаковала административное здание, причем этот стихийный бунт не имел ни цели, ни лидера.
— Действия, не основанные на философии, — анархия, — заявил Радикальный Боб.
— Что? — переспросил я. — Боб, каждый раз, когда ты открываешь рот, создается такое впечатление, что английский ты учил в школе Берлица.
— А тебя кто спрашивает? — не остался в долгу Радикальный Боб. — Оттого что вы с Джорданом строили вчера из себя героев, война раньше не закончится.
— Что-то я не заметил, чтобы хоть кого-то из вас арестовали вчера вместе с нами, — бросил Джордан, взглянув на ветеранов СДО, сидевших за столом.
Многие передавали друг другу косячки, тоненькие, словно волосы с лобка, пропущенные между большим и указательным пальцами. В тот день, за исключением Боба, все члены группы вели себя уважительно по отношению к нам с Джорданом. Попав на первые полосы газет, мы неожиданно стали ценными членами этого закрытого клуба Южной Каролины.
— Боб, они ведь всем рисковали, — вступилась за нас Шайла. — И все потеряли. Их арестовали вместе с другими студентами. Ничего удивительного, когда арестовывают таких людей, как ты или я. Это происходит каждый день. Но вчера имел место бунт неизвестных студентов, не состоящих ни в какой организации. Подлинный героизм, боевой клич самого обычного человека. Одной незапланированной акцией эти студенты сделали больше, чем вся наша организация за целый год. Допускаю, они не ведали, что творят. Но это было блестяще.
— Они не должны принимать участие в сегодняшней акции, — заявил Боб.
— Я не согласна, — возразила Шайла.
— Хочешь пойти с нами? — сердито взглянул на меня Боб. — Тогда давай, твою мать.
— А акция эта, случайно, не связана с насилием? — поинтересовался Джордан.
— Конечно. Мы пытаемся покончить с войной, а не начать новую.
— Я слишком пьян, чтобы сказать «нет», — посмотрев на меня, заявил Джордан. — К тому же завтра мне уже не надо ничего сдавать.
— Да и идти нам некуда, — отозвался я. — Нашу комнату в общежитии освободили и закрыли на замок. Теперь до конца жизни мы свободны как птицы.
— Можете на нас рассчитывать, — твердо произнес Джордан.
В два часа ночи Кэйперс Миддлтон, одетый в полувоенную форму, взломал маленькое окошко туалета на первом этаже дома на Мейн-стрит, в котором располагался призывной пункт Южной Каролины. Нырнув в темноту, Кэйперс проскользнул к боковой двери со стороны переулка, где уже собралась группа студентов, которая вскоре станет известна как «Колумбийская дюжина».
Взломав дверь, Кэйперс приложил палец к губам и провел нас по черной лестнице внутрь здания. Акция планировалась несколько недель, и в первые минуты после вторжения каждый четко выполнял свою задачу. Ключи, украденные у уборщиков, открывали правильные замки. Парни несли тяжелые ведра с бычьей кровью, а девушки — средства для поджога, необходимые для уничтожения личных дел всех призывников Южной Каролины.
Шайла подошла к первому шкафу с досье и решительно вывалила из него все папки, ровным слоем разложив их на полу. Мы с Джорданом шли следом за ней, поливая каждую папку бычьей кровью, Кэйперс руководил группой, складывающей папки в кучу в центре большой унылой комнаты. Кэйперс усиленно подгонял своих помощников, и гора личных дел становилась все выше. Потом, посмотрев на часы, он кивнул, и Радикальный Боб облил досье бензином. Кэйперс непрерывно подгонял своих помощников, и в какой-то момент, поняв по его голосу, что он явно нервничает, я прекратил работу. Я надышался парами бензина и еле стоял на ногах от недосыпа. Бросив взгляд в сторону Шайлы, я увидел, что она похожа на монахиню в молитвенном экстазе. Вообще-то все мы сейчас смахивали на религиозных фанатиков, собирающихся сжечь еретика во время какого-то дикого сюрреалистического аутодафе. Неизвестно почему, у меня в голове вдруг зазвучал сигнал тревоги, и я всмотрелся в лица друзей, неожиданно ставших совсем незнакомыми, и попытался подавить в себе приступ паники. Попятившись от длинного ряда папок, я схватил Джордана за плечо, и в этот момент Радикальный Боб зажег спичку, а остальные щелкнули зажигалками и двинулись к горе личных дел.
— Давайте полностью сожжем это чертово здание, — предложил Радикальный Боб.
— Нет, — отрезала Шайла. — Только досье.
— Боб прав, — возразил Кэйперс. — Если мы серьезно относимся к революции, давайте сделаем этот дом. Давайте сделаем весь город. Давайте принесем войну домой. Покажем им, через что проходит вьетнамский народ.
— Заткнись! — воскликнула Шайла. — Мы против проявления силы. Мы против.
— Говори за себя! — оборвал ее Радикальный Боб.
И тут комната взорвалась огненным фейерверком, на улице взревели сотни сирен, и в дом ворвались пожарные и копы.
На нас обрушилась целая армия копов и с помощью дубинок и кулаков уложила на пол. Сверху меня придавили двое здоровенных парней; они надели на меня наручники и лишь засмеялись, когда я взвыл от боли, так как туго застегнутые браслеты нарушили нормальное кровообращение в запястьях.
— Гребаные свиньи! — орал Кэйперс. — Гребаные свиньи! Кто донес?
— Я говорил тебе, чтобы ты держал подальше своих чертовых друзей, — сказал Радикальный Боб. — Вот и получилось все по-любительски.
— Мы не сделали ничего плохого, — заявила Шайла. — Мы просто хотели нанести удар ради мира. У нас не все получилось, но пусть они знают, что мы здесь были.
— Вот дерьмо! — простонал Джордан.
— Что такое? — спросил я.
— Мы не продумали все до конца, — ответил Джордан. — Это государственное преступление. Мы по уши в дерьме.
В день, когда нам должны были предъявить обвинение, нас в полицейских автобусах привезли к зданию суда, где нам пришлось пройти сквозь строй журналистов и фотографов, поджидавших нас у входа. Среди них был и Майк, который прекрасно знал, что снимать. Его «Никон» был нацелен на генерала Эллиота, ослепительного в отутюженной, отлично сидящей на нем форме морского пехотинца. Генерал раздвинул толпу и начал быстро спускаться по ступенькам навстречу сыну. Полицейский вел Джордана по лестнице, дергая за наручники. Когда генерал ударил Джордана тыльной стороной ладони, так что тот упал на колени, Майк щелкнул фотоаппаратом. Генерал, в своей канонической ярости, казался олицетворением многострадальной власти, поражающей в порыве праведного гнева длинноволосого нарушителя закона на ступенях дворца правосудия. На фотографии можно было увидеть прямо-таки библейский сюжет: отец, собственноручно восстанавливающий свой авторитет в доме. Мука, написанная на лице Джордана, свидетельствовала о стыде и унижении его детских лет. В глазах взрослой части нации генерал Эллиот олицетворял собой Америку, но для нас он стал воплощением деспотичного, непреклонного и лицемерного американского духа, который Вьетнам заразил проказой. Образ Джордана, поставленного на колени, был глубоко символичен: его лицо отражало всю горечь предательства, которое так искренне переживало наше поколение. Снимок Майка стал последним билетом в точку невозврата. Словно Христос, подвергнувшийся истязаниям, Джордан поднялся и пошел, чтобы встретиться лицом к лицу с отцом и посмотреть ему в глаза.
И тогда генерал Эллиот плюнул в лицо сыну, и их когда-то общий мир раскололся на части. В противостоянии отца и сына отразилось все: и война, и то, что она сделала с душой Америки. Это было уничтожением прежнего Джордана Эллиота. Джордан попал в пограничную полосу боли, и никто не мог последовать туда за ним. В тюрьме он забыл о Вьетнаме и стал обдумывать то, что могло бы сильнее всего ударить по его отцу. Я еще в жизни не слышал, чтобы человек так истово молился, и молился Джордан о ниспослании смерти собственному отцу.
Когда меня выпустили под поручительство родителей, судья Макколл оказался на высоте. То, что его сыну грозило получить серьезный срок, заставило его протрезветь, и для моей защиты он привлек лучших адвокатов по уголовному праву. Дома они с матерью яростно сражались по поводу моих методов осуждения участия Америки во вьетнамской войне, но на людях они страстно отстаивали мою позицию. Чем больше они изучали материалы, связанные с войной, тем меньше доводов в ее пользу у них оставалось. К началу процесса Люси и судья уже защищали меня с пеной у рта. Родители Шайлы поддерживали ее со свойственным им сдержанным энтузиазмом. Хотя родители Кэйперса решительно не одобряли поведения сына, но и они встали горой за своего радикального длинноволосого мальчика.
Родители студентов, арестованных в Рассел-Хаусе, также всячески защищали своих детей во время продолжительных совещаний адвокатов, государственных обвинителей и судей в просторных помещениях суда. Да, буквально все родители, за исключением генерала Эллиота.
Что до него, то ему это дело казалось очень простым. Все мы были виновны в том, что симпатизировали врагу, стало быть, были виновны в государственной измене.
Когда Джордан вышел из тюрьмы, генерал его уже ждал. На сей раз он не стал бить Джордана перед объективами камер. Вместо того чтобы ехать домой на остров Поллок, генерал отвез Джордана прямиком в психиатрическую больницу штата Южная Каролина на Булл-стрит. Военный врач, помощник судьи Верховного суда штата и генерал подписали документ, из которого следовало, что Джордан Эллиот является недееспособным и не может принимать участие в процессе, а потому подлежит госпитализации для обследования психического состояния прямо с сегодняшнего дня. По сравнению с остальными американскими штатами в Южной Каролине самые простые правила изоляции сумасшедших и недееспособных.
Слушание дела состоялось в начале декабря в Колумбии. Страсти по поводу убийства студентов в Кенте улеглись, сменившись усталостью, потихоньку охватившей государство. Вся страна чувствовала себя измотанной и загнанной после долгих лет этой трагической демонстрации силы.
И все же когда я в сопровождении родителей и братьев подъехал к зданию суда, где мне предстояло воочию убедиться в последствиях своего поведения в прошлом мае, на улице в полном разгаре была последняя масштабная антивоенная акция в Южной Каролине. Как ни старался я мысленно восстановить те события, для меня оставалось непостижимым, что подвигло такого покладистого парня, как я, на столь вопиющее неповиновение властям. До сих пор меня так долго называли настоящим американским мальчиком, что это уже стало частью моего представления о самом себе. Я ни разу не получал штраф за превышение скорости, никогда не заваливал устных или письменных тестов, родители никогда не переживали из-за моих оценок. Я был примерным студентом, а теперь мне светило тридцать лет тюрьмы. Свой диплом я спустил в унитаз, а все потому, что разозлился из-за гибели четырех студентов, которых никогда не видел, которые ходили в колледж, о котором я никогда не слышал, в штате, через который я никогда не проезжал. Я страшно боялся суда, и даже бравада Шайлы не могла снять чувство пустоты и неопределенности при мыслях о будущем.
Но, идя под прицелом направленных на нас камер возле здания суда, я шепотом благодарил за все свою семью: мне было приятно, что отец был таким солидным, мама — такой красивой, а братья — такими преданными.
Судебный пристав выкрикнул: «Прошу всех встать! Суд идет!» — и в зал решительной походкой вошел судья Стэнли Карсвелл. Вид у него был грозный, пока он не сел за стол и не улыбнулся. Он внимательно нас оглядел, печально покачал головой и приступил к рассмотрению дела. После нескольких вступительных слов судья сказал:
— Попрошу обвинение вызвать первого свидетеля.
Прокурор был опытным юристом, причем его южной разновидности. Он был тучным, говорливым, с акцентом, характерным для американской глубинки, что вызывало у меня ассоциации с солеными окороками, свешивающимися с почерневших балок коптильни. И когда по залу разнесся звенящий голос прокурора, Шайла, сидевшая между мной и Кэйперсом, взяла нас обоих под руки. Прокурор начал так:
— Ваша честь, в качестве первого свидетеля от штата Южная Каролина я хотел бы вызвать мистера Кэйперса Миддлтона.
Если в Южной Каролине до сих пор и витал бесконечно малый, еле уловимый дух шестидесятых, то в этот момент он выветрился окончательно. Кэйперс стал свидетельствовать против нас от имени штата. Он назвал каждое имя, открыл каждый секрет, перелистал каждое личное дело, пересказал все разговоры, упомянул каждую дату, перечислил все расходы и номера телефонов, которые тщательно записывал в дневнике, — и своими показаниями отправил в тюрьму десятки людей со всего Восточного побережья. Местная глава организации «Студенты за демократическое общество» была закрыта уже в первый час его нахождения в кресле свидетеля. Аккуратно направляемый прокурором, Кэйперс рассказал, как Дж. Д. Стром, ведущий агент ПСЮК, еще в конце первого курса завербовал его, с тем чтобы он проник в антивоенное движение. Кэйперс признался, что использовал дружбу со своей подругой детства Шайлой Фокс для получения доступа в узкий круг радикальных активистов. Если бы не Шайла, то, по мнению Кэйперса, он вряд ли смог бы завоевать доверие такого убежденного человека, как Радикальный Боб Меррилл. Стать агентом под прикрытием его побудил патриотизм высшей пробы и ярый антикоммунизм. Миддлтоны входят в число старейших и выдающихся семейств Юга, так что любовь Кэйперса к стране не подлежит сомнению. Он также заявил, что радикалы, которых он встречал, в основном не представляют опасности для штата. На самом деле он по-прежнему всем сердцем любит своих друзей — Шайлу, Джордана и меня, — но считает, что все мы — незрелые простофили, падкие на зажигательную риторику, которую на самом деле не способны понять. На протяжении пяти дней дачи свидетельских показаний Кэйперс столько раз употребил слово «овцы», что Шайла написала мне записку, в которой призналась, что благодаря Кэйперсу чувствует себя кормушкой для ягненка. Это было единственной смешной запиской во время суда. Именно этот процесс изменил все наши представления о дружбе, о политике и даже о любви.
Защита яростно вгрызлась в Кэйперса Миддлтона, выразив все отвращение и презрение, какое только мог позволить ей судья. Адвокаты насмехались над искренними заверениями Кэйперса в том, что он действовал из лучших побуждений, считая, что страна в большой опасности. Они зачитывали Кэйперсу слова его же речей, демонстрировали снятые на пленку кадры, где Кэйперс проклинал войну, не выбирая выражений. Но их попытки высмеять его маскарад возымели прямо противоположное действие, так как Кэйперс стал выглядеть несгибаемым патриотом. Во время изматывающих перекрестных допросов Кэйперс ни в чем не уступал адвокатам защиты. Кэйперс отказался допустить, что так или иначе нас всех предал, и лишь с грустью признал, что мы, возможно, нарушили клятву, данную Америке.
Затем Кэйперс заговорил о Шайле, хотя так и не осмелился посмотреть ей в глаза. По сравнению с остальными участниками антивоенного движения Шайла была самой страстной, красноречивой и последовательной противницей войны. Ее идеализм не подлежал обсуждению: она была правой рукой Кэйперса, и он всецело полагался на нее, восхищаясь ее талантом стратега и ее бесстрашием. Он снова и снова повторял суду, что Шайла была единственным человеком, который действовал, руководствуясь моральными принципами неприятия войны во Вьетнаме. Он объяснял это ее желанием создать рай на земле, поскольку она выросла в семье, где отец пережил Освенцим, а мать потеряла всю семью во время гестаповской облавы.
Самые гневные обвинения Кэйперс припас в адрес Радикального Боба Меррилла — чужака из огромного Нью-Йорка, похожего на сонного зверя. Используя древний страх южан перед «саквояжниками» и «предателями», Кэйперс рассказал о подрывной деятельности Меррилла, о его неуклюжих попытках подтолкнуть их к свершению все более радикальных актов. Тайный план Боба всегда подразумевал насилие. Голос у Боба был вкрадчивый, однако воплощение в жизнь его замыслов всегда кончалось убитыми копами и сгоревшими патрульными машинами. От самых навязчивых идей Радикального Боба бросало в дрожь, так как они попахивали мятежом. Он твердо проводил линию на то, что если участники антивоенного движения настроены серьезно, то должны планировать ни больше ни меньше как захват базы в Форт-Джексоне.
— Все эти пацифисты — обманщики, — заявил Кэйперс. — Хотя лично я считал, что Радикальный Боб сумасшедший и не дружит с головой, его позиция не была лишена основательности. Если люди действительно выступают против войны, они должны быть готовы отдать жизнь за свои убеждения. На самом деле они просто хотели выходить с плакатами на демонстрацию, курить травку и трахаться. Мои предки воевали против Корнуоллиса и Гранта. Воевали против кайзера и Гитлера. Воевали, а не языком болтали. Они брали в руки оружие, а не писали речи и не сочиняли лозунги. Хотя Радикальный Боб представляет определенную опасность, он показал мне, чтó не так со всем этим антивоенным движением. У всех у них кишка тонка. У них не хватает смелости отстаивать свои убеждения, и я счастлив оттого, что выявил их подлинную сущность, показал, что на самом деле все они трусы.
Второй свидетель со стороны обвинения сделал все, чтобы изменить взгляд Кэйперса Миддлтона на мир. Если Колумбийская дюжина только удивленно ахнула, когда Кэйперс признался, что работал агентом под прикрытием на ПСЮК, то, казалось, земля разверзлась у них под ногами, когда Радикальный Боб Меррилл встал со скамьи подсудимых и занял место возле судьи в качестве свидетеля со стороны обвинения. Боб был завербован Федеральным бюро расследования в качестве информатора во время волнений в Колумбийском университете, и он так хорошо справился с задачей внедрения в ряды участников беспорядков, что местное отделение ФБР, естественно, остановило на нем свой выбор, когда немало обеспокоилось подрывной деятельностью, ведущейся в кофейне, где занимались вербовкой новых, недовольных правительством бойцов антивоенного движения. И так получилось, что ни ФБР, ни штат Южная Каролина понятия не имели, что одновременно внедрили своих людей в одно и то же не самое многочисленное отделение организации СДО.
И хотя защита доказала, что все наши противоправные действия, предпринятые в ту приснопамятную ночь незаконного проникновения, были спланированы либо Кэйперсом, либо Радикальным Бобом, нас все же обвинили в том самом незаконном проникновении, а также в преднамеренном уничтожении федеральной собственности. Судья приговорил нас к году тюремного заключения, но с отсрочкой наказания, приняв в качестве смягчающего обстоятельства нашу молодость и идеализм. Судья проявил невероятную щедрость, дав нам реальный шанс.
Когда Кэйперс сел в кресло свидетеля в театре на Док-стрит, все мы молча слушали исповедь о его роли в том судебном процессе. И хотя Кэйперс пытался подать себя с самой выгодной стороны, я понимал, что он до сих пор чувствует неловкость из-за того, что подставил друзей. Кэйперс то занимал оборонительную позицию, то впадал в задумчивость, пытаясь воспроизвести в памяти страхи и страсти, выпущенные наружу в те ужасные дни. Заняв оборонительную линию, Кэйперс с пеной у рта пытался доказать, что его поступок был свидетельством патриотизма и верности родине. Когда Кэйперс согласился на сотрудничество в качестве правительственного агента, то ему даже в голову не могло прийти, что события в Кенте заманят его ближайших друзей в ловушку, приготовленную для врагов Америки.
— Шайла любила тебя, Кэйперс, — услышал я голос Ледар. — К чему было притворяться, что тоже ее любишь?
— Я не притворялся, — ответил Кэйперс, бросив взгляд на бывшую жену. — То, что я чувствовал по отношению к Шайле, было настоящим. Она многому меня научила, и я никогда не встречал человека со столь тонким инстинктом политика. Она понимала значение средств массовой информации и заставляла их работать на нас. Я думал, что позже сумею объяснить ей все произошедшее. Моя любовь к ней была настоящей. Черт, мы все любили Шайлу! Мы же вместе росли. Но я смотрел на вещи гораздо шире. Я считал, что наша страна в опасности. Я знал, что в антивоенное движение проникли коммунисты. В отличие от остальных, у меня был выход на агентов.
— Твои друзья не были коммунистами, — сказал Джордан Эллиот. — Мы с Джеком вообще не интересовались политикой, а Майк с Шайлой были всего-навсего против войны.
— Кэйперс, ты выполнил свой долг по отношению к стране. Тебе незачем оправдываться, — отрезал генерал, взглянув на сына.
— Кэйперс всегда гордился тем, что сделал в Каролине, — заметила Ледар. — Во время нашего брака мы постоянно спорили с ним по этому поводу.
— Я не гордился, — поправил ее Кэйперс. — Я смирился с той своей ролью. А это большая разница.
— Если бы не вы с Шайлой, мы с Джорданом даже не узнали бы о событиях в Кенте, — бросил я в лицо Кэйперсу.
— Я беру на себя полную ответственность за то, что совершил, — произнес Кэйперс. — Предлагаю вам двоим сделать то же самое.
— Ты старался держать меня в стороне от демонстраций, — обратился к Кэйперсу Майк. — Сделал меня штатным фотографом. Сказал, что мои снимки нужны для истории. Ты что, хотел защитить меня?
— Ты был слишком впечатлительным, — ответил Кэйперс. — Я защищал тебя от Шайлы и от твоих собственных худших инстинктов.
— Выходит, ты подставил Шайлу? — уточнил Майк.
— Она сама себя подставила. Шайла помогла мне выбрать форму моего радикализма. Моей основной целью был Радикальный Боб.
— Ах, какая ирония судьбы, — отозвался Боб.
— Вот к чему приводит неповоротливая бюрократическая машина, — вздохнул Кэйперс.
— Они что, платили тебе зарплату? — поинтересовался Джордан.
— А как же? — искренне удивился Кэйперс. — Я эти деньги честно отработал.
Я слушал Кэйперса и остальных и снова вспоминал, как долго оправлялся после тех событий. Я обнаружил, что во мне нет революционной закваски, и если бы приговором суда меня послали во Вьетнам на передовую, то принял бы это решение с благодарностью. Прокурор день за днем обвинял меня в том, что я не люблю свою страну, и эти слова оставили глубокий след в моей душе. Для меня моя страна означала место, которое я видел, открыв глаза по утрам, и воздухом которого дышал, это было место, которое я знал и любил без громких слов, место, за которое был готов умереть, если бы моя страна позвала меня в минуту опасности. И вот, поколебав твердыню моего подлинного «я», суд заставлял меня противостоять человеку, каким я был и каким мне еще предстояло стать.
По окончании суда Майк подловил Кэйперса Миддлтона у дверей зала для заседаний и сделал три фотографии, где тот стоял в обнимку с Радикальным Бобом. Затем Майк осторожно положил на пол свой «Никон» и двинул Кэйперсу кулаком в челюсть. Зевакам даже пришлось оттаскивать Майка от старого друга.
Затем в долгую зиму 1971 года я прошел через период разговоров с самим собой и зализывания душевных ран, нывших при оценке урона, который я собственноручно нанес своей жизни. Тогда-то нас с Шайлой и притянуло друг к другу. Оглядываясь назад, я думаю, что нам судьбой предназначено было танцевать вдвоем. Мы были словно две луны, не дающие света и притягивающиеся к одной и той же призрачной орбите. Шайла с трудом вернула себе самоуважение, после того как спала с Кэйперсом и делилась с ним всеми своими секретами. Ее мучило даже не то, что он лгал о войне, а скорее то, что каждую ночь он твердил ей о своей любви, о своем восхищении ее убежденностью, о том, что обожает ее тело и страстно желает идти с ней рука об руку до конца жизни. То, что она не сумела распознать предателя в своем любовнике, волновало ее гораздо сильнее, чем сам факт, что он тайно работал на правительство. Ее беспокоила даже не душевная горечь, оставшаяся после романа с Кэйперсом, и не его неверность, а то, что она не знала, как восстановить веру в себя и в свое умение разбираться в людях. Шайла всегда считала себя надежным и неподкупным человеком, но даже подумать не могла о том, что способна стать легкой добычей, а ее доверчивость может привести к такому позору. Она легко могла примириться с тем, что ей придется отвечать перед законом за свои поступки, но не могла вынести того, что ее любовь выставили на посмешище, а ее сделали круглой дурой. Вот так мы обратились друг к другу. Вот так она повернулась ко мне, а я повернулся к ней, и никто из нас не знал, что мост в Чарлстоне уже назначил нам роковое свидание.
Назад: Глава тридцать шестая
Дальше: Глава тридцать восьмая

