Глава тридцать девятая
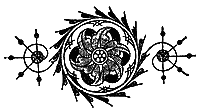
«Каждому сыну рано или поздно придется сидеть в комнате, подобной этой», — думал я, когда присоединился к братьям, дежурившим возле постели матери. Знакомый запах химиотерапии, металлический запах, оставляющий след на языке. Химия должна была убивать белые клетки, которые размножались в крови Люси, белые клетки, которые двигались стадами и вытесняли красные клетки, так что те оказывались на грани исчезновения. Я представлял себе кровь матери, превращающуюся в убийственно белый снег. А когда посмотрел на нее, то впервые видел ужас в ее красивых голубых глазах. Каждая клеточка ее тела была пронизана страхом.
— Джек, если бы ты действительно любил маму, — сказал Дюпри, — то сейчас сидел бы у себя и искал лекарство от рака.
— Вот что мне особенно не нравится в моих братьях, — произнес Джон Хардин, подходя к постели Люси. — Ты слышала, мама? Мы все должны постараться, чтобы ты чувствовала себя на миллион баксов, а глупый Дюпри опять со своими шуточками.
— Скажи, что нам надо сделать, чтобы мама чувствовала себя на миллион баксов, — усмехнулся Даллас. — Похоже, нам недостает твоего умения вести себя у постели больного.
— Ну, давай! Вышучивай меня, Даллас, — окрысился Джон Хардин. — Конечно, я самый удобный объект для ваших шуток. Знаю, что вы смеетесь за моей спиной. Издеваетесь надо мной. Пишете обо мне на стенке в сортире всякие гадости. Я все видел. Думаете, я не узнал ваш мерзкий почерк?!
— В жизни не писал на стенке в ванной, — покачал головой Даллас.
— У тебя просто кишка тонка признаться, — не унимался Джон Хардин. — У тебя и жалких людишек вроде тебя.
— Согласен, — кивнул Ти. — Далласа и жалких людишек вроде него можно только презирать. Что еще можно сказать о человеке, который боится признаться в авторстве собственного граффити?
— Да ты пишешь обо мне еще большие гадости, чем Даллас, — не унимался Джон Хардин. — Но я вам отплатил. Все рассказал маме. Мама все знает, говнюки. Уж мама с вами разберется, как только встанет на ноги. Правда, ма?
— Правда, Джон Хардин, — отозвалась Люси слабым голосом.
— Ты, наверное, бредишь, Джон Хардин, — озадаченно произнес Ти. — И что такого я о тебе написал?
— Ты написал: «Звоните Дж. Он лучше всех в городе делает минет», — сказал Джон Хардин. — А внизу приписал номер моего телефона.
— Откуда у тебя телефон? — удивился Даллас. — Ты же живешь на дереве, точно воробей.
— Я слишком умен для вас, парни, — ухмыльнулся Джон Хардин. — Я всегда соображаю быстрее вас.
— Отстаньте от Джона Хардина, — велела Люси. — Дорогой, я читала об аресте Джордана. Это было в утренней газете.
— Он сам сдался, — объяснил я.
— От прошлого убежать невозможно, — грустно улыбнулась Люси. — Думаю, Джордан устал бегать от человека, каким он никогда и не был.
— Вы только посмотрите! Мама по-прежнему больше всех любит Джека, — нахмурился Джон Хардин. — Несправедливо предпочитать его только из-за такой глупости, как первородство.
— Послушай, Джон Хардин, я сама была еще ребенком, когда у меня родился Джек, — сказала Люси, дотронувшись левой рукой до моего лица. — В детстве я не играла в куклы, так как их у меня просто не было. Поэтому я вообразила, что Джек — это кукла, которую кто-то положил мне под рождественскую елку. Я, конечно, не имела права воспитывать ребенка, поскольку сама еще не вышла из детского возраста, но Джек не мог это знать. Когда я впервые дала ему грудь, то понятия не имела, как это делается. Однако Джек не доставлял мне хлопот. Мне с ним было легко. Мы с Джеком выросли вместе. Он стал моим первым лучшим другом, и я была уверена, что он меня никогда не оставит.
— Похоже, поселившись в Италии, Джек нашел верный способ быть ближе к тебе, — хмыкнул Даллас.
— Лично я в Италию ни за какие коврижки не поехал бы, даже если бы сам Папа пригласил меня к себе на ragù, — заявил Джон Хардин. — Итальянцы — самые страшные люди в мире. Они всегда клянутся на крови, продают чернокожим наркотики и стреляют друг в друга из дробовиков. Мужчины мажут волосы свиным салом, у женщин огромные титьки, и они постоянно перебирают четки и едят блюда, названия которых заканчиваются на гласную букву. Мафия существует у них уже так долго, что остается только удивляться, как там вообще смог уцелеть хотя бы один итальянец.
— Я все понял, — кивнул Ти. — Джон Хардин только что продемонстрировал нам, как Голливуд формирует наше представление об итальянцах. Пора бы мафии перестать убивать полицейских информаторов и переключиться на ликвидацию голливудских продюсеров.
— Мама устала, — заметил Дюпри. — Надо дать ей отдохнуть.
— Дюпри, она просто устала видеть твою тоскливую физиономию, — сказал Джон Хардин. — И не только она одна.
Дюпри покачал головой и прошептал, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Поверить не могу, что позволяю психу себя оскорблять.
— Ты слышала, мама?! — ткнул пальцем в сторону Дюпри Джон Хардин. — Тебе вообще следует запретить здесь появляться. Ха! Будешь знать, как смеяться над безответным шизофреником. В моих проблемах виноват отравленный генофонд, который даже и головастика не способен воспроизвести, а еще мои засранцы братья, не желающие поставить себя на место другого. Вы, говнюки, с детства надо мной прикалывались. Наверное, ненавидите меня, сборище неудачников, за то, что я обо всех ваших происках рассказываю маме.
— Джон Хардин, — сказал я. — Может, ты не заметил, что здесь больница? И мама неважно себя чувствует?
— Мистер Чертова Дылда! Мистер Я-Живу-в-Европе-и-Плевать-Хотел-на-Тех-Кто-Живет-в-Америке. Мистер Шеф-Боярди-Не-Забудь-Надеть-Еще-Один-Прикольный-Передник. Мистер Собачье-Дерьмо-на-Рисе, пытающийся учить младшенького жизни. Ма, открыт сезон охоты на душевнобольных. Я уже говорил тебе об этом, а теперь ты получила наглядную демонстрацию от своих никчемных сыновей.
— Ты мои самый любимый, Джон Хардин, — произнесла Люси, взяв сына за руки и притянув к себе. — Они не понимают моего малыша.
— Ни черта не понимают, — ответил Джон Хардин дрожащим голосом. — Они представляют собой нормальный мир, и это так страшно, ма. Меня это всегда пугало.
— Я заставлю их хорошо к тебе относиться, солнышко, — сказала Люси и, подмигнув нам, еще крепче прижала к себе Джона Хардина.
— Похоже, мы единственные американские дети, которых наказывали за то, что они не шизофреники, — обиделся Даллас.
— Плохой брат ревнует, — заметил Ти.
— Да, хороший брат становится плохим, — согласился Дюпри.
— Давайте выметаться отсюда, — предложил я. — Маме нужно отдохнуть.
— Мама, один из нас будет здесь постоянно, — сообщил Дюпри. — Мы будем дежурить посменно.
— Они выгоняют меня, ма, — пожаловался Джон Хардин. — Меня, который любит тебя больше всех. Не дают посидеть с тобой, когда ты так во мне нуждаешься.
— Мама, сестры до смерти боятся Джона Хардина, — заметил Даллас. — Все в городе помнят, что он устроил на мосту.
— Я тогда слышал голоса, — объяснил Джон Хардин. — Я был не в себе.
— А мне показалось, очень даже в себе, братишка, — ответил Ти. — Ты остался верен себе, когда заставил своих бедных братьев прыгнуть нагишом в реку.
— Я жертва дисфункции семьи, — заявил Джон Хардин. — И не отвечаю за свои действия, когда мной руководят голоса.
— Так ты в один прекрасный вечер и из нашей бедной мамы сделаешь барбекю, — сказал Дюпри. — Разрежешь ее, как рождественского поросенка, и отдашь в приют для бездомных в Саванне, а мы и пикнуть не посмеем.
— У меня психическое заболевание, — гордо вскинул голову Джон Хардин. — Даже справка имеется.
— Господи Иисусе! — вздохнул я. — Семейная жизнь так тяжела, что ни одному нормальному американцу ее не выдержать.
— Пусть Джон Хардин дежурит ночью, — предложил Ти. — У мальчика проблемы со сном.
— С полуночи до семи, — сказал Дюпри Джону Хардину. — Думаю, ты справишься, Джон Хардин. Или хочешь, чтобы кто-нибудь из нас составил тебе компанию?
— Вы, парни, мне не компания, — отрезал Джон Хардин. — Вы для меня родимые пятна, с которыми приходится мириться.
— Теперь эти двадцать четыре часа будут для вас не слишком приятными, — с трудом произнесла Люси. — Это лекарство, может, и убивает раковые клетки, но, похоже, скоро оно и меня убьет.
Джон Хардин посмотрел на зловещий пластиковый мешок с отвратительно пахнувшей жидкостью, поступающей в кровеносную систему Люси.
— Это дерьмо не работает. Оно обогащает врачей, обогащает фармацевтические компании, и оно убивает нашу бедную чудесную мамочку. Витамин С — единственное средство против лейкемии. Я читал об этом в журнале «Парейд».
— Слава тебе господи, мистер Волшебник на нашей стороне! — воскликнул Даллас.
Мы окружили кровать Люси и стали по очереди целовать ее, пока она не взмолилась, чтобы мы ушли. Ти заплакал и сказал:
— Я люблю тебя, ма, всем телом и душой. Хотя все знают, что ты сильно постаралась изгадить мою жизнь.
Все рассмеялись — и Люси нас выставила, чтобы Ти мог заступить на дежурство. Итак, началось наше бдение, когда мы хронометрировали нашу жизнь по времени начала курса маминой химиотерапии. Я посмотрел на своих шумных, неуемных братьев и понял, что ни один из нас еще не готов к тяжкой работе: учиться жить следующие тридцать — сорок лет без Люси. Каждый из нас уже успел на своей шкуре понять, что жизнь жестока и безразлична и скоро нас ожидает утро, когда мы будем встречать рассвет без мамы.
В комнате для посетителей, в облаке сигаретного дыма, нас ожидал заключительный этап страхов и раздумий. Все заметили ужас в глазах Люси.
— Только я один и верю, что мама проживет еще лет десять, — заявил Джон Хардин. — А вы, парни, похоже, уже лапки сложили.
После нескольких минут натужных шуток и наигранного оптимизма Ти сказал:
— Я дежурю первым. Джон Хардин, сменишь меня в полночь. А вы, ребята, отправляйтесь спать.
— Кто из вас знает, что лейкемия — единственный вид рака, напрямую связанный с эмоциями человека? — спросил нас Джон Хардин с неодобрением в голосе. — Только я и оптимист в этой мрачной шайке. Ма должна видеть нас веселыми и не такими кислыми.
— А если я слечу с катушек и вышибу Джону Хардину монтировкой мозги, какой срок мне дадут? — обратился Дюпри к Далласу.
— Первая судимость? Тебя посадят максимум на четыре года и выпустят раньше за хорошее поведение.
— А как насчет тебя? — поинтересовался я, положив руку Джону Хардину на плечо. — Смотри не облажайся. Ты должен заслужить наше доверие.
— Зачем? Раньше мне никто не доверял, — отозвался Джон Хардин. — Потому я и ополчился на весь мир.
В полночь, когда Уотерфорд уснул, а прилив начал отступать, Джон Хардин сменил Ти у постели матери. Полусонный Ти обнял Джона Хардина и, шаркая ботинками с развязавшимися шнурками, поплелся по блестящему линолеуму коридора.
Медсестра, пришедшая в половине первого, чтобы установить мешок с новой порцией препарата для химеотерапии, сказала, что, пока она мерила Люси температуру и давление, Джон Хардин был напряжен, но вел себя вполне дружелюбно. Когда Дюпри явился в больницу в семь утра, то не обнаружил в палате ни Джона Хардина, ни Люси. У бокового входа Дюпри нашел кресло-каталку. На нем-то Джон Хардин и вывез Люси от греха подальше. Под подушкой он оставил записку: «Я не позволю им убивать мамочку своей отравой. Это будет еще одним доказательством, что я всегда любил ее больше, чем мои тупые братья. Пусть меня назовут сумасшедшим, зато мама наконец-то поймет, что она номер один среди всех матерей на свете».
Услышав новости, мы собрались в доме отца, чтобы обсудить план действий и определить степень ответственности. Даллас рычал на Дюпри и выглядел еще более колючим, чем всегда, а Ти тем временем вылил чашку свежезаваренного кофе в раковину и открыл банку пива.
— Алкоголь — лучшее лекарство против стресса, а кофеин нужен потом, чтобы протрезветь, — заявил он.
— Уже который раз я становлюсь посмешищем для всего города из-за своего проклятого семейства, — произнес Даллас. — Вам, ребята, этого не понять. Люди хотят, чтобы советы по правовым вопросам им давали столпы общества. Я же похож на пожарный гидрант, возле которого соседский чихуахуа метит территорию. Эх, не надо было мне вас слушать, парни.
— Мама настаивала на том, чтобы мы подключили Джона Хардина, — оправдывался Ти. — Это была погрешность в расчетах. Когда мама в следующий раз будет умирать, мы поступим немного по-другому.
— Ее врач просто рвет и мечет, — доложил Дюпри. — Полчаса на меня орал. Доктор Питтс тоже не в лучшем настроении.
— В нее столько закачали химии, что она совсем ослабела, а толку — чуть, — заметил Даллас.
— Он взял мамину машину, — доложил я. — Когда врач успокоился, доктор Питтс сказал мне, что из маминой кладовки исчезла вся еда. И алкоголь тоже. Из шкафа взяли одеяла, простыни, полотенца. Я уже успел проверить дом на дереве, после того как мне утром позвонил Дюпри.
— У него нет кредитной карты и денег кот наплакал. Мамин кошелек на месте. Джону Хардину некуда ехать. Полицейские из дорожной патрульной службы уже подняты по тревоге, так что они быстро отыщут мамину машину и привезут нашу маму назад.
— У Джона Хардина совсем шарики за ролики заехали, — бросил Ти. — Но он чертовски умен. У мальчика есть план. Уж это я вам гарантирую.
— Знаете, почему мы в таком дерьме? — спросил Даллас. — Это же так просто. Потому что родители вырастили из нас либералов. Либералов на Юге. Научили доверять людям, верить в торжество добра. Никто в мире, кроме нас, не позволил бы психу типа Джона Хардина дежурить у постели умирающей матери. Если бы нас вырастили консерваторами, как в других приличных южных семьях, то мы никогда в жизни не допустили бы чокнутого к постели матери.
— Я и рад бы стать консерватором, но слишком хорошо их знаю, — отозвался я. — Они эгоистичные, эгоцентричные, мрачные, реакционно настроенные — и вообще зануды.
— Да, — согласился со мной Даллас. — Я тоже так думаю.
— Виновен, — произнес Ти. — Вижу Гаити — виновен. Сомали — виновен по всем пунктам. Сальвадор — без сомнения, виновен. Гватемалу — частично виновен. Многолюдные улицы Индии — снова виновен.
— Мама пропала, — напомнил нам Дюпри.
— Виновны! — заорали мы в один голос.
— Братцы, мы должны были это предвидеть, — сказал Ти.
— Интересно, как можно узнать, что у сумасшедшего на уме? — возразил Даллас.
— Он не сумасшедший, — упорно стоял на своем Дюпри. — Он наш брат, и мы просто обязаны его найти, пока он не угробил маму. Мы не позволим ей умереть неизвестно где. Джону Хардину с этим не справиться.
— Я проверю проселочные дороги, — предложил я.
— Думаю, он все еще околачивается в «Йестерди», в Колумбии, — сказал Дюпри. — Мы с Ти туда сходим, поговорим. Даллас, а почему бы тебе не поехать в Чарлстон, чтобы проверить, не видел ли кто его там?
— Да вы что, ребята! Я все-таки работаю. Солидные клиенты в офисе. Секретарша, которой надо платить. Дел выше головы. Это вам что-нибудь говорит, парни? — возмутился Даллас.
— Мамин «кадиллак» ярко-красный, — заметил я. — Джона Хардина точно примут за сутенера, решившего на досуге прокатиться по проселочным дорогам Южной Каролины.
— Ну что, брат, небось, жалеешь, что сейчас не в Италии? — спросил меня Ти.
— Chi, io? — переспросил я.
— Хотел бы я быть итальянцем, — ухмыльнулся Даллас. — Тогда я ни слова не понимал бы по-английски. Блуждал бы в потемках. Между прочим, в нашем семействе это единственное безопасное место.
— Приходите ко мне часиков в шесть вечера, — предложил я. — А днем можно использовать офис Далласа как штаб-квартиру. Где отец?
— Опять пьяный, — ответил Дюпри.
— Я в шоке! — воскликнул Даллас. — Папа, похоже, хватил через край.
— Он пьет, когда возникают затруднительные обстоятельства, — объяснил Дюпри.
— А еще когда не возникают затруднительные обстоятельства, — отозвался я.
Хотя маленькие штаты вроде Южной Каролины можно во многом упрекнуть, для жителей обстановка там самая камерная и домашняя. Не прошло и двадцати четырех часов, как весь штат был поднят на ноги в поисках красного «кадиллака севилья» 1985 года выпуска с пациентом психбольницы за рулем и со смертельно больной женщиной, прошедшей только треть курса химиотерапии, в качестве пассажира.
Ти проверял гостиницы и мотели по всему штату, Даллас обзванивал шерифов самых отдаленных сельских графств, а я сидел в редакции «Ньюс энд курьер» в Чарлстоне, обзванивая издателей с просьбой поместить на первые полосы газет сообщение о пропаже Люси. Вернувшись в Колумбию, Дюпри начал обходить друзей Джона Хардина в грязных притонах неподалеку от университета. Когда в голове у Джона Хардина все путалось и было как в тумане, алкоголь становился его самым надежным убежищем. В барах он находил не слишком критично настроенных друзей, которые терпеливо слушали его, пока он зачитывал длинный список ополчившихся на него врагов. В этих комнатах с зеркальными стенами он находил успокоение в безучастности незнакомых людей, плывущих по течению в том же раю для дураков, куда обычно убегал Джон Хардин, когда у него случались приступы паники или когда на него начинал невыносимо давить груз страданий, доставшийся ему по праву рождения.
Дюпри знал о вечернем маршруте Джона Хардина и частенько отвечал на звонки барменов, если брат напивался так, что не стоял на ногах. Дюпри бесконечно трогало то, что Джону Хардину удалось войти в сообщество обездоленных, неприветливых мужчин и женщин, которым временами жизнь, как и ему, казалась непереносимой. Когда они узнали, что Джон Хардин исчез вместе с матерью, то доверились Дюпри, предоставив ему телефонные номера и имена остальных друзей. На третий день Дюпри разыскал парня, который рассказал ему, куда отправился Джон Хардин и как его найти.
Вернон Пелларин бродил среди таких же, как он, наркозависимых, которые открыто курили травку в двухстах футах от офиса Дюпри, на территории больницы штата. Вернон и сам был слегка обкуренным, а потому жизнерадостно сообщил Дюпри, что дал Джону Хардину ключи от своего рыбачьего домика на реке Эдисто. Кажется, это было две недели назад, в баре неподалеку от законодательного собрания штата. Домик перешел к Вернону и его брату Кэйси после смерти отца, но Кэйси им не пользовался, так как переехал в Спокейн, штат Вашингтон. Джон Хардин открылся новому другу, сообщив, что ему надо найти самое укромное, самое уединенное место в Америке, поскольку он собирается написать очерк, который изменит направление движения современного общества. Вернон горел желанием содействовать смелому прорыву в деле создания американской летописи. Домик у него был чистый, скромно обставленный и удобный. Однако добраться до него можно было только на лодке.
На следующее утро мы уселись в две плоскодонки — я с Ти в одной, Дюпри с Далласом в другой — и поплыли из Оранджбурга вниз по течению реки Эдисто. Нам нужно было забрать Люси в больницу, но при этом сделать так, чтобы, с одной стороны, не пострадал наш младший и самый слабый брат, а с другой — самим от него не пострадать. Когда Джон Хардин впадал в ярость, он мог запугать весь город, что было прекрасно известно в Уотерфорде, поскольку уже не раз повторялось.
Мы полностью отдались на волю быстрой полноводной реки Эдисто. С обоих берегов к воде склонялись дубы, касаясь друг друга ветвями, передавая, так сказать, из рук в руки птиц и змей. Когда мы проплывали под низкими ветвями, водяные змеи не спускали глаз с наших лодок. Даллас насчитал семь рептилий, обвившихся вокруг ветвей одного из дубов.
— Ненавижу змей, — тихо сказал он. — Это что за вид?
— Водяной щитомордник, мокасиновая змея, — объяснил Ти. — Их яд смертелен. Если такая укусит, то у тебя останется лишь тридцать секунд, чтобы примириться с Богом.
— Это водяные змеи, — заметил Дюпри. — Ничего страшного.
— Не нравится мне плыть под деревом, видя, что пятьдесят таких вот живых существ прикидывают, смогут ли мной закусить, — произнес Даллас.
— Со змеями все в порядке, — отозвался Дюпри. — А вот Джон Хардин — действительно проблема.
— Может, он будет в хорошем настроении, — предположил я. — Скажем ему, что достали билеты на концерт «Роллинг стоунз».
— Сомневаюсь, — ответил Дюпри. — Ему уже давно пора сделать укол. Скорее всего, он пил и теперь находится в возбужденном состоянии, так как считает, что врачи пытаются убить маму. Нам надо вести себя очень осторожно. Если удастся уговорить его вернуть Люси, будет просто замечательно. Но так или иначе, ее необходимо отвезти обратно в больницу.
— Думаешь, у него есть оружие? — поинтересовался Ти.
— Очень может быть, — кивнул Дюпри.
— Знаешь, кто в нашей семье лучший стрелок? — спросил меня Ти.
— Догадываюсь, — сказал я. — Джон Хардин?
— Он с пятидесяти ярдов отстрелит у комара яйца, — сообщил мне Даллас. — Этот парень знает, как обращаться с оружием.
Мы уже проплыли мимо четырех пристаней перед крошечными неказистыми домиками, а потом, следуя изгибу реки, повернули и в пятидесяти ярдах увидели нужный нам причал. Лодка Джона Хардина была вытащена на заросший сорняками двор. Мы привязали наши лодки к пристани и, в соответствии с разработанным накануне планом разделившись на две группы и прячась в зарослях, стали подбираться к небольшому домику из шлакобетона. Из трубы валил черный дым. Пахло водяным крессом и затхлостью. На мягкой земле отпечатались следы оленя, свиваясь в причудливые иероглифы.
Единственным бывалым человеком из нас по праву считался Дюпри. Он держал охотничьих собак и следил за тем, чтобы мотор его лодки всегда был в порядке, а охотничьи и рыбацкие лицензии — не просрочены.
Мы с Ти видели, как Дюпри быстро и осторожно вышел из укрытия, подкрался к углу дома и исчез из нашего поля зрения. Затем мы снова увидели, как он по-пластунски подполз к фасаду, поднялся, пригнувшись, на самодельное крыльцо и заглянул в грязное окно. Потом, все так же ползком, перебрался к следующему окну, протер ладонью стекло и посмотрел внутрь. Снова протер стекло и приложил глаз к месту, которое очистил послюнявленным пальцем. Он не слышал, как отворилась дверь, и не видел Джона Хардина, пока тот не приставил к его виску дуло охотничьего ружья.
Дюпри поднял руки над головой, и Джон Хардин вывел его на середину двора. Он заставил брата опуститься на колени и положить руки за голову, а потом стал глазами обшаривать лес в попытке выявить всех остальных.
— Выходите, а не то отстрелю Дюпри член и скормлю енотам! — заорал Джон Хардин, и его голос эхом отозвался от стволов высоких деревьев.
— Он снова заставит нас раздеться догола. И будет смеяться над нашими маленькими членами. Заставит плыть до моста на шоссе номер семнадцать, — прошептал Ти, но я знаком велел ему замолчать.
Первым не выдержал Даллас. Он вышел из-за деревьев с противоположной стороны дома и попытался шантажировать младшего брата, взяв его на пушку престижем своей профессии.
— Прекращай, Джон Хардин! — закричал Даллас властным голосом, помахивая листом бумаги. — Это ордер на твой арест, младший брат. Подписан тремя представителями закона города Уотерфорда и твоим отцом. Папа требует, чтобы тебя арестовали, засадили за решетку, заперли на все замки и расплавили все ключи от этих самых замков. Джон Хардин, я твой единственный шанс. Со мной, как со своим адвокатом, ты выйдешь на поруки так быстро, что даже форель в ручье пукнуть не успеет.
— Форель? Пукает? — удивился я. — Где он этого набрался?
— Чем сильнее он напуган, тем образнее его речь, — объяснил Ти. — Слышишь, какой у него голос? Он в ужасе.
— Джон Хардин, тебя разыскивает полиция трех штатов. Ты объявлен в розыск по всей стране. Твои фотографии развешаны повсюду. Только блестящий юрист сможет облегчить твою участь. Человек, вошедший в первую десятку выпускников юридического факультета. Первоклассный адвокат, способный очаровать присяжных и договориться с судьей, возьмет это дело, как яйцо, и приготовит из него омлет.
— На колени, — приказал Джон Хардин, — пока я не разнес тебе башку.
— Надеюсь, что твой адвокат будет гомиком! — воскликнул Даллас, падая на колени. — Надеюсь, что твоим соседом по камере окажется огромный черный насильник, к тому же педик и капитан тюремной баскетбольной команды.
— Это уже чистый расизм, — прошептал Ти.
— Что правда, то правда, — согласился я.
— Я могу пристрелить вас, парни, прямо здесь. На колени! — заорал Джон Хардин. — Ни минуты не буду сидеть в тюрьме. Знаете почему? Потому что я сумасшедший. У меня даже справка имеется. Вы, двое, надо мной издевались, когда я был маленьким. Кто знает, может, поэтому у меня и шизофрения.
— Кто знает? — спросил Дюпри. — А может, это мамина стряпня.
— Заткнись! — завопил Джон Хардин. — Ни слова о нашей прекрасной матери! Может, она и не была идеальной. Но посмотри, за кого она вышла замуж! За нашего ужасного папашу, который не стоит и мизинца этой святой женщины, а уж тем более не имел права жениться на ней. У нее были мечты, у нашей мамы, большие мечты. Думаешь, она не была разочарована, когда родила четверых придурочных сыновей подряд? Да, согласен, я тоже разочаровал маму. Но она говорит, что я слишком чувствителен для этого мира, где человек человеку враг. Всю свою жизнь она пожертвовала отцу и вам, хреноплетам. Мама понимает меня, как никто другой.
— Зачем же тогда ты ее убиваешь, Джон Хардин? — спокойно спросил Дюпри.
— Только попробуй сказать это еще раз! Не смей, мерзкий Дюпри! Мерзкий, никчемный, ни на что не годный Дюпри!
— Он абсолютно прав, — подал голос Даллас. — Ее единственный шанс — химиотерапия.
— Как вы не видите, что она с ней делает?! — воскликнул Джон Хардин, но в голосе его был настоящий ужас. — Она не может удержать пищу. Она не может ничего есть, так как ее сразу же рвет. Выворачивает наизнанку. Ваша химия убивает ее изнутри.
И тут из кустов выскочил Ти. Он вышел прямо на середину сцены, дико крича и размахивая руками, словно моряк, машущий проходящему кораблю. Его южный акцент усилился и резал слух, а когда Джон Хардин наставил на него ружье, Ти заорал, словно погонщик мулов на базаре.
— Брат, брат, брат! — визгливо, как комнатная собачонка, начал лаять на Джона Хардина Ти. — Брат, брат, брат!
— Ти, какого черта тебе нужно? — спросил Джон Хардин, целясь прямо в сердце Ти. — Я тебя прекрасно слышу. Как думаешь, сколько раз нужно сказать слово «брат», чтобы я тебя услышал?
— Я просто нервничаю, братишка, — объяснил Ти.
— Терпеть не могу, когда ты меня называешь братишкой, — огрызнулся Джон Хардин. — Еще раз так скажешь — и я пущу тебе пулю в сердце. И с чего это ты так нервничаешь?
— Моя мама умирает. Мой брат сошел с ума. Он угрожает подстрелить мою несчастную задницу, — завыл Ти. — Это тебе не в гамаке качаться, братишка.
— Он снова сказал «братишка», — встрял в разговор Дюпри. — Пристрели его, Джон Хардин.
— А ты заткнись, Дюпри, — предупредил Джон Хардин.
— У меня назначена встреча в городе, — сказал Дюпри, посмотрев на часы. — Я потеряю работу, если опоздаю.
— Ты? Работу? — сардонически рассмеялся Джон Хардин. — Ты работаешь в психиатрической больнице, держишь под замком невинных сумасшедших людей вроде меня.
— А у меня встреча с клиентом, — заявил Даллас. — Речь идет о больших деньгах.
— Да кто ты такой? Паршивый адвокатишка, который носит дешевые галстуки и у которого даже факса нет, — ухмыльнулся Джон Хардин. — Наш папаша, может, и пьяница, зато это великий юридический ум. Своими судебными решениями он изменил мир, а ты занимаешься дорожными нарушениями пуэрториканцев, заблудившихся на шоссе Ай-девяносто пять.
— Весьма точное подведение итогов моей карьеры, — согласился Даллас, а Дюпри рассмеялся.
— Что, все шутите? — обиделся Джон Хардин. — Вам бы все шутки шутить! Но настоящий юмор вам не понять. Вам лишь бы унизить человека, высмеять его.
— Это только Дюпри и Даллас, братишка, — вмешался Ти. — Мой юмор такой же, как у тебя.
— Спасибо, Ти, — сказал Даллас. — Нет ничего лучше, как решать проблему общими усилиями.
— Нам нужно отвезти маму назад в больницу, — произнес Дюпри, поднимаясь на ноги.
— Не двигаться! — рявкнул Джон Хардин, ударив прикладом ружья брату прямо под коленки.
Я решил, что видел и слышал достаточно, и скорее от разочарования, чем от приступа смелости, выскочил из кустов, создав как можно больше шума. Не удостоив взглядом Джона Хардина и братьев, я взбежал по некрашеным ступеням крыльца, Джон Хардин при этом орал за моей спиной как оглашенный. Я слышал его требование остановиться, но я, наплевав на все, вошел в дом и увидел очень слабую, еле дышащую маму, которая лежала возле топившейся печки в промокшем от пота спальном мешке. Я потрогал ее лоб: у нее была такая высокая температура, что выше, казалось, не бывает. Люси открыла глаза и попыталась что-то сказать, но она бредила, пожираемая лихорадкой. Я поднял ее на руки. Я был в таком бешенстве, что остановить меня было невозможно.
Я вышел на солнце, аккуратно спустился по расшатанным ступенькам и пошел прямо на Джона Хардина, наставившего на меня свое ружье. Я молился про себя, чтобы природная доброта Джона Хардина прорвалась сквозь искаженные границы его болезни. «Близкая смерть матери и меня сделала сумасшедшим, — подумал я. — Так что ничего удивительного в том, что Джон Хардин слетел с катушек».
— Отнеси мою мать туда, где взял, или я обеспечу тебе бесплатное путешествие на небо!
— Тогда будешь воспитывать Ли вместо меня, Джон Хардин! — заорал я. — Ты сообщишь ей, что пристрелил ее отца в лесу, и тогда все ее детство сможешь рассказывать ей сказки на ночь и откладывать деньги на ее образование. Шайла уже покончила с собой, так что Ли не привыкать обходиться без родителей. И мне плевать, что ты со мной сделаешь, если ты уже все равно убил маму, оставив ее в таком состоянии. Уйди с дороги, Джон Хардин! У мамы температура выше сорока, и, если мы в ближайшее время не доставим ее в больницу, она не проживет и часа. Ты что, хочешь убить маму?
— Нет, Джек. Богом клянусь! Я пытаюсь ее спасти, помочь ей. Спроси маму. Разбуди ее. Она знает, что я стараюсь сделать. Я забыл захватить с собой аспирин. Только и всего. Я люблю ее больше, чем все остальные. Гораздо больше, чем любой из вас. Она знает это.
— Тогда помоги нам доставить ее туда, где ее могут спасти.
— Ну пожалуйста! Пожалуйста! — в один голос воскликнули Даллас, Дюпри и Ти — и Джон Хардин опустил ружье.
Даже после того, как мы доставили ее в больницу, Люси так и оставалась пленницей страны беспамятства. Мы снова окружили ее кровать и тысячу раз, как литанию бесконечных любовных посланий, шептали: «Я люблю тебя, мама», стараясь облегчить ее страдания и избавить от одиночества. И снова возле ее кровати стоял штатив, а в вену ее правой руки капала дурно пахнувшая жидкость и, попадая в организм Люси, сжигала все клетки без разбору — как плохие, так и хорошие. Жидкость прокладывала себе путь по автостраде, соединявшей ее органы, как разные города, и снова уносила ее в пределы смерти. Тело матери жило своей отдельной жизнью, а потому, когда молодой доктор пытался отследить каждый шаг ее ухода, показатели постоянно менялись. Он довел Люси до порога смерти, после чего прекратил курс химиотерапии, дав возможность истощенному и измученному телу Люси спасать себя, как умеет.
Доктор Стив Пейтон думал, что Люси умрет в больнице в первую же ночь после возвращения, однако он недооценил тех сил, что она бросила для решения задачи выживания. Этому телу уже пришлось пять раз потрудиться, чтобы произвести на свет пятерых мальчиков, каждый из которых весил более восьми фунтов. В ту первую ночь она дважды умирала и дважды возвращалась назад.
В конце второго дня Люси открыла глаза и увидела, что мы, ее сыновья, сгрудились возле кровати. От радости мы стали так громко вопить, что медсестры со всех ног прибежали нас успокаивать. В первые минуты мама не могла понять, чему это мы так радуемся, а поняв, подмигнула нам. Потом крепко уснула и проспала пять часов, а когда проснулась, мы снова встретили ее восторженными криками.
После ее второго пробуждения Ти, не в силах сдерживать волнение, выскользнул из комнаты. Я последовал за ним, вышел через заднюю дверь больницы на чистый воздух и обнаружил Ти на берегу реки, окаймленной спартиной. Когда я подошел к брату, тот тихонько всхлипывал.
— Джек, я еще не готов для этого. Клянусь, не готов. Нужно, чтобы кто-то учил этому дерьму. Пусть, что ли, книгу напишут, объяснят, как нужно себя вести в таких случаях и что чувствовать. Все, что я делаю, кажется мне наигранным. Даже эти слезы какие-то фальшивые, словно я притворяюсь, что страдаю сильнее, чем на самом деле. Она точно не стала бы нас рожать, если бы знала, что мы вот так будем сидеть подле нее и смотреть, как она медленно умирает. Это вовсе не значит, что я в таком уж восторге от нее. Думаю, вы, мои старшие братья, получили от мамы гораздо больше. В какой-то момент она перестала быть нам матерью. Ладно, можно сказать, сбежала. Пустяки, дело житейское. Но то, что происходит сейчас, убивает меня. Не знаю почему. Я даже считаю ее виноватой в том, что Джон Хардин такой, какой есть. Она ведь и не воспитывала этого маленького уродца. Просто поливала его, как растение, чтобы он рос. Нет, прости меня. Я не имею права так думать.
— Говори все, что хочешь, — успокоил я брата. — Похоже, это лучшее, что мы можем делать сейчас, когда ее теряем.
— Она любит Джона Хардина больше, чем меня, по одной мерзкой причине, — заявил Ти. — Потому что он психически нездоров, а я нет. Разве это справедливо? Я ревную, потому что я не чертов шизофреник. Каждый раз как начинаю думать об этом, то понимаю, что завидую психу.
— Джону Хардину нужно, чтобы мама любила его больше других, — попытался утешить я брата. — У него особый случай.
— Он совсем тронулся, — сказал Ти. — Он практически убивает маму, а мы притворяемся, что все в порядке, так как он забыл вовремя сделать укол торазина.
— Он выложился на полную, — ответил я. — Я даже завидую Джону Хардину. Мы все сидим, молимся Богу, зная, что Он все равно нас не услышит. А Джон Хардин похищает женщину, которую любит больше всех на свете, увозит ее от греха подальше, в свой воздушный замок в укромном месте, о котором ни одна живая душа не знает. Мама понимает, что теоретически мы все ее любим. А вот бедный чокнутый Джон Хардин крадет ее ночью, заставляя весь штат встать на уши, чтобы ее найти. Мы говорим матери о своей любви через докторов, а Джон Хардин увозит ее по реке Эдисто, варит ей окуней, которых сам для нее ловит в реке, топит печь, кормит ее с ложечки в полузаброшенном рыбачьем домике, до которого можно добраться только по воде. Любовь, как и все остальное, не многого стоит, если за нее не бороться.
— Но мы же искали ее. Мы ее нашли и привезли назад, — возразил Ти.
— Спасибо Джону Хардину, — ответил я.
— Когда мама умрет, у нас останется только отец, — произнес Ти.
— Пора возвращаться, — сказал я. — Мы должны быть рядом, когда ей понадобимся.
Два дня спустя, в два часа ночи, я спал на койке в ногах ее кровати, как вдруг услышал ее крик и обнаружил, что она вся залита рвотной массой. Волосы безжизненно висели спутанными прядями, дыхание было хриплым и прерывистым. Мать крепко сжимала мое запястье, а я стирал с ее ночной рубашки мерзкую слизь, отмывал шею и руки. Я пытался убрать рвоту, но ее продолжало рвать снова и снова. Не успел я навести порядок, при этом испачкавшись сам, как она прошептала, что ей срочно нужно в туалет.
— Все ломается, разваливается на куски, — простонала она, когда я вытащил ее из постели.
Она была невесомой и крошечной, не больше буханки хлеба. Когда мама встала на холодный линолеум, ноги ее подкосились, и я взял ее под мышки и понес в ванную комнату, точно тряпичную куклу. Посадив ее на унитаз, я заметил, что за нами по полу протянулась зловонная полоса жидкого кала. Вместе с рвотой и каловыми массами, которые были повсюду, из нее, казалось, выходили все внутренности. По щекам Люси текли слезы, она выла от боли и унижения.
— Делай свои дела, мама. Я вернусь через минуту, — сказал я и, в очередной раз стерев с нее остатки рвоты, закрыл дверь ванной комнаты. Сдернув с кровати простыни и одеяла, я быстро постелил свежее белье. С помощью полотенца убрал с пола экскременты, затем продезинфицировал его лиголом. Я стер частицы рвоты со стены, помылся сам и вынес в коридор узел вонючего белья. Затем тихо постучался в дверь ванной комнаты и, подавив в себе волну паники и отвращения, спросил:
— Мама, ты в порядке? Все нормально?
— Сынок, а ты не мог бы меня вымыть?
— С удовольствием, мама.
— От меня воняет. Я такая грязная.
— Вот зачем и придумали мыло.
Я включил горячую воду и поставил Люси под душ. Вода подействовала на нее целительно, и она постанывала от удовольствия, пока я намыливал ее с головы до ног, нимало не смущаясь, что трогаю руками нагое тело собственной матери. Когда я начал мыть ей голову, в руке остались пучки волос, и я повесил их на полотенцедержатель, точно белье на веревку.
Хорошенько вытерев свою маму, я надел ей на голову один из ее розовых тюрбанов, а на тело — свежую больничную рубашку. Я тщательно почистил ей зубы и заставил прополоскать рот специальным ополаскивателем, чтобы уничтожить привкус рвоты. И наконец капнул на щеки и шею ее любимые духи «Белые плечи», ассоциировавшиеся для меня с запахом Люси.
Когда я укладывал маму обратно в постель, она уже спала. В комнате еще оставались пятна, которые я не успел отмыть, и на сей раз я протер все от пола до потолка, так что, когда я закончил, палата блестела. Затем я расставил цветы по-другому и подвинул их поближе к кровати. Мне хотелось, чтобы, проснувшись, Люси сразу почувствовала аромат роз и лилий, и я даже подумал, не обрызгать ли ее любимыми духами последний пустой пластиковый мешок из-под химии.
Час спустя я наконец успокоился, так как в комнате не осталось ни следа рвоты, и тогда я, обессилев, рухнул на койку. Меня поразил лунный свет на моем лице и похожие на алфавит на школьной доске южные звезды, которые я видел из окна. Свет звезд казался знакомым, дружелюбным. Приподнявшись на локте, я посмотрел на реку, в которой, словно в зеркале, отражалось ночное небо. Мне хотелось освободиться от всех обязательств, исключить все контакты с людьми, спрятаться в жалком рыбачьем домишке на реке Эдисто так, чтобы меня не потревожили ни почтальон, ни проехавшая машина, и питаться только тем, что найду в лесу или поймаю в реке. Потом я подумал о Шайле. Память о ней ножом вонзилась мне в сердце и еще раз отозвалась мучительной болью. Шайла жила в моей душе, как шум прибоя, как песнь ветра. И сейчас, глядя на небо, я мысленно создал созвездие в форме прекрасного лица Шайлы. Моя покойная жена явилась мне в виде света.
Снова и снова я старался повернуть подушку прохладной стороной, тщетно пытаясь устроиться поудобнее на этой непривычной и к тому же очень жесткой койке. Я пытался уловить дыхание Люси, но слышал только, как переговариваются насекомые на широких лужайках. И вот, до крайности измученный бессонницей, я сел и увидел залитое лунным светом изможденное лицо матери. Глаза ее были открыты, и она тоже смотрела на ночное небо.
— Я думала, что эту ночь уже не переживу, — сказала Люси, еле шевеля потрескавшимися, обметанными губами. — Если бы у меня было ружье, то, наверное, сама нажала бы на курок.
— Я с удовольствием сделал бы это за тебя, мама, — ответил я. — Тебе было так плохо, что даже не передать.
— Уж лучше бы я осталась один на один с раком, — заявила Люси. — Эта дрянь заводского производства. Лейкемия, может, и убила бы меня, но по моему собственному рецепту.
— Мама, все будет хорошо, — попытался успокоить ее я.
— Нет, — ответила Люси. — Мне, конечно, приятно, что сыновья делают вид, что еще верят в мою способность выкарабкаться. Мне казалось, что я буду больше бояться. Нет, временами меня действительно охватывает невыносимый ужас. Но в основном я испытываю чувство величайшего облегчения и смирения. Я ощущаю себя частью чего-то бескрайнего. Вот и сейчас я смотрю на луну. Взгляни на нее, Джек! Сегодня уже практически полнолуние, и я всегда знала, что делает луна и в какой она фазе, даже если специально и не думала об этом. Когда я была еще девочкой, то считала, что луна, как и я, родилась в горах. Джек, я уже почти не помню лица своей мамы. Она была доброй женщиной, но обреченной на страдания. Однажды она показала нам с братом полную луну. И сказала, что там, на луне, есть человек, и если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть мужское лицо. Правда, сама она его ни разу не видела. Ее мать когда-то говорила ей, что на луне женщина, которую способны увидеть лишь немногие. Для этого необходимо обладать огромным терпением, потому что женщина та стесняется своей красоты. У лунной леди сверкающий нимб волос и прекрасный профиль. Она видна, только если посмотреть сбоку, и так же прекрасна, как женщины на камеях, что продаются в ювелирном магазине в Ашвилле. И увидеть лунную леди можно только в полнолуние. Она не каждому показывается. Но, однажды увидев ее, уже никогда не будешь думать, что на луне мужчина.
— Почему ты никогда не рассказывала нам эту историю? — спросил я.
— Я только сейчас ее вспомнила. Воспоминания прошлого накатывают на меня, словно поток. У меня нет над ними власти. Мой бедный мозг торопится подумать обо всем, прежде чем наступит конец. Он сейчас совсем как музей, который покупает любые предложенные ему картины. И я не могу справиться с этим потоком.
— Звучит довольно мило, — грустно улыбнулся я.
— Джек, ты должен мне помочь.
— Буду только рад, мама. Если смогу, конечно.
— Поскольку я еще не умерла, то не знаю, как это правильно сделать, — произнесла Люси. — Я понимаю, что сказать доктору Питтсу, так как он видит меня сквозь любовный туман и не знает меня настоящую. Но с вами, мальчики, все по-другому. Я провела вас через такие испытания, что вам пришлось труднее, чем должно было быть. Тогда я не понимала, как вы страдаете из-за моего невежества. Ребенком я видела много страшного, а потому решила, что главное, чтобы вы были сыты и тепло одеты. О психологии я тогда и понятия не имела. Мне было уже за сорок, когда я узнала об этом слове на букву «пэ». Психология для меня была еще одним животным в лесу, о котором мне не рассказывали. Я могла выследить оленя, я ходила с собаками на медведя или поджидала пуму у логова. Но как поставить ловушку на психологию, на то, чего ты не знаешь и не можешь увидеть! Я вырастила пятерых красивых мальчиков, которые, похоже, несчастливы, так как в нашей семье явно была какая-то червоточина. Все, без исключения, злились на меня. Но ошибки мои были вызваны стремлением пройтись по лезвию ножа. Я училась на ходу. И все время ошибалась.
— Ты все делала замечательно, мама.
— Я хочу поблагодарить тебя еще кое за что, — прошептала она.
— Меня не за что благодарить.
— Я не поблагодарила тебя за то, что ты научил меня читать, — сказала Люси.
— А я и понятия не имел об этом, — удивился я.
— Когда ты ходил в первый класс, то заставлял меня слушать все то, чему вас учили в школе. Ты усаживал меня рядом с собой, пока выполнял домашнее задание.
— Все дети так делают, — заметил я.
— «Смотри, как бежит Спот. Беги, Спот. Беги. Беги», — вспомнила она.
— Сюжет был не слишком удачный.
— Я жила в постоянном страхе, что кто-нибудь узнает, — произнесла Люси. — Джек, ты был так терпелив со мной. А мне было так неудобно, что я даже не поблагодарила тебя.
— Для меня это было в радость, мама. Как и все, что мы делали вместе.
— Почему тогда все так злятся? — спросила она.
— Потому что мы отказываемся верить, что ты умрешь. Нас выводит из себя одна только мысль об этом.
— Джек, я могу как-то помочь? — поинтересовалась Люси.
— Не делай этого. Оставайся здесь. Сойди с этого поезда, — ответил я.
— Этот поезд останавливается для каждого, — выдохнула мама.
— Джинни Пени вот уже двадцать лет умирает, — заметил я. — И все еще с нами.
— Эту девчонку и палкой не прибьешь, — улыбнулась Люси. — Господи, мы с Джинни Пени так бодались… У нас были баталии, которые устрашили бы даже генерала Ли и генерала Гранта! А вы с Шайлой часто ссорились?
— Нет, не часто, мама, — сказал я. — Мы всегда знали, кто о чем думает. Она во многом была похожа на меня. А ты тоже считаешь, что Шайла могла покончить с собой из-за того, что была несчастлива в браке?
— Конечно же нет! Вы были без ума друг от друга. Шайла еще девочкой слышала голоса, которые в результате и доконали ее. Джон Хардин слышит те же голоса. Это такие люди… Они словно певчие птички, которые не могут летать вместе с воронами и скворцами. Стоит этим прекрасным птичкам запеть, воронье нападает на них стаями и заклевывает насмерть. Чтобы выжить, нельзя быть мягким. Природа не терпит кротости и доброты. У Шайлы была незаживающая рана, и рана эта возникла уже очень давно. Ты не пускал ее на мост так долго, как мог, сынок.
— Думаешь, они с Джоном Хардином похожи?
— Одного поля ягода. Оба исполнены любви и сгибаются под ее невыносимой тяжестью. Лучше всего у них получается падать. Они чувствуют себя здесь лишними. Любовь переполняет их, делает невозможным существование в этом грешном мире. Они хотят получать столько же любви, сколько и отдают. Люди разочаровывают их. И в результате они умирают от холода. Они не могут найти своего ангела-хранителя.
— Я тоже холодный человек, мама, — произнес я. — Есть во мне что-то такое, что замораживает любого, кто пытается ко мне приблизиться. У меня были женщины, которые чуть было не окоченели после проведенных со мной выходных. Но я не хочу, чтобы так было. Я даже сам не понимаю, что происходит, и ничего не могу с собой поделать. Я вот и Ли говорил, что необходимо учить, как надо любить. Мне кажется, любовь следует разделить на части, пронумеровать и озаглавить, чтобы было легче осваивать эту премудрость. Думаю, мама, меня этому не учили. Возможно, и вас с отцом тоже. Все постоянно говорят о любви. Словно о погоде. Но как научить ей такого человека, как я?! Как открыть все трубы и задвижки где-то глубоко в душе? Если бы я смог это сделать, то всех одарил бы своей любовью. Никого не обделил бы. Однако этому танцу меня не учили. Никто не разбил его на отдельные фигуры. В моей душе течет глубокая бескрайняя река, которая дает о себе знать, только когда никого нет рядом. Но поскольку река эта еще не открыта, я не могу организовать туда экспедицию. А потому любовь моя принимает странные, причудливые формы. Моя любовь превращается в нечто вроде шарады. Это чувство не приносит мне утешения и не облегчает боли.
— А как же Ли? Ты обожаешь Ли. Все это знают. Особенно девочка.
— Но я не уверен, что она это чувствует. И является ли мое обожание той любовью, о которой так много говорят? Опасность будет подстерегать ее тогда, когда она попытается подарить мужчине любовь, которой нет в реальной жизни. И если что-то пойдет не так, ее дети пострадают от того же притворства. Но за исключением Ли, я не знаю, как дарить любовь. Мама, я не знаю, что это такое. Не знаю, как ее почувствовать, как она выглядит и где ее искать.
— Об этом не стоит слишком беспокоиться. Здесь от тебя ничего не зависит. Не отвергай любовь, и тогда рано или поздно она найдет свой путь.
— Ко мне она что-то не торопится.
— Люби, как умеешь, Джек. Не думаю, что ты мастер говорить на данную тему. У нас, девочек, это лучше получается. Как только ты начинаешь рассуждать, то тут же пугаешься и становишься косноязычным.
— Да, — согласился я. — Я не могу выразить то, что чувствую. Но о любви думаю постоянно. Почему нет точного определения этого понятия? Девять или десять слов, с помощью которых все можно было бы суммировать, повторять снова и снова до тех пор, пока все не встанет на свои места.
— Ты хочешь научить этому Ли? — прошептала Люси. — Я правильно поняла?
— Да. Но у меня не получается. Нет ключа к разгадке, — признался я.
— Сынок, здесь не нужны слова. Скажи ей, что любовь — это когда человек убирает рвоту с ночной рубашки и постельного белья матери, отмывает больничный пол от следов поноса. Когда этот человек пролетает пять тысяч миль, услышав о болезни матери. Скажи ей, что любовь — это найти психически нездорового брата на реке Эдисто и привести его обратно, не причинив ему зла. Любовь — это когда сын-подросток бессчетное число раз приводит домой пьяного отца. Скажи Ли, что любовь — это воспитывать одному маленькую девочку. Джек, любовь — это поступок. Это не громкие слова. Думаешь, все мои врачи и медсестры не поймут, что ты любишь меня, когда увидят, что ты сделал сегодня ночью? Думаешь, я этого не понимаю, Джек?
— Мне нравится все делать по правилам, — отозвался я. — Когда передо мной стоит конкретная задача.
— Следующие несколько недель хлопот у тебя будет полон рот, — заявила Люси. — Времени в обрез, Джек. Рак уже затронул все органы.
— А вера в Бога помогает?
— Черт! — воскликнула она. — Можешь мне поверить, только это и помогает.
Мы рассмеялись, и я устроил ее поудобнее на подушках, чтобы мы вместе могли полюбоваться рассветом.
— Слава богу, ночь кончается, — вздохнул я.
— В этот уик-энд я возвращаюсь домой, — заявила Люси. — Нет, нет. Даже и не пытайся меня отговорить. Они здесь, что могли, уже сделали. Если надо будет, найму медсестер. Я хочу умереть под шум океана. И чтобы все мои мальчики были рядом. Все, Джек.
— Джону Хардину придется немного побыть в больнице, — сообщил я. — Сейчас он самый знаменитый сумасшедший в штате.
— Джон Хардин не сумасшедший, — сказала Люси, глядя на светлеющее небо на востоке. — Он просто мамин мальчик. Он считал, что если меня спрятать получше, то смерть не сможет меня найти.
— Да, если бы все было так просто… — бросил я.
— А может, все действительно так, — задумчиво произнесла Люси. — Вы, мальчики, не даете моей смерти ни единого шанса.
Итак, мама вернулась на остров Орион, чтобы прожить там отпущенное ей время. Мы всегда знали, что Люси — человек сложный и непредсказуемый, но даже и не представляли, сколько в ней отваги, пока она не приступила к последнему делу в своей жизни — к умиранию. Каждый день она учила нас, как умереть красиво. В дом на берегу тек нескончаемый поток друзей, которые приходили попрощаться с ней и, к своему величайшему удивлению, обнаруживали, что здесь царит радость. Люси, конечно, страдала от своего происхождения, но, узнав со временем все секреты местных дам, которые Юг помогал покрыть им сладкой глазурью, очаровывала гостей своей живостью. Мама поняла, что умение быть любезным — основная идея всех когда-либо созданных книг по этикету и основное неписаное правило поведения.
Десятого октября надо было открыть последнюю черепашью кладку, и Люси настояла на том, чтобы присутствовать при этом событии. В Южной Каролине уже установилась прохладная погода, но утки и гуси еще не сделали остановку в нашей южной глубинке по пути на восток. Мы все так же ходили дважды в день купаться, и Люси нравилось сидеть на веранде, держа за руку доктора Питтса, и смотреть, как я захожу в воду с Ли на плечах, а Даллас заплывает за волнорез.
Более сотни людей пришли полюбоваться, как выпускают черепашек. С нашей помощью Люси дошла до металлической сетки, ограждающей кладку, которую перенесли еще в августе. В этом сезоне добровольные помощники Люси обеспечили контроль за сорок одной кладкой. И таким образом, четыре тысячи шестьсот тридцать три черепашки благополучно добрались до воды.
Остановившись перед последней кладкой, Люси спросила у Ли:
— Сколько яиц сюда переместили?
Ли раскрыла записную книжку и громко прочитала:
— Сто двадцать одно яйцо, бабуля.
— Кто нашел это гнездо?
— Бетти Соболь, бабуля.
— А-а, Бетти, — протянула Люси. — Я попросила Бетти в следующем году взять на себя эту программу. Думаю, самое время, чтобы кто-то другой начал заботиться о черепахах. Я же предпочитаю спать со своим импозантным мужем, а не шляться по берегу ни свет ни заря.
После передачи полномочий Бетти Соболь зрители разразились короткими аплодисментами, но быстро успокоились, понимая всю трагичность положения Люси.
— Никто не против, чтобы Ли вынула черепашек из этой кладки? Я и сама это могла бы, но мне слегка нездоровится. Сделаешь это еще раз, девочка?
— Я просто создана для такой работы, бабуля, — ответила Ли и, встав на колени, под пристальными взглядами собравшихся принялась открывать кладку.
Сначала Ли раскапывала песок очень осторожно. Потом улыбнулась и, бросив взгляд на Люси, вынула сопротивляющуюся крошечную черную черепашку. Толпа радостно загудела, когда Ли протянула черепашку своей бабушке. Люси внимательно осмотрела детеныша и положила в ведро с песком. В следующий заход Ли вынула сразу трех новорожденных черепах. Треск яиц в кладке напоминал стук игральных костей, катающихся по сукну. Закончив работу, Ли собрала всю скорлупу и засыпала ее песком.
— Ли, возьми одну скорлупку себе на память, — распорядилась Люси. — А теперь отнеси черепашек к воде и выпусти их в двадцати ярдах от линии прибоя. Пусть оставят следы на песке нашего острова.
— Бабуля, давай выпустим всех сразу, — сказала Ли и вместе с Люси медленно пошла в сторону моря, а толпа расступилась, чтобы дать им дорогу.
Люси пришлось напрячь все свои силы, чтобы дойти, но остановить ее было невозможно, и тогда Ти принес ей шезлонг, чтобы она могла сесть в том месте, откуда черепашки начнут свой медленный и многотрудный переход до океана. А пока только слышно было, как они царапают стенки ведра.
Люси подала Ли сломанную клюшку для гольфа, и Ли стала чертить на песке большой полукруг — линию, через которую зрителям запретили переступать. Внутри этого полукруга была свободная зона для новорожденных черепах. Люди на берегу наступали на черту, кто босыми ногами, кто вьетнамками, но никто не осмелился пересечь ее.
Люси кивнула внучке, та осторожно положила ведро на песок — и детеныши черепах начали свой путь от родной земли к морю. И сразу, ведомые инстинктом, они торопливо пошлепали к переливающейся воде. Двигались они, конечно, весьма комично, но очень решительно и целеустремленно. Такой неистовый марш-бросок черепахи совершали испокон веков. Сейчас черепашкам не угрожала ни армия енотов, ни стая чаек, ни танковый батальон крабов-привидений, только и ждущих, чтобы отрезать малышей от воды. Черепашек шумно приветствовали зрители, приехавшие, чтобы проследить за их благополучным отплытием с острова Орион.
Первая черепашка оторвалась от соперников ярдов на пять и, добравшись до мокрого песка, попала прямо под удар волны, опрокинувшей ее на спину. Черепашка тут же выправилась, и когда ее подхватила новая волна, она уже вовсю плыла. И вот так каждая черепашка кувыркалась после первой волны, но, поймав вторую, уже начинала плыть — очень красиво, экономя каждое движение. Одна черепашка, правда, все же погибла: ее схватил за шею и тут же утащил в норку в песке краб-привидение. Я обратил внимание на то, что Люси заметила эту встречу охотника с жертвой, но ничего не сказала. Краб просто оставался верен себе, не испытывая особой враждебности по отношению к черепахе.
Панцири черепах, похожие на блестящий эбонит, засверкали в волнах на фоне белоснежной пены. Одна черепашка, растерявшись, развернулась и направилась было к кладке, но Ли схватила ее и подтолкнула в нужную сторону. Ли вопросительно посмотрела на бабушку, и та одобрительно ей кивнула. Когда все черепахи благополучно добрались до воды, мы пошли за ними по мелководью, с интересом наблюдая за тем, как из волн периодически показываются маленькие, похожие на змеиные головки.
С юга после дневной охоты прилетела голодная чайка, чтобы обследовать этот участок побережья, и толпа дружно охнула, когда птица, как белье на веревке, повисла над водой, нырнула и взмыла в воздух с черепашкой в клюве. Она откусила черепашке голову, а тельце бросила обратно в море.
— Ненавижу чаек, — сказала Ли.
— Напрасно, — ответила Люси. — Они свое дело туго знают. Просто ты очень любишь черепах.
Всю следующую неделю я готовил сказочную еду для желающих попрощаться с матерью. Люди приходили сотнями, и мы были до глубины души тронуты тем, что жизнь Люси не осталась незамеченной в городе. Мы, ее дети, знали о некоторых странностях Люси, но знали и о ее безграничной доброте. Весь тот уксус, который вырабатывался ее невыносимым характером, она маскировала медовыми сотами, разложенными на подоконниках и крылечках ее публичного «я». Приходили суровые лидеры негритянского движения, чтобы дать ей понять, что уважают невероятную смелость жены «негритянского судьи». В ту неделю я узнал, что у матери талант к верным жестам. За свою жизнь она тысячу раз делала то, что ей не следовало бы, только потому, что ей так хотелось. Она щедро и в то же время незаметно и естественно дарила людям счастливые минуты.
Люси не могла есть ничего из того, что я готовил для нее, однако хвасталась направо и налево, что все ее друзья в восторге от моей стряпни и, если верить их словам, никогда так вкусно не ели, даже когда ездили в Атланту посмотреть на игру «Атланта брейвз». Ни один человек не уходил из дома Люси голодным, а я оставался на своем командном посту на кухне, поскольку был не в силах справиться с собственной беспомощностью. Я никак не мог смириться с тем фактом, что в скором времени мне предстоит остаться без матери, и это заставляло меня по-новому взглянуть на Ли, которая была сейчас за хозяйку и встречала гостей на пороге, просила их расписаться в книге для посетителей. Ли сообщила мне, что в данный момент для нее важнее не школа, а возможность помочь бабушке достойно уйти из жизни, и я был просто поражен, откуда в такой маленькой девочке столько мудрости.
Как-то раз, уже поздно вечером, доктор Питтс поднял телефонную трубку в гостиной и набрал номер. Мы услышали его слова: «Здравствуйте, судья» — и из разговора поняли, что доктор пригласил моего отца. Доктор Питтс, который до сих пор чувствовал себя неловко в нашей шумной компании, недвусмысленно намекнул нам, что в ближайшие дни ему понадобится наша помощь.
И дни эти наступили очень быстро. Я уже смирился с самим фактом неизбежной смерти мамы, но оказался совершенно неподготовленным к ужасным подробностям, а еще к тому, чего потребует от меня смерть. Я наблюдал за тем, как мама постепенно превращается в незнакомого человека, в женщину, лишенную свойственных ей энергии и живости, в хозяйку, не способную подняться, чтобы приветствовать гостей. Глаза ее потускнели от приема болеутоляющих, и она частенько просила Ли прилечь рядом с ней, но засыпала, даже не услышав ответа Ли. Кровеносная система Люси окончательно ее предала и стала так же опасна для ее здоровья, как если бы это была урановая смолка. Люси угасала прямо на глазах. Все ранее невидимые, медленные процессы постепенно выходили на поверхность и набирали обороты. Затем болезнь, словно сорвавшись с цепи, помчалась галопом.
Время от времени по вечерам ей вроде бы становилось чуть-чуть лучше, однако такое случалось крайне редко. Мы толпились вокруг нее, и нам отчаянно хотелось хоть что-то сделать, например совершить героический поступок в обмен на жизнь матери. Наш источник света потихоньку угасал. Все мы вышли из этого тела, которое теперь убивало ее. Мы наливали друг другу выпить, льнули друг к другу, а по ночам, задыхаясь от клаустрофобии смерти, уходили на берег, чтобы поплакать. Я думал, что мать нуждалась в уходе и ласковых руках скорее дочери, чем грубоватых, импульсивных сыновей, готовых по первой просьбе передвинуть холодильник или покрасить гараж, но не более того. Мы оказались просто бесполезной, путающейся под ногами кучкой мужчин, особенно на фоне приветливых и расторопных медсестер. Нам хотелось держать мать в дружных сыновних объятиях, передавать ее из рук в руки, но мы стеснялись прикосновений, были неопытны в проявлении физической привязанности и очень боялись сделать матери больно, поскольку она уже стремительно увядала, о чем яснее всяких слов говорила ее кожа, ставшая похожей на пергамент.
Однажды Люси почувствовала себя лучше, и настроение в доме сразу поднялось, совсем как прилив, очищающий соленые болота после суровой зимы. В то утро, когда я принес Люси завтрак, к которому, как я понимал, она даже не притронется, Ли сидела возле Люси и та учила ее накладывать макияж. Ли уже кое-как накрасила помадой и собственные губы, и губы Люси, причем вторая попытка оказалась несколько удачнее. Я поставил поднос и стал смотреть, как мать передает моей дочери секреты макияжа.
— Закрой глаза, когда будешь накладывать тени. Потом чуть-чуть приоткрой. Надо, чтобы тени легли ровно. Вот так. Хорошо. Теперь перейдем к духам. Помни, когда дело касается духов, то чем меньше, тем лучше. Скунс есть скунс именно потому, что не знает меры. Оставляю тебе свою косметику и духи. Я хочу, чтобы ты меня вспоминала каждый раз, как будешь ими пользоваться. Давай-ка наложим заново основу. Ну, что скажешь?
— Давай, — кивнула Ли. — Если, конечно, ты еще не устала.
— Ли еще слишком мала, чтобы делать макияж, — сказал я, повторяя слова матери в Риме, и неожиданно почувствовал себя ханжой.
— Возможно, — согласилась Люси. — Но не настолько, чтобы не научиться его накладывать. Меня же не будет рядом, чтобы открыть ей все премудрости этого дела. Я полная невежда во многих областях, но я, можно сказать, Леонардо да Винчи в том, что касается косметики. Ли, это часть того, что ты должна унаследовать от меня. И сейчас, солнышко, ты это наследство получаешь.
Тем же утром я услышал, как Ли чистым музыкальным голоском читает Люси детскую книжку. Итальянский все же тайком прокрадывался в английское произношение Ли, и мне это нравилось. Я уселся и стал слушать «Паутину Шарлоты». Я сам так часто читал Ли эту книжку, что вслед за дочкой мог повторить все слово в слово.
— В детстве мне никто не рассказывал сказок на ночь. Под них так приятно засыпать, — улыбнулась мне Люси.
— Бабуля, а почему родители не читали тебе? — поинтересовалась Ли.
— Они не умели читать, дорогая, — ответила Люси. — Я тоже не умела, пока твой папочка не научил меня. Он тебе об этом рассказывал?
— Это же был наш секрет, мама, — удивился я.
— Но разве Ли не приятно узнать такое о своем отце? Он был не просто моим сыном. Он был и моим учителем, — произнесла Люси и тут же заснула.
В тот вечер из монастыря приехал отец Джуд, а Дюпри забрал Джона Хардина из больницы. Джон Хардин вошел в дом, где в вазах увядали цветы, а в комнатах пахло свежим морским воздухом, как раз тогда, когда из спальни Люси выходили Эсфирь с Великим Евреем и Сайлас с Джинни Пени. Ледар смешивала взрослым напитки, а я наготовил столько пасты «карбонара», что ею вполне можно было накормить целую команду регбистов. В гостевой спальне Джуд готовился к последним таинствам. Всю неделю он соблюдал пост и молился за сестру. Его веру невозможно было пошатнуть, так как он твердо знал, что для Бога, проплакавшего весь этот ужасный век, грехи Люси были совсем незначительными. Аббатство Мепкин усердно накапливало молитвы за спасение ее души. Она должна была войти в рай, поднявшись вверх с летного поля похвалы, с прекрасными рекомендациями и чрезвычайно хорошими отзывами, которые получила от небольшого отряда безгрешных людей, посвятивших себя служению Господу.
Отец Джуд служил мессу, причем, по просьбе Люси на латыни, а мы с Дюпри ему помогали. Французские окна распахнули настежь, и морской воздух ворвался в комнату, словно еще один участник таинства. Люси попросила своего брата помолиться и за всех ее черепах, которые плыли сейчас по направлению к задрапированным бурыми водорослями водам Саргассова моря. После того как мама причастилась, мы, ее сыновья, склонив головы, положили на язык гостию, и я стал молиться за нее со всей страстью, на которую был способен. Слезы застилали мне глаза, вставая на пути молитв. И молитвы мои не устремлялись вверх, к вершинам мира, как дым от костра, нет, насквозь пропитанные моими слезами, они пустились в свободное плавание. Воздух в доме был соленым на вкус, и такими же солеными были лица друзей и родственников, целовавших меня.
Поздно вечером Люси попросила позвать к себе только нас с братьями. Мы пошли не слишком охотно, словно за нами послал начальник пожарной команды. И вот каждый из нас получил последнюю повестку в суд. Какая чудовищная несправедливость! Мне казалось, что только сейчас, когда мы собрались, исполненные душевной боли, чтобы попрощаться с мамой, я начал жить по-настоящему.
Ти неожиданно застыл на пороге комнаты Люси, не в силах заставить себя войти.
— Я не могу, — всхлипнул он. — Ноги не идут.
Но потом он все же собрался, перестал плакать и вошел в комнату вслед за нами. К этому времени все мы были донельзя измотаны, так как теперь знали, что умирание — это не просто поднять руки вверх и сдаться на милость вечной ночи, а тяжкий труд. Только сделав над собой огромное усилие, мы смогли посмотреть на маму. Поскольку ее организм перестал сопротивляться инфекции, губы и десны у нее были повреждены. Она отдала смерти все, что та могла унести, но сильное, непокорное тело Люси все еще испытывалось на прочность. Некогда розовая кожа пожелтела, под глазами образовались черные круги. Неподвижность уже начала потихоньку подкрадываться к умирающей, но мы все еще ждали, что она скажет. Даллас поднес ей стакан воды, и она сморщилась от боли, сделав глоток. Когда Даллас поставил стакан на стол, на нем остались следы крови.
Люси попыталась было заговорить, но ее прервал Джон Хардин, которого нервировала мрачная атмосфера:
— Мама, ты не поверишь, что произошло! Пришел доктор и сказал: «К завтрашнему утру Люси будет как новенькая». Док смеялся и говорил, что сделал дополнительные анализы. Он выяснил, что это была вовсе не лейкемия. Он разнес ко всем чертям твой диагноз. Это всего лишь простуда, в худшем случае — псориаз. И на следующей неделе ты уже будешь играть в гольф. Ну что же вы, парни? Улыбнитесь!
— Я сделал большую ошибку, когда привез его сюда, — пожав плечами, произнес Дюпри.
— Тсс! — прошептала Люси. — Мне нужно вам кое-что сказать.
Мы притихли, и в комнате слышно было лишь, как океан беседует с ночью, периодически обрушивая на берег волны.
— Мальчики, я сделала для вас все, что могла, — сказала она. — Жаль, что так мало. Вам следовало родиться во дворце королевы.
— Мы там и родились, — еле слышно проронил Дюпри.
— И это чистая правда, черт возьми! — поддержал брата Даллас.
— Тсс! — повторила Люси, и нам пришлось наклониться, чтобы услышать ее. — Я должна была больше вас любить и меньше в вас нуждаться. Вы — это единственное, что досталось мне бесплатно.
— Мама, мама, мама! — зарыдал Джон Хардин, упав возле нее на колени.
И это слово, наше первое слово, произнесенное по-английски, было последним, что слышала Люси, прежде чем впасть в кому. В ту ночь мама ускользнула от меня и больше уже не вернулась.
Люси умирала сорок часов, и мы ни на секунду ее не покидали. Врачи и сестры приходили и уходили, проверяли жизненные функции организма, устраивали ее поудобнее. Дыхание Люси стало затрудненным, хриплым и прерывистым. Это был какой-то резкий, можно сказать, гидравлический звук, но сейчас он мне казался единственным звуком на земле.
Все последние часы мы целовали ее, говорили, как сильно ее любим. Потом я начал читать вслух детские книжки Ли. В детстве Люси была лишена сказок, а потому в последний день я решил наверстать упущенное и стал читать ей книжки, которых у нее никогда не было. Я читал ей о Винни Пухе и черепахе Йертл, уводил с собой в страну, в которой «живут чудовища», знакомил маму с Кроликом Питером и Алисой в Стране чудес. Каждый из нас по очереди читал ей сказки братьев Гримм, а потом Ли настояла на том, чтобы я рассказал Люси о Великой Собаке Чиппи — все те истории, что я придумал во время вынужденной ссылки в Риме.
Я рассказывал маме любимые истории Ли о Великой Собаке Чиппи, и если сперва братья посмеивались, то потом рассказы эти задели их за живое. Ли садилась на колени то к одному, то к другому дяде, и я подумал, как хорошо иметь полный набор обожающих тебя родственников, чтобы было из кого выбирать.
Потом, за час до смерти Люси, я рассказал последнюю историю о замечательной собаке, которой не стало еще до того, как Ти и Джон Хардин успели познакомиться с ней поближе.
— В прелестном доме, на прелестном острове, в прелестном штате Южная Каролина жила-была женщина по имени Люси, которая готовилась отправиться в свое последнее путешествие. Она уже привела в порядок дела и со всеми попрощалась. Поцеловав в последний раз свою внучку Ли, она научила ее делать маникюр и накладывать макияж. Сыновья собрались вокруг нее, и она сумела для каждого найти нужные слова, чтобы они вспоминали о ней с нежностью. И хотя ее любимым сыном, между прочим, был Джек, в момент расставания она была одинаково мила со всеми.
Тут даже Джон Хардин не выдержал и добродушно рассмеялся.
— Умирала она долго, потому что слишком любила землю, и свой город, и свою семью. Но когда она наконец ушла, то, к своему удивлению, вылетела из собственного тела и поднялась над домом и океаном. Освободившись от бренной оболочки, она посмотрела сверху на луну и звезды и на Млечный Путь и почувствовала, что у нее выросли крылья и что она прекрасна в своем парении. Затем она подлетела к месту, о котором много слышала. Это была цветочная поляна в окружении гор, красивее Голубого хребта и выше Альп. Люси почувствовала себя здесь даже лучше, чем в Уотерфорде. Она знала об этом месте, но забыла, как оно называется. Люси услышала над собой громоподобный голос. Она догадалась, что это глас Божий. Голос был суровым, но очень красивым. Она ждала Божьего суда без страха, но с нетерпением. Ее внучка Ли наложила ей макияж перед долгой дорогой домой, и Люси знала, что она предстанет во всеоружии своей красоты перед лицом Создателя. Но позади нее прозвучал другой голос, и голос этот страшно ее напугал. Люси обернулась и увидела Дьявола и армию демонов, которые шли к ней по поляне, чтобы предъявить на нее свои права. Дьявол был какого-то бурого цвета, совершенно отвратительный, и он пританцовывал за спиной у Люси, обдавая ее своим горячим дыханием.
«Она моя. Я претендую на нее, чтобы утащить в свое подземное царство. Она честно заслужила свою порцию адского пламени. Тебе с ней нечего делать, и я заявляю, что она моя», — заревел Дьявол.
«Осади назад, Дьявол! — раздался голос Бога. — Это Люси Макколл из Уотерфорда. На эту женщину у тебя нет никаких прав. И хотя ты претендуешь на каждую душу, что сюда попадает, на эту ты прав не имеешь».
«И все же, Господь Всемогущий, я предъявляю на нее свои права. На земле она много страдала, а потому привыкла к боли. Боль — это то, что она знает лучше всего. Без страданий ей будет неуютно».
И хотя Люси отчаянно сопротивлялась, она чувствовала, как рука Дьявола сжимает ей горло. И как Люси ни пыталась, она не могла выдавить из себя ни единого слова, а ее уже тащили по поляне. Люси уже было подумала, что обречена вечно гореть в аду, как вдруг услышала какой-то звук…
— Я знаю, что она услышала! — взвизгнула Ли.
— И что же? — заинтересовались ее дяди.
— Она услышала: «Грр…»
— А кто издавал этот звук? — спросил Даллас.
— Это Великая Собака Чиппи, — объяснила Ли. — Успела в последний момент. Чиппи спасет бабушку. Даже если Бог не сможет. Правда, папочка?
— Белоснежные клыки Великой Собаки Чиппи были похожи на волчьи. Она оскалилась и, как черная пантера, бросилась на Дьявола. Все демоны в испуге попятились, но только не Дьявол. Однако Чиппи еще никогда не кидалась на врага с такой яростью. Ее глаза светились желтым огнем, и было видно, она собралась убивать. Чиппи пригнулась и приготовилась прыгнуть на врага рода человеческого. Собака пришла на выручку женщине, которая подобрала ее на улице, привела в дом, полный детей, накормила ее, расчесала ей шерсть и полюбила ее той любовью, в которой так нуждаются все собаки.
«Ха! — засмеялся Дьявол. — Думаешь, я испугаюсь какой-то собаки?!»
Это он обращался к Богу, по-прежнему не отпуская Люси.
«Нет, собак можно не бояться, — ответил Бог. — За исключением этой».
«С чего это вдруг? Что в ней особенного?»
«Потому что собаку эту послал Я. Она исполняет Мою волю», — ответил Бог.
И тогда Князь тьмы отпустил Люси и вернулся в свой огненный дом. Люси встала на колени и поцеловала Великую Собаку Чиппи, а та радостно облизала ее в ответ. Затем Чиппи повела Люси по цветущему лугу к свету.
В ту ночь Люси умерла в окружении своих детей. Когда на следующее утро владелец похоронного бюро пришел за ее телом, ночная рубашка Люси была все еще мокрой от слез ее пяти сыновей, двоих мужей, одного брата и ее внучки Ли Макколл. Мир, казалось, остановился, когда она перестала дышать, но сильный прилив уже начал свое наступление на реки и протоки, а солнце зажгло небо на горизонте, и это был первый рассвет, который не увидела Люси с тех пор, как поселилась в доме на берегу.
Весь город оплакивал Люси во время прощальной мессы. Пятеро ее сыновей и ее бывший муж, судья, несли к церкви красивый полированный гроб, собственноручно сделанный ее сыном Джоном Хардином. День был серым и хмурым, и доктор Питтс плакал в течение всей службы, так же как плакали Даллас, Дюпри, Ти, Джон Хардин, мой отец и я. Никто не сумел сдержать слезы. Любовь Люси всех нас связала договором и уравняла в правах, а ее нежность сочилась из нас. Она оставила нас на коленях, беспомощными и с раненой душой. На кладбище, во время похорон, мы с братьями говорили с ней, словно она могла нас слышать. Из моей жизни навсегда ушло слово «мама», и это было невыносимо.
Приняв соболезнования всего города, собравшегося в доме на острове Орион, устав от скорби и исчерпав все силы улыбаться, я надел плавки и вместе с Ли отправился к океану. Вода была теплой и шелковистой, и когда Ли прыгала с моих плеч, ее волосы блестели, совсем как тюленья шкура. Я был не в состоянии говорить, но получал утешение и несказанное удовольствие от физического усилия, необходимого для преодоления океанских волн и прилива. Ли уже плавала, как выдра, забрасывала сеть для ловли креветок не хуже меня и демонстрировала слалом на водных лыжах, как Ледар. В общем, за это время она стала настоящей местной девчонкой.
— Посмотри, папа! — воскликнула Ли. — Нас зовет Ледар.
С берега, все еще в черном траурном платье и с жемчугом на шее, но уже босиком, махала нам рукой Ледар, и мы поплыли к ней.
Выбравшись на песок, мы увидели, что Ледар держит что-то в руке.
— Бетти Соболь только что принесла. Кто-то нашел ее на поле для гольфа. Бетти думает, что она потерялась уже много дней назад.
Ледар раскрыла ладонь, и там оказалась крошечная черепашка, причем абсолютно белая. Я впервые в жизни видел черепаху-альбиноса.
— Бетти думает, что, скорее всего, она умерла. И просит, чтобы вы с Ли отнесли ее на глубину. Бетти считает, что даже если она жива, то с приливом ей не справиться.
Я положил черепашку на ладонь, точно карманные часы.
— Никаких признаков жизни, — констатировал я.
— Папочка, давай отнесем ее на глубину, — попросила Ли. — Заплывем как можно дальше.
Посадив Ли на плечи, я пошел вперед, преодолевая обрушивающиеся на меня волны. Я протянул Ли черепашку и велел держать ее над головой, подальше от волн.
— Ли, даже мертвая она может стать звеном пищевой цепи.
— Как здорово, папочка! Стать звеном пищевой цепи.
Двигаться навстречу волнам было невероятно трудно, но, когда мы оказались уже за волнорезом, Ли подала мне безжизненную черепашку. Напоследок проверив ее, я погрузил детеныша в теплые атлантические воды. Через несколько минут черепашка вздрогнула, потом зашевелила всеми четырьмя конечностями — жизненная сила природных инстинктов пронизала каждую клеточку ее тела.
— Она жива! — крикнул я Ли и выпустил черепашку на поверхность моря.
Мы с Ли плыли по-собачьи рядом, а альбиноска, похоже уже совсем освоившись в воде, быстро скрылась из виду. Потом в шести футах от себя мы заметили крохотную белую головку. Мы следовали за ней, пока дно не ушло у меня из-под ног. Потом мы повернули к берегу, где нас ждала Ледар.
Назад: Глава тридцать восьмая
Дальше: Эпилог

