Глава тридцать третья
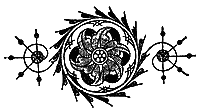
В первый день июня позвонила Люси и спросила, не могу ли я ее навестить, но только один. Голос матери встревожил меня, вызвав нехорошее предчувствие плохих новостей. Когда я приехал, она сказала, что накануне ночью проснулась в темноте и почувствовала слабое, едва заметное изменение в своем теле, словно еле слышный скрежет цилиндров в комбинационном замке. Люси всегда умела читать сигналы, посылаемые ее телом, и всякий раз знала, что беременна, еще задолго до того, как врачи подтверждали ее интуитивные ощущения. Прошлой ночью, лежа, вся мокрая от пота, она поняла, что чуть было не убившие ее белые клетки вернулись. Лейкемия вновь заявила о себе, сказала Люси, и на сей раз решила поселиться в ее организме навсегда.
Мне и раньше приходилось видеть, как плачет мама, но я еще ни разу не видел, чтобы она рыдала из-за того, что может умереть. Она выполняла все предписания врача, и все же ей вынесли смертный приговор. Не думаю, что ее слезы были вызваны жалостью к себе, хотя именно это сначала промелькнуло у меня в голове, когда я сидел подле нее, как немой свидетель. А она все плакала и плакала, и я мало-помалу начал понимать. Ты плачешь из-за того, что теряешь такой прекрасный мир и все те роли, которые уже больше не сможешь сыграть. Темнота обретает другой смысл. Твое тело начинает готовить тебя к завершению жизненного цикла, к спокойствию и великодушию тишины. Я вглядывался в лицо матери, которая пыталась представить мир без Люси Питтс. Поначалу у нее не хватало воображения, но слезы проложили ей дорожку. Сейчас, в сердце родного дома, Люси призвала на помощь всю свою фантазию. И вот, плача на моих глазах, она делала первый шаг к тому, чтобы умереть правильно.
Будь я хорошим сыном, то обязательно обнял бы и утешил бы мать. Но я всегда стеснялся, когда дело касалось интимных прикосновений. Я хотел было дотронуться до ее плеча, но, почувствовав тепло ее тела, тут же отдернул руку. Печаль, казалось, делала Люси еще более опасной, наэлектризовывала ее. Но стоявший за всем этим древний инстинкт говорил ей, что уже пора сделать последнюю ставку — уйти навсегда. Я снова потянулся к матери, однако моя рука так и не смогла преодолеть внезапно увеличившееся между нами расстояние. И, несмотря на утреннюю жару, я вдруг почувствовал, что сердце будто покрылось ледяной коркой. Словно окаменев, я тщетно пытался найти слова утешения. Я знал, что мне следовало бы прижать мать к груди, но меня точно парализовало, а в голову лезли посторонние мысли. Вот так я потерял самые драгоценные, самые важные моменты своей жизни. Я не мог прикоснуться к матери, мысленно не нарисовав картины удушения, когда не хватает воздуха и ты погружаешься в пучину ужаса. Если другие мужчины успокаивались в объятиях любимых женщин, то я представлял себе, как вокруг меня обвивается питон, представлял себе, как это страшно, когда знаешь, что вот-вот задохнешься.
Мы сидели на веранде, прислушиваясь к волнам, одна за другой накатывающим на берег, и Люси еще раз повторила, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Она решила привести в порядок дела, сказать всю правду, которую доселе не решалась открыть, объяснить нам, своим детям, что не бросила нас на произвол судьбы в тот день, когда мы родились, хотя, как она прекрасно знала, мы были уверены в обратном. Мы были несправедливы к ней и, проведя тайное голосование за ее спиной, обвинили ее в том, что она была нашим палачом, хотя палачом очень нежным. Пытаясь оградить своих детей от тех ужасов, что сама испытала в детстве, она не подготовила нас к страданиям обычной жизни. Она лгала нам о том, кто она такая и откуда пришла, потому что хотела, чтобы мы имели все сразу, поскольку мир с самого начала был к ней безжалостен. Наша мама считала, что неистовая любовь была ее самой главной, самой неотъемлемой и одновременно самой пугающей чертой, а потому Люси изо всех сил старалась держать это чувство при себе и теперь, под конец жизни, хотела, чтобы я знал: своих сыновей она любила так сильно, что даже становилось страшно. И чтобы скрыть страх, Люси любила нас тайно, придав этой любви эксцентричную форму контрразведки со своими паролями и секретностью. Она покрыла свое чувство шипами, окружила колючей проволокой и заминировала все ведущие к нему розовые сады. А дети снова и снова бежали к ней, раскрыв объятия, по этим заминированным полям. Если бы она знала, что любовь надо заслужить, что за нее надо бороться, то обязательно поделилась бы с нами этими знаниями.
И только тогда, когда рак стал пожирать ее жизнь, Люси вспомнила ту маленькую девочку, какой она давным-давно была. Эта девочка воспринимала любовь как беду, как несчастье. Любовь должна была переступить через порог горящего дома, где ее отец умер в языках пламени, раздутого ее матерью. Любви пришлось на цыпочках пройти под телом безутешной матери, повесившейся на опорах железнодорожного моста. Какой же была эта любовь, если руки у нее все больше и больше обагрялись кровью?! Я чувствовал, как мать пыталась объяснить мне все это, как судорожно, по мере того как сплеталась нить времени, старалась найти нужные слова, но слов этих не находилось, и я слышал только шум прибоя. Мать тяжело дышала. Пришла пора навести порядок в доме, и Люси, пока жива, постарается устранить причиненный ущерб. Этот обет она дала в то утро, когда осознала, что лейкемия вернулась обратно и поселилась в ее теле уже на правах хозяйки.
К нам присоединился доктор Питтс, и я понял, что мать уже успела сообщить ему новость. Он подошел к Люси, опрятно одетый, свежевыбритый, благоухающий одеколоном, и поднял ее с кресла, а она бессильно повисла на его руках. Доктор Питтс крепко держал мою мать и что-то шептал ей, и я вдруг ощутил спокойную силу этого человека. Уютно устроившись в его объятиях, мать постепенно успокаивалась просто потому, что этот человек раскрылся перед ней. Ни один мужчина в моей семье не был способен выполнить столь жизненно важную и в то же время простую функцию. Мать спрятала лицо у него на груди, и я отвернулся, почувствовав себя непрошеным свидетелем горько-сладкого интимного момента.
— Джек, думаю, нам надо отменить званый вечер в честь Люси, — сказал доктор Питтс. — Надеюсь, ты сам все объяснишь братьям.
— Нет! — воскликнула мать, высвобождаясь из его объятий. — Это мой праздник. И он обязательно состоится.
— Они хотели отметить твою ремиссию, — напомнил жене доктор Питтс.
— Никто не должен знать, что ремиссия закончилась, — отрезала Люси. — Пусть это станет нашей тайной. Ты вовсе не обязан обо всем докладывать братьям. Правда, сынок?
— Не обязан, — согласился я.
— Я куплю в Атланте самое красивое платье, — улыбнулась Люси, чмокнув доктора Питтса в щеку, и потом, к моему ужасу, добавила: — В нем меня и похороните.
Итак, мы с братьями стали планировать званый вечер, который должен был состояться в День труда и на котором мы должны были объявить всему миру, что ремиссия Люси продолжается уже больше года. И пока мы делили между собой обязанности, меня почему-то утешал тот факт, что никто из братьев еще не в курсе, что белые клетки опять пошли в наступление. Кровообращение Люси пугало нас своим коварством, и хотя мы знали статистику смертности от этого заболевания и воспринимали это как на интеллектуальном, так и на примитивном уровне, мы никогда не зацикливались на том факте, что наша мать может умереть, что однажды она может нас покинуть. Поскольку Люси родила нас, будучи совсем юной, мы воспринимали ее скорее как старшую сестру и подругу. Чем старше мы становились, тем больше удивляла нас сложность ее характера, и мы никогда не смогли бы описать свою мать двумя-тремя гладкими, затертыми фразами. Если бы мы вынуждены были это сделать, то в результате, без сомнения, получили бы описания пяти различных женщин из разных широт — нет, из разных солнечных систем. Люси гордилась своей загадочностью, неуловимостью и тем, что ее создала ночь. Она заплакала, когда мы рассказали ей о званом вечере, который готовим в ее честь. Если братья восприняли эти слезы как слезы благодарности, то я, со своей стороны, прекрасно знал: плачет она оттого, что сыновья яростно отрицают тот факт, что она умирает. Майк Хесс предложил устроить праздник в своем плантаторском доме, сказав, что напитки за ним. Даллас, Дюпри, Ти и я целую неделю закупали еду. Мы представляли себе день исступленных восторгов, торжество в честь победы Люси над тем, что победить невозможно.
Потом из больницы позвонил доктор Пейтон, чтобы сообщить результаты последних анализов крови, и подтвердил, что ремиссия у Люси закончилась. Он сказал, что ей буквально завтра необходимо начать курс химиотерапии.
— Ни за что, мой милый доктор, — заявила Люси. — Хватит с меня химии. Она принесла мне больше страданий, чем лейкемия. Мои мальчики готовят для меня званый вечер, и я ни за что на свете не пропущу его.
— Вам решать. Но пока вы будете есть жареных креветок, белые клетки откроют сезон охоты.
— Я прочитала о своем типе лейкемии в учебниках по медицине своего мужа. Так вот там сказано, что мой рак особенно коварен и у меня нет ни единого шанса, пройду я курс химиотерапии или нет.
— Люси, шанс есть всегда, — ответил молодой врач.
— Тогда тот же шанс никуда не денется и после званого вечера, — отрезала Люси. — Мои мальчики планировали его все лето.
— Почему эта вечеринка так важна для вас?
— Потому что это будет мой последний званый вечер на этой доброй земле. И я собираюсь насладиться каждой его минутой. Пожалуйста, приходите. Мои мальчики знают, как накормить прорву народу.
Предложение провести грандиозный, незабываемый праздник в честь мамы выдвинул Ти. Сначала он отнесся к этой мысли как к чему-то абстрактному, но потом привлек нас к работе над деталями, чтобы воплотить ее в жизнь.
— В этом проекте я генератор идей, — сказал нам Ти. — А ваше дело, парни, помогать и покупать трубочки для коктейлей.
— Сколько людей хочет пригласить генератор идей? — поинтересовался Даллас.
— Чем больше, тем лучше.
Мы сказали Люси, что она сможет пригласить столько гостей, сколько пожелает, и она поймала нас на слове. Сердце ее смягчилось даже по отношению к врагам, и глаза затуманились, когда она объяснила, что давно перестала общаться с некоторыми уотерфордскими дамами. Ей было жаль всех, кто не пожелал с ней знаться, когда она набралась храбрости и дала судье пинка под зад. Она стала более жесткой версией прежней Люси, которая каждый божий день только и делала, что прикрывала все безобразия, творимые судьей: его попойки и дебоширства. Какая несправедливость, что ее жизнь подходит к концу именно сейчас, когда она все уладила и выбралась на прямую дорогу. Она была довольна, что мы все же настояли на своем, и ее тронуло, что так много людей собирались прийти.
В один из дней последней недели августа мы с братьями поднялись ни свет ни заря и отправились ловить рыбу для праздничного ужина. Ти и Дюпри вышли на лодке на озеро Молтри и поймали окуня, который в этих холодных глубоких водах вырастает до огромных размеров. Сайлас Макколл и Макс Русофф, которым было уже далеко за восемьдесят, приобрели лицензию и неделю охотились на креветок. Они собственноручно обезглавили креветок и заморозили их в контейнерах с морской водой. Подготовка продуктов для вечеринки в честь Люси стала чем-то вроде торжественной церемонии. Только на нас с доктором Питтсом тяжким грузом давило страшное знание того, что рак вскоре сотрет все краски жизни с розового лица Люси. Мы знали, что она уже начала высыхать изнутри.
В вечер перед праздником Люси провела нас к специальной площадке напротив ее пляжного домика. Здесь, на острове Орион, за проволочным ограждением находились перезахороненные ею и отмеченные колышками черепашьи яйца, которые самки черепах начали откладывать в теплый неподвижный песок 15 мая. В то лето эрозия была на редкость сильной, поскольку свирепые ветры пожирали берег. Четыре кладки смыло водой, и тогда Люси проинформировала Департамент дикой природы штата Южная Каролина о том, что собирается проигнорировать их распоряжение оставить кладки на своем месте. Вид черепашьих яиц, пропитанных морской водой, растерзанных крабами и морскими птицами, действовал на Люси угнетающе. В то лето вместе с помощниками она вынула из тридцати семи кладок две тысячи семьдесят четыре яйца и поместила их в устроенные ею ясли, за которыми наблюдала прямо с переднего крыльца.
Инкубационный период в горячем песке составлял два месяца, но и здесь Люси не считала нужным соблюдать предписания властей. Согласно распоряжению департамента, если кто-то получил разрешение на перемещение кладки морской черепахи (коего Люси, естественно, не получила), он не имел права трогать перемещенную кладку. Департамент поддерживал Дарвина в том, что законы естественного отбора превыше всего и им надлежит позволить проводить в жизнь суровые обеты этого самого отбора, когда черепашки вылупятся из яиц и, покинув место кладки, побегут к морю.
На своем веку Люси повидала слишком много потерь в рядах детенышей — потерь, которые она считала ненужными и вполне устранимыми. Однажды она нашла в норке краба-привидения десять крошечных черепашек, набитых там, как сельди в бочке, еще живых и беспомощных, замерших в ожидании, когда краб решит съесть их на обед. Люси видела, как среди черепах шныряют еноты, вступая в единоборство с чайками, которые, пикируя с неба, налетают на малышей, откусывают маленькие головки и бросают панцири на мелководье. Люси также не раз становилась свидетелем того, как черепашки с трудом добирались до воды — и все лишь для того, чтобы их схватили проворные голубые крабы, сидящие в засаде в пене прибоя, или их сожрали мелкие акулы, притаившиеся там, где поглубже.
И хотя Люси ничего не могла поделать с морскими врагами черепашек, она разработала план, который, по крайней мере, давал черепашкам возможность добраться до воды. Каждый раз, перемещая кладку черепахи, Люси Питтс нарушала закон Южной Каролины. Но зато почти каждая вылупившаяся черепашка, которая находилась под защитой Люси, узнавала вкус морской воды перед тем, как отправиться в Саргассово море.
В канун званого вечера мать вышла из дома на закате, держа за руку Ли, а мы с братьями выстроились в шеренгу за ними. Мать несла ведро и большую раковину, чтобы раскапывать кладки. Бетти и Эл Соболь, главные помощники Люси, уже поджидали ее вместе с обычными группами туристов и их перевозбужденными детьми. После гольфа программа спасения черепах стала для туристов главным аттракционом на острове. Люси создала целый свод правил поведения, требуя от туристов строгой дисциплины и не разрешая им заходить за проведенную ею демаркационную линию.
— Кладка готова? — спросила Люси у Бетти Соболь.
— Смотри сама, — ответила Бетти. — Они вот-вот появятся.
Люси подождала, пока мы соберемся вокруг нее, а туристы встанут в пределах слышимости. Она со всей серьезностью относилась к взятой на себя роли учителя и не допускала никакого легкомыслия, когда дело касалось ее черепах.
Люси внесла в программу спасения черепах то же чувство стиля, что и в рассказ об истории любви Шермана к Элизабет во время Весеннего тура по домам плантатаров. То, что она говорила, нельзя было найти ни в одной брошюре, но в ее голосе чувствовалась неподдельная искренность, которая дорогого стоила. Когда-то, еще до того, как остров Орион начал активно осваиваться, сотни морских черепах выбрали его местом для откладывания яиц. Это характерно для многих видов животных на Земле, подвергающихся истреблению — медленному, но верному, когда человек отравляет и замусоривает все то, что любит больше всего. Люси указала на кладку, которую предстояло вскрыть в этот вечер, и обратила внимание детей на мягкую борозду в песке, означавшую, что черепашки разбили скорлупу и начали прокладывать дорогу наверх. Как объяснила Люси, люди вмешаются в этот процесс, с тем чтобы дать возможность животным пережить опасное путешествие, ожидающее их впереди. Дети дружно охнули, узнав, что только одна черепаха из всей кладки сможет прожить достаточно долго, чтобы вернуться на этот берег и отложить там яйца.
— Многих из нас уже не будет в живых, когда эта черепаха вернется, — сообщила Люси. — И я хочу, чтобы вы, дети, пообещали мне каждое лето приезжать сюда. Вы должны помочь черепахам и дальше выживать. Обещайте мне. Поднимите руки.
Рука Ли первой взметнулась вверх, примеру моей дочери последовал каждый ребенок, стоявший навытяжку в этом псевдовоенном полукруге. Люси кивнула в знак одобрения такого единодушия, опустилась на колени и осмотрела контуры кладки, которую собиралась разрыть.
— Дорогая, сегодня тебе придется копать руками, — сказала она Ли, и дочка начала выбирать ладошками песок с самой глубокой точки перевернутой буквы V.
Когда она уже вынимала четвертую пригоршню, то увидела, что у нее на ладони извивается маленькая черепашка.
— Считай очень точно, — предупредила Люси внучку. — В этой кладке было сто девятнадцать яиц.
Люси взяла первую черепашку, проверила, не остался ли желток на ее брюшке, и положила детеныша в ведро.
— Одна, — сообщила Ли, но тут же извлекла еще двух черепашек и, словно орущих младенцев, передала бабушке.
Люси внимательно следила за тем, чтобы на черепахах не было желтка, так как в противном случае они непременно утонут. Маленькая светловолосая девочка, вырвавшись из рук матери, попросила у Люси разрешения подержать одну черепашку.
— Как тебя зовут, солнышко? — поинтересовалась Люси, положив животное на ладонь малышки.
— Рашель, — ответила девочка.
— Положи черепашку в ведро. Назовем ее Рашель.
— Она моя? — уточнила девочка.
— Это твоя черепаха, — подтвердила Люси. — Твоя навсегда.
В тот вечер Ли достала девяносто шесть маленьких черепашек, уже готовых совершить путешествие к морю, но у двадцати трех на брюшках еще оставался желток, который они должны будут впитать в себя, прежде чем попробуют дойти до Атлантики. Ли закопала черепах в том же самом месте, откуда и выкопала. Разровняла песок ладонью и накрыла проволочной сеткой, чтобы защитить черепашек от набегов енотов.
Толпа проследовала за Люси и Ли до кромки воды, находившейся в пятидесяти ярдах от кладки. Черенком сломанной бейсбольной биты Люси начертила на песке большой полукруг, приказав зрителям не заходить за черту. Туристы, расположившись вдоль этой линии, внимательно следили за тем, как Ли перевернула ведро и девяносто шесть черепашек вывалились на песок, сделав первые отчаянные усилия доползти до моря. Начался прилив, и крошечные черепашки, размером с серебряный доллар и цветом нечищеных военных ботинок, выставленных как попало, внезапно ожили, причем каждая из них, похоже, почувствовала ответственность за собственную судьбу. Толпа встретила их радостными криками, подгоняя черепашек, а те, в свою очередь, неуверенно, но упорно ползли вперед, к ревущей воде. Одна черепашка значительно опередила других, оставив их далеко позади, но все они двигались в одном направлении.
— Откуда они знают дорогу к океану? — спросила молодая мамаша.
— Ученые говорят, они ориентируются по свету, — объяснила Люси.
— А что вы думаете? — не отставала женщина.
— Это южнокаролинские черепахи, и они похожи на моих сыновей, — сказала Люси и улыбнулась нам. — Думаю, они слышат волны. Думаю, им просто нравится пляжная музыка.
Когда первая черепашка ударилась о первую волну, она перевернулась на спину, но быстро выправилась. Она почувствовала, что находится в родной стихии, и, преодолев вторую волну, уже поплыла. Инстинкт вел этих крошечных созданий к морю, так как топография и запах морского берега были навеки отпечатаны в их только что сформировавшемся примитивном мозге. Если они сумели в первый раз добраться до океана, то потом можно взять их с собой хоть на Марс или оставить в Венецианском заливе, они все равно вернутся откладывать яйца на остров Орион. Инстинкт дома у них просто феноменальный.
Когда все черепахи добрались до воды, я увидел ликование на лице Люси. Она не отрываясь смотрела, как эти крошечные существа, преодолевая песчаную полосу, выходят к воде. Люси следила за тем, как время от времени над поверхностью волнующегося океана появляются маленькие змеиные головки: детенышам необходимо было глотнуть воздуха и продолжить свое полное опасности, но знаменательное путешествие. Люси откровенно наслаждалась, и она заслужила эту радость, которой могла поделиться с незнакомцами.
— Ли, — сказала Люси, взяв внучку за руку, — каждый раз при виде этого я думаю, что снова нашла Бога.
Тут к Люси подошла молодая рыжеволосая мать.
— Это ведь противозаконно. Недавно я прочла статью, где говорилось, что человек не должен вмешиваться в природу, — заявила женщина.
— Тогда получается, что природа хочет, чтобы черепахи вымерли, — ответила Люси.
— Что ж, на все воля Божья, — вздохнула женщина.
— Может, и так. Только я, черт возьми, ни за что с этим не соглашусь, — отрезала Люси.
— Вы что же, идете против Божьей воли? — спросила женщина с золотым крестиком на шее.
— Мы с вами уже который раз сталкиваемся по этому поводу. Но вы вот уже третью ночь подряд приходите посмотреть на освобождение черепах.
— Нет, в четвертый, — поправила ее рыжеволосая женщина, бросив взгляд в сторону домов.
— Оставайтесь до Дня труда, — пригласил женщину Джон Хардин. — Мы даем большую вечеринку в честь матери. Приглашены все.
— Я здесь надолго не задержусь, — сказала женщина, и Люси увидела, как в ее зрачках отразились вращающиеся синие огоньки. — На самом деле мне уже сейчас пора уезжать.
— Вам не следовало вызывать копов, — заметила Люси. — Я всего лишь даю черепахам шанс выжить.
— Вы нарушаете закон, — повторила женщина. — У меня диплом биолога. Вы вмешиваетесь в естественные процессы.
— Леди, это вы натравили копов на мою маму? — перегородил дорогу рыжеволосой Джон Хардин.
— Убей ее, Джон Хардин, — посоветовал Ти.
— Заткнись, Ти! — бросил Дюпри, встав между Джоном Хардином и женщиной. — Успокойтесь. Ведь все можно объяснить.
— Леди, у моей матери лейкемия, — сказал Джон Хардин, гнев которого усиливался по мере приближения полицейской машины. — Вы что, думаете, тюрьма поможет ей бороться с раком?
— Никто не должен ставить себя выше закона, — произнесла женщина.
— Даллас, какой срок мне дадут, если я убью эту бабу? — спросил Джон Хардин.
Туристы начали перешептываться, одна женщина даже крикнула, чтобы полиция поторопилась.
— Это не будет считаться предумышленным убийством, — сообщил Даллас. — Ты разозлился, потому что эта дама арестовала твою умирающую от рака маму. Полагаю, тебе дадут три года и выпустят раньше срока за хорошее поведение.
— Солнышко, мои мальчики — большие проказники, — успокоила Люси испуганную женщину.
— Я ведь полжизни провел в психушке в Колумбии, — во всеуслышание сообщил Джон Хардин. — Суд, безусловно, сжалится над бедным шизофреником.
— Кончай трепаться, Джон Хардин. А ты, Даллас, прекрати его подначивать. Успокойтесь, мои хорошие. Отправляйтесь домой и приготовьте себе что-нибудь выпить, — приказала Люси, предупреждающе помахав пальцем, так как к нам направлялся шериф вместе с молодой женщиной, работающей в Департаменте дикой природы.
— Мой дорогой шериф, — улыбнулась Люси. — Что вы делаете здесь в такую чудную ночь, когда браконьеры убивают оленей, хотя сезон охоты уже закончился, а хорошие мальчики спокойно перегородили все ручьи сетями для ловли креветок?
— Люси, на вас поступила жалоба, — сказал шериф Литлджон.
— У меня уже целый ящик жалоб на Люси, — добавила Джейн из Департамента дикой природы. — Но Люси считает, что для нее закон не писан.
— Если вы такие умные, объясните, почему черепахи могут кому-то угрожать, — хмыкнула Люси.
— Мама, поскольку я формально твой адвокат, то советую тебе помолчать, — вмешался Даллас.
— Мамочка, неужели они собираются арестовать хранительницу черепах? — всхлипнула какая-то девочка.
— Я делаю одну и ту же работу вот уже много лет. Одну и ту же, черт побери! — воскликнула Люси.
— Люси, у меня предписание на ваш арест, — произнес шериф Литлджон.
— Послушайте, шериф. Мама больна. Она не может провести ночь в тюрьме, — не выдержал я.
— Литлджон, мы ведь с тобой вместе ходили в школу, — сказал Дюпри. — Ты тогда еще завалил английский.
— Я получил за него D, — обиделся Литлджон.
— У кого-нибудь есть с собой монтировка? — обратился к толпе Джон Хардин. — Я хочу сделать из этой рыжей наживку для крабов.
— Вы слышали, шериф?! — возмутилась женщина. — Он угрожал мне в присутствии представителя закона.
— У него в голове голосов больше, чем в телевизоре, — ответил шериф. — Не обращайте внимания.
— Так какой закон был нарушен, шериф? — поинтересовался Даллас.
— Нельзя трогать кладку черепахи, — ответил шериф.
— Она помогает им добраться до океана. Это против правил, — встряла Джейн.
— Сегодня моя мать не дотрагивалась до кладки, — заявил я. — У вас полный берег свидетелей. Кладку раскопали мы с дочерью. Разве не так?
Толпа согласно загудела.
— Тогда я с удовольствием арестую тебя, Джек.
— Но всем руководила она, — не унималась рыжеволосая. — Она определенно здесь застрельщик.
— Надень на меня наручники, Литлджон, — сказала Люси, рисуясь перед толпой. — Мои фотографии будут на первой полосе всех газет штата.
За спиной шерифа громкий мужской голос, звенящий от ярости, произнес:
— Литлджон, оставьте мою жену в покое!
Это был доктор Джим Питтс собственной персоной, который спустился с крыльца посмотреть, что происходит.
— Когда мы приехали на этот остров, местные жители пускали черепашьи яйца на блины и вафли. Люси все это изменила.
— Эй, живо расходитесь по домам! — крикнул шериф зевакам.
Но народ не желал расходиться. Зрители, наоборот, сбились в кучу и возбужденно ждали, чем закончится инцидент.
— Она всем пожертвует ради этих проклятых черепах, — твердо сказал доктор Питтс. — Всем.
— Мы и не говорим, что раньше она плохо делала свое дело, — заявила Джейн.
— Это я выкопала всех этих черепах, шериф, — сообщила Ли. — Я положила их в ведро и отнесла поближе к воде. — Бабушка здесь ни при чем.
— Чистая правда, — зашумела толпа.
— Мама, если кто-нибудь тебя хоть пальцем тронет, я убью его голыми руками! — взвыл Джон Хардин, вклиниваясь между матерью и шерифом.
— Люси, в ордере на арест стоит ваше имя, — не сдавался шериф Литлджон.
— Отправьте меня в тюрьму, — сказала Люси. — Даллас, ты пойдешь со мной и вытащишь меня оттуда.
— Доверять паршивому адвокату в этой стране?! — заблажил Джон Хардин. — После Уотергейта я не доверю этим ублюдкам даже прочитать номер телефона в мужском туалете!
— Заткнись, Джон Хардин, — бросил Дюпри. — Похоже, ты хочешь, чтобы тебе сделали укол.
— Дюпри, человек всего-навсего высказывает свое мнение. А вот тебе точно не помешал бы хлорпромазин.
Шериф Литлджон положил конец дискуссии, одним экономным движением надев на Люси наручники, чем привел всех в изумление. Люси шагнула к патрульной машине, при этом шериф крепко держал ее за локоть. Но затем Люси внезапно нарушила процедуру ареста, потеряв сознание и упав лицом в песок. Доктор Питтс подскочил к жене и приподнял ей голову, а Джон Хардин тем временем набросился на рыжеволосую женщину и повалил на землю. Братья стали оттаскивать Джона Хардина, но он съездил Ти по губам и заехал Далласу ногой прямо по гениталиям, а толпа так громко шумела, что кто-то, сидевший у себя на веранде, высоко над берегом, пошел в дом и вызвал охрану острова Орион. Когда шериф произвел выстрел в воздух, дабы утихомирить толпу, доктор Питтс громогласно потребовал, чтобы люди расступились и дали Люси побольше воздуха. Шериф Литлджон, тяжело вздохнув, нагнулся и расстегнул наручники. Люси выглядела хрупкой, как раковина, выброшенная на берег штормом. У доктора Питтса по щекам текли слезы, но то были слезы ярости, а не горя. Он пытался что-то сказать, но, задыхаясь от гнева, только невнятно бормотал над бесчувственным телом жены. И я в который раз подумал, что этот незнакомец, женившийся на моей матери, любит ее так, как мы и представить себе не могли.
— В Уотерфорде, куда ни глянь, изнасилования, убийства, грабежи, наркотики, нанесение увечий! — заорал Ти. — А доблестный шериф графства бесстрашно арестовывает нашу мать — больную лейкемией любительницу окружающей среды. Хорошая работа, Литлджон, ты, самый тупоголовый неудачник двадцатого века!
Толпа мало-помалу меняла очертания, тая, словно мягкая вечерняя дымка, а луна уже потихоньку высовывала голову из-за горизонта на востоке. Опустившись на колени, я взял мать на руки и направился к дому. Доктор Питтс, который так и не обрел дара речи, последовал за нами. Даллас с Ли на плечах замыкал шествие.
Как только мы оказались дома, доктор Питтс дал волю своим чувствам, а я тем временем отнес маму в спальню. Люси потихоньку пришла в себя и даже смогла, перед тем как уснуть, сделать глоток воды и надеть ночную рубашку.
— Мальчики, мне надо вам кое-что сказать, — начал доктор Питтс, налив себе полный стакан виски. — Я знаю, что вы любите свою мать, и я знаю, что она любит вас. Но вы убьете ее быстрее, если не будете себя контролировать. Вам необходимо научиться стать частью комнаты, не занимая все ее пространство. Вам необходимо научиться быть на сцене, не занимая собой всю сцену. Чтобы привлечь к себе внимание Люси, вам нет необходимости тужиться и стараться быть самыми забавными, самыми дикими, самыми сумасшедшими, самыми странными и самыми шумными людьми на земле. Она любит вас всех. Но вы, мальчики, слишком уж беспокойные. Я настоятельно прошу не превращать каждую ерундовую вещь в событие. У вас, парни, нет чувства меры. Учитесь расслабляться. Сначала думать, а потом делать. Смотреть на вещи спокойно и не торопясь. Неужели вы, Макколлы, не способны это сделать? Почему каждый свой день вы превращаете в сцену из Апокалипсиса, показанную по домашнему видео? Вашей матери просто необходимо отдохнуть от всего этого. Ей необходим покой. Завтра вы даете в ее честь званый вечер, причем приглашен весь город. Буквально весь. Я еще не встретил ни одного человека, которого не пригласили бы. Белые, черные… Приглашен весь Уотерфорд, хотя половину из этих людей Люси даже не знает. Все начинается с события, потом становится спектаклем и наконец — буффонадой. От вас слишком много шума и суеты. Вам нравится все то, что плохо для Люси. Вы ее убиваете. Вы, мальчики, убиваете человека, которому даже «до свидания» не в силах сказать…
— Я согласен с доктором Питтсом, — кивнул Джон Хардин. — Вы, парни, подонки. Вас и близко нельзя подпускать к маме.
— Джон Хардин, почему бы тебе не создать колонку «Дорогая Абби» для психов? — спросил Дюпри.
— Из всех братьев у тебя были самые плохие оценки, — огрызнулся Джон Хардин. — Единственное, на что ты способен, — запирать людей в психушке.
— А что тут плохого, — отозвался Дюпри. — Мне приходится проводить все свое время рядом с такими замечательными парнями, как ты.
— Какой же ты низкий тип! Неудачник с садистскими наклонностями! — вскинулся Джон Хардин. — Издеваешься над больными людьми.
— Эй вы, двое! Вы пугаете Ли, — вмешался Даллас. — Джек приучил ее к тому, что жизнь — это сплошные плюшевые мишки, бесплатная пицца и фотографии зубной феи. Он сделал ей прививку от ужаса быть Макколлом.
— От вас просто уши вянут! — не выдержал доктор Питтс. — Вы только и делаете, что себя накручиваете. Вы когда-нибудь заткнетесь?! Вы способны, в конце-то концов, закрыть свой рот и дать моей бедной жене спокойно уснуть?
— Может, нам отменить вечеринку? — спросил у доктора Ти.
— Ваша мать навсегда перестанет со мной разговаривать, если я отменю праздник, — бросил доктор Питтс и, поднявшись, направился в свою спальню. — Мальчики, помогите мне сделать так, чтобы все прошло спокойно. Пожалуйста, я вас очень прошу.
— Эй, док! — окликнул его Дюпри. — Спасибо вам за то, что любите нашу маму. Это очень мило с вашей стороны, и мы это очень ценим.
— У нее была тяжелая жизнь, — сказал я. — Причем без малейшей передышки. Но мама говорит, что вы — лучшее, что с ней когда-либо случалось.
На следующее утро Люси проснулась отдохнувшей и энергичной, причем предстоящий званый вечер она иронически называла «Последним ужином». Она надела красивое платье, купленное в Атланте в универмаге «Сакс — Пятая авеню», и широкополую шляпу, приобретенную в бутике на виа дель Корсо в Риме, лицо матери светилось естественной красотой, которой одарили ее горы Северной Каролины. Люси смотрела, как доктор Питтс, суетясь вокруг нее, готовит завтрак. Его заботливость, хоть и чрезмерная и слегка слащавая, явно доставляла ей удовольствие. Губы у доктора были приятно округлены, а лицом он чем-то напоминал даму из потрепанной колоды карт, в которые мы обычно играли, когда из-за болезни оставались дома. Мне казалось, что их любовь основана на общей потребности в порядке и вежливости. В первых своих браках оба достаточно настрадались от неразберихи и грубости, а теперь, объединив свои усилия, нашли тихую гавань.
После сорока лет город Уотерфорд наконец привык к манере поведения Люси. Он знал нежную, почтительную Люси, знал также вульгарную и неуживчивую. Пятьсот жителей нашего города явились на ее «Последний ужин»: на двести человек больше, чем было приглашено. Люси никогда особо строго не придерживалась этикета, и все в Уотерфорде знали, что двери ее дома всегда открыты. А еще она всегда улыбалась на публике. Люди пришли попрощаться с ее знаменитой улыбкой.
Майк Хесс предлагал заказать угощение в ресторане, но мы настояли на том, что приготовим все сами. Как и остальные мои друзья, он влюбился в Люси задолго до того, как начал заглядываться на девочек. В своем первом интервью журналу «Премьер» Майк сказал буквально следующее: он впервые узнал о том, что в маленьких городах живут богини, когда пришел на пятый день рождения к своему лучшему другу и увидел Люси Макколл. Майк проводил так много времени у нас дома не только потому, что мы с ним были очень близки, но и потому, что Люси всегда добродушно флиртовала с молоденькими мальчиками, и я это отлично знал. Люси была из тех харизматических матерей, что находили время выслушать приятелей своих детей, дать им хороший совет; тем самым она влияла — к лучшему или к худшему — на всех тех, кому посчастливилось быть рядом с ней.
Группа «Ред клэй рамблерз», обосновавшаяся на берегу реки, вот уже много часов подряд исполняла свои слащавые песни. Сенатор Эрнест Холдинге развлекал гостей на зеленой поляне, идущей от дома к воде, а его соперник — республиканец Стром Термонд — целовал ручки каждой даме в пределах видимости, а в воздухе витали ароматы праздничной еды, не слишком полезной для сосудов и очень полезной для души. Дюпри колдовал над кастрюлей с тушеным мясом по-фрогморски возле столиков для пикника, и я чувствовал, как запах свиной колбасы смешивается с запахом кукурузы и креветок, наполняя воздух ароматом полей и соленых болот. Напротив меня Даллас, одетый не по-парадному, в джинсы и рубашку, переворачивал на противнях устриц, жарящиеся на пылающих углях. Делал он это очень аккуратно, следя затем, чтобы нагревание происходило равномерно: в результате раковины сами раскрывались от внутреннего тепла, выплевывая на противень ароматный сок. Затем Даллас выкладывал раскрывшиеся раковины на накрытые газетами столы, и от обесцветившихся моллюсков шел неповторимый — чистый, чуть металлический, мускусный — запах водорослей. Ти вместе с невестками разносил тарелки с барбекю; свинина под горчичным соусом была точно нарисованный золотой лист. Возле трех открытых баров толпились говорливые гости, и к их услугам были ящики со льдом, доверху забитые пивными банками. Женщины явились во всеоружии, так как знали, что для Люси не существовало понятия «повседневная одежда», и на всякий случай оделись так, чтобы сразить всех наповал, поскольку, как ни старались, не смогли вытянуть из виновницы торжества дресс-код для приема.
Майк стоял на веранде рядом с Люси и доктором Питтсом, встречал и направлял непрерывный поток поднимавшихся по ступеням гостей, пожимал руки особо почетным из них в тени восьми ионических колонн, а затем вел вновь прибывших через весь дом к наружной лестнице, навстречу музыке и соблазнительным запахам еды. Я поручил Ли запечатлеть все на видеокамеру для истории.
— Ты у нас продюсер, директор, звукооператор и осветитель. В одном лице. Стань Феллини. Сделай нас всех знаменитыми, — сказал я дочери.
Весь вечер Ли, одетая в белое платье, бродила среди огромной добродушной толпы гостей. Она стала такой же неотъемлемой частью Уотерфорда, как и любой из нас, и каждый раз, когда она нацеливала камеру на незнакомую группу людей, кто-нибудь обязательно замечал ее, делал шаг назад и представлял ей присутствующих. И я уже неоднократно слышал, как кто-то, с кем она до сих пор не была знакома, восклицал: «Боже мой, детка, ты просто копия своей прелестной мамы! Шайла ходила с моей внучкой Бейли в балетную школу. Они были не разлей вода. На сцене Шайла была прямо как лилия! Я знаю, что говорю. Я там была».
Похоже, Ли чувствовала облегчение, что могла отгородиться камерой от затерянной страны воспоминаний, живо всплывавших в памяти людей, когда те видели ее милое личико. Каждый раз, услышав имя Шайлы, я снова и снова чувствовал холод одиночества девочки, еще в младенчестве лишившейся матери. И я был рад, что Ли могла скрыться за камерой, позволявшей ей оставаться невидимой. Видеокамеры — прекрасное средство спасения для застенчивых людей, которым негде спрятаться. За объективом они прячут тот факт, что им нечего сказать незнакомцу.
Я варил пасту в восьми кастрюлях, и мне казалось, будто перед моим мысленным взором проходит драма всей моей жизни. Миссис Липсиц, в течение всего моего детства подбиравшая мне обувь, заказала спагетти с соусом песто, при этом не переставая болтать с мистером Эдвардсом, продавшим мне мой первый костюм. Он пришел с тренером Смоллом, научившим меня подавать крученый мяч, и с тренером Синглтоном, поделившимся со мной секретами защиты на заднем поле. Синглтон стоял рядом с мисс Экономи, заставившей меня в канун Нового года спеть соло «God Rest Ye Merry Gentlemen», причем это было в тот день, когда разыгравшаяся снежная буря сломала дуб, росший со времен открытия Колумбом Америки. Среди гостей было более пятидесяти чернокожих, и я в очередной раз подумал о том, как мне повезло вырасти в семье южан, где не только не было расистов, но и прилагались титанические усилия, чтобы мы не подцепили высоковирулентный южный вирус. В те времена, когда белые жители Юга встали плечом к плечу, чтобы продемонстрировать приверженность к идеям, которые считались на Севере неприемлемыми и даже антиамериканскими, мои родители представляли собой прекрасный, но опасный пример для своего штата.
В 1956-м, когда мне только-только стукнуло восемь, мой отец, Джонсон Хэгуд Макколл, был блестящим, хотя и несдержанным юристом. Он тогда еще лишь учился пить по-настоящему, и адвокаты боялись его судейства, поскольку Джонсон Хэгуд не терпел, когда те из-за своей неподготовленности попусту тратили его время. О его словесных порках адвокатов и прокуроров слагались легенды. Сессии его суда всегда проходили идеально, и судил судья Макколл по справедливости. Хотя Джонсон Хэгуд не был ни хорошим отцом, ни любящим мужем, закон его облагораживал и выявлял такие черты его характера, которых он сам от себя не ожидал. Но тогда в Южной Каролине было не самое удачное время для того, чтобы сочетать отвагу с ударом судейского молотка.
Мой отец участвовал в выездных сессиях суда в четырнадцатом судебном округе, и по должности ему нередко приходилось уезжать из Уотерфорда. Дело, которое довело его до беды, было простым, но весьма спорным с учетом той сельской местности, где оно разбиралось. Учитель английского языка по имени Тони Калабрезе был уволен с работы за то, что открыто ратовал за десегрегацию в бесплатных средних школах. Калабрезе принял на работу школьный совет графства Риз, а графство Риз прославилось на всю Южную Каролину отсталостью своих граждан. Отец называл это графство «мировой столицей инцеста», а к его юристам относился с глубоким презрением. Тони Калабрезе признал, что защищал идею десегрегации в школах, но лишь как средство обучения и ради стимуляции общей дискуссии среди учеников, которые, как он чувствовал, были слишком косными и вообще лишены каких-либо идей. Тони не помогло даже то, что он, родившийся в Хаддонфилде, штат Нью-Джерси, в семье иммигрантов из Неаполя, был верующим католиком и ярым республиканцем.
По ходу процесса отцу стало ясно, что школьный совет уволил мистера Калабрезе в нарушение всех законов, причем ни одна из необходимых процедур не была соблюдена. Стоя на месте свидетеля, учитель не проявил ни малейшего раскаяния и горячо отстаивал собственную точку зрения. Пылая благородным гневом, мистер Калабрезе говорил, что в том классе, которым он руководит, мир идей не удастся задушить и вообще он не позволит себя запугать и не откажется от своих убеждений. Отец слушал его и думал, что дело Тони Калабрезе — хороший пример для каждого маленького городка, и мысленно аплодировал неустрашимому учителю, в то время как атмосфера в зале суда становилась все более взрывоопасной и враждебной. Отец отождествлял себя с пламенным борцом за справедливость — истцом, возбудившим дело против отсталого школьного совета.
Уже в конце судебного заседания отец спросил Калабрезе:
— Как вы попали в графство Риз, сэр?
Калабрезе, улыбнувшись, ответил:
— Новичкам везет, ваша честь.
Отец рассмеялся, но это была единственная улыбка среди мрачных лиц в зале суда. Отец вынес решение в пользу Калабрезе, восстановил его на работе с выплатой заработной платы за пропущенное время, после чего сделал ошибку, прочитав нотацию школьному совету и жителям графства Риз.
— Нельзя уволить учителя за обсуждение в классе того, о чем каждый день кричат заголовки всех наших газет. Можно не соглашаться с концепцией десегрегации, но тот, кто умеет читать, не может не видеть, что процесс этот неизбежен. Сегодня можно уволить хоть сотню Калабрезе, но завтра десегрегация непременно станет реальностью. Калабрезе просто готовил ваших детей к будущему. Его увольнение вызвано разочарованием, так как вы слишком цепляетесь за прошлое. Я несколько раз перечитывал «Браун против отдела народного образования». Это плохая публичная политика, но это хороший закон. Вы не можете уволить человека за то, что он учит конституционным правам. Десегрегация обязательно придет в Южную Каролину, с Калабрезе или без него.
В ту ночь в графстве Риз десять человек в масках явились за Тони Калабрезе и, несмотря на оказанное им сопротивление, избили его до полусмерти кулаками и топорищами. Они сожгли его автомобиль и его дом, они довезли учителя до границы с Нью-Джерси и оставили там, связанного и ослепшего на один глаз, в мешке из-под устриц. Десятерых мужчин, напавших на Калабрезе, так и не поймали, но их хорошо знали местные жители, которые свято верили, что итальяшка получил заслуженный урок в духе настоящей южной глубинки.
Вечером после суда отец председательствовал на официальном ужине с местными чиновниками и их женами, которые собрались в нашем доме, чтобы организовать фонд помощи молодому политику Эрнесту Холлингсу, намеревавшемуся баллотироваться на пост губернатора штата Южная Каролина. Новость об исчезновении Калабрезе уже дошла до Уотерфорда, и шериф предложил, чтобы наш дом неделю-другую охранял его помощник. Поскольку отец чувствовал себя в полной безопасности в родном городе, то нисколько не беспокоился. Но мать очень тревожилась и, приготовив в тот вечер ужин, проверила все подходы к дому и втайне от мужа позвонила шерифу узнать, что слышно о пропавшем учителе. Она тогда была на шестом месяце беременности — носила под сердцем моего младшего брата Джона Хардина — и считала, что интуитивно знает гораздо больше мужа об отношении сельского белого населения к вопросу о десегрегации в школах. Она отправила сыновей в постель пораньше и тщательно проверила все задвижки на окнах. В тот день мы с братьями заметили, что она разбила в раковине стаканы для желе и разложила на перилах веранды зазубренные осколки. Пока мать укрепляла оборону, отец спал. Под действием бурбона он еще больше уверился в собственной правоте и еще меньше волновался по поводу исчезновения Калабрезе.
Из-за «Джека Дэниелса» отец встретил вечер, ни о чем не беспокоясь, а из-за «Джима Кроу» Люси уложила братьев и меня в одной спальне, а для надежности оставила Чиппи охранять дверь.
Люси накрыла стол по всем правилам и теперь смотрела, как ее томные, уверенные в себе гости перетекали в столовую навстречу соблазнительным запахам жареных корнуэльских кур, дикого риса и турнепса. Она видела, как в ярком сиянии канделябров мужья Бекки Траск и Джулии Рандель выдвинули стулья и дамы элегантно уселись на них, точно бабочки на пионы.
Я проснулся, услышав, как Чиппи соскочила с моей кровати и, подбежав к окну, уставилась в темноту. Чиппи ощетинилась и глухо зарычала. Я поднялся, подошел к собаке, выглянул в окно, но ничего не увидел в ту безлунную ночь. Однако мне никак не удавалось успокоить Чиппи.
— Все нормально, Чиппи, — говорил я, но вздыбленная шерсть на спине собаки говорила обратное, и мои слова ее не убеждали.
Неожиданно внизу раздался звон разбитого стекла. В окно нижнего этажа влетел кирпич и приземлился прямо на обеденный стол. За первым кирпичом последовали другие, и я услышал вопль Бекки Траск, когда один из кирпичей угодил ей в плечо. И тут, спасаясь от дождя камней и в панике переворачивая стулья, гости рванули к выходу. Во все стороны полетели полусгоревшие свечи, и отец, прижатый к мэру города, вдруг услышал из темноты чей-то голос.
— Мы убьем тебя, судья! Мы прикончим тебя, любитель черномазых!
Затем раздался ружейный залп, в окно полетел град пуль, и я услышал женский визг и крики мужчин, призывающих к ответным действиям. Потом я услышал выстрел прямо под своим окном, и мне показалось, что кто-то с крыльца, прямо подо мной, ведет прицельный огонь.
— Они сейчас перестреляют нас всех, как собак! — заорал мэр на моего отца.
И тут снова прозвучал выстрел, теперь в сторону двора, и нападающие стали убегать, исчезая в ночи. Вдали завыла полицейская сирена, а бедная Чиппи, запертая в спальне, истерически залаяла в ответ.
Гости все еще молча лежали на полу, когда неожиданно на пороге появилась какая-то тень, а потом в неверном свете свечей возникла Люси. Она, ни слова не говоря, поставила дымившуюся винтовку на ее законное место в кладовке возле двери.
Мать понимала натуру белых жителей графства Риз лучше, чем отец, несмотря на все его ученые степени и умение тонко разрешать скрытые юридические разногласия. Люси не только приготовила ужин, но и зарядила винтовку на случай, если явятся незваные гости, чтобы причинить вред ее семье. Она стреляла с бедра, открыв входную дверь, и убила бы каждого, кого застала бы на темной веранде.
Этот инцидент был первым в череде многих других эпизодов, после которых Уотерфорд начал пересматривать свое отношение к моей матери.
В детстве мы с братьями не раз слышали рассказ о тех ночных налетчиках. Отверстия от пуль в столовой, на стенах и в каминной полке, решили не заделывать. Эти отверстия стали священным напоминанием о том, что наш отец был достаточно мужественным, чтобы иметь собственные убеждения, и ему было крайне важно отстаивать нечто, обладавшее для него высочайшей ценностью, в обществе, которое позорит себя, идя на поводу худших своих инстинктов. Они напоминали нам об отце, которым мы могли гордиться, хотя, по правде говоря, такого отца мы почти не помнили. Пули, застрявшие в трех колоннах веранды после неожиданного залпового огня из винтовки Люси, также стали уроком для нас, ее детей, уроком и предупреждением для всех, кто задумал подойти к нашему дому с недобрыми намерениями. Суд над Калабрезе стал минутой славы моего отца.
Я вспоминал о тех славных днях, глядя, как губернатор Дик Рили взял Люси за руку и под аплодисменты толпы повел ее вниз по лестнице. Неплохо для деревенской девчонки, думал я, глядя, как Стром Термонд целует маме руку, а Эрнест Холлингс пытается обогнать епископа Антеркофлера, чтобы попасть под объективы камер. Группа «Ред клэй рамблерз» запела «Tennessee Waltz», и Джо Рили, мэр Чарлстона, повел Люси танцевать, а за ними потянулись и другие пары. Ти заставил Ли отложить видеокамеру и пригласил ее на танец с «любимым дядей». К концу вечера Ли успела перетанцевать с половиной уотерфордских мужчин и даже почувствовала легкое головокружение, попытавшись соотнести калейдоскоп лиц с историей своих родителей в этом маленьком городке, двускатные крыши которого она видела через плечо своих постоянно меняющихся партнеров. И я с тайной улыбкой смотрел, как ее кружат в танце добродушные мужчины, выросшие возле этой реки и прошедшие через нашу с Шайлой жизнь.
Когда «Рамблерз» начали исполнять пляжную музыку времен моей славной юности, я положил поварской колпак среди тарелок с дымящейся пастой и выбежал из помещения, чтобы пригласить маму на танец. Песня «Green Eyes» в исполнении Джимми Рикса и «Рейвенз» перенесла меня в лето 1969 года, когда я вместе со своими лучшими друзьями мчался ночью по окаймленному кипарисами шоссе номер 17 в новой машине Кэйперса, «импале» с откидным верхом, и наша восьмерка, прикладываясь к бутылке, распевала во все горло под включенный на полную мощность радиоприемник, а в лицо нам била струя свежего воздуха, напоенного ароматом водяных лилий на черной реке Эдисто.
Мы с мамой кружились в лучах солнца под аплодисменты гостей, Ли снимала нас на камеру, а я напевал слова песни своей прекрасной партнерше. Я закрыл глаза и, прислушиваясь к ритму мелодии, представил себе, что на моем плече лежит уже не рука матери, а рука Шайлы и под ногами была уже не трава, а как много лет назад — деревянный пол дома Миддлтонов, раскачивающегося под натиском танцующих вместе с нами атлантических волн. То было время, когда наша любовь только зарождалась и нам еще предстояло достичь согласия, а смех Шайлы на фоне испуганных криков одноклассников был своего рода залогом достигнутой договоренности и обещанием, что все еще впереди. В ту ночь Шайла каждым брошенным на меня взглядом писала песню любви. Шайла разожгла огонь в моей крови — огонь, подобный тому, что Прометей украл у богов. Любовь к Шайле отличалась от чувства, что я испытывал, танцуя с мамой, и все же их роднила чистая энергия, возникшая в моей душе. Мысленно соединяя женщину, что подарила мне жизнь, и женщину, что подарила жизнь моей прелестной Ли, снимавшей нас на видеокамеру, я чувствовал священный трепет. Что может быть прекраснее, чем танец сына с матерью, первой красавицей маленького городка?! Вот о чем я думал тогда, пытаясь пойти дальше в своих размышлениях. Мне повезло, что я мог любить Люси чистой, неиспорченной любовью, потому что лицо ее было лицом моей матери и другой у меня никогда не было и не будет. Слово «мама» применимо только к одной-единственной женщине на земле, и мне вдруг стало больно оттого, что когда-то эта женщина постеснялась выразить мне свою любовь, вынудив стать беженцем. На примере Люси с ее невероятно сложным характером я понял, что матери могут являться нам в самых разных обличьях. И тут неожиданно меня кто-то похлопал по плечу, оторвав от грустных мыслей. Обернувшись, я увидел Далласа, который тоже хотел потанцевать с матерью, а за ним уже выстроились в очередь Ти и Дюпри. После, потанцевав с каждым из нас, Люси имела право осчастливить остальное мужское население Уотерфорда. Я осмотрелся по сторонам и увидел, что отец, переходя от одной группы к другой, взял на себя роль неофициального распорядителя. Сыновья не спускали с него глаз и, поделив место торжества на квадраты, руками подавали друг другу сигналы, когда отец менял дислокацию. Насмотревшись за свою жизнь на отца в состоянии опьянения и зная, какой непоправимый ущерб он может причинить своим нетрезвым вторжением, я постепенно начал понимать, почему во время войны караульных, уснувших на посту, расстреливали. На моих глазах отец погубил с десяток вечеринок не хуже этой.
Но на празднике в честь матери отец умудрялся держать себя в руках, хотя его сыновья предлагали ей вычеркнуть, от греха подальше, его имя из списка приглашенных. Но Люси лично пришла к нему в офис и собственноручно передала приглашение. Как по секрету сказала мне Люси, они тогда проговорили больше часа и судья был потрясен доверительностью разговора, который стал своеобразным подтверждением совместно прожитых лет.
— Сынок, твоя мама — просто конфетка, — произнес отец.
— Только попробуй надраться — убью, — ласково ответил ему я.
— Как я могу надраться на званом вечере собственной жены?! — воскликнул отец, исполнившись праведным негодованием.
Но он держал слово и переходил от одной группы к другой с достоинством церемониймейстера. Одетый в безупречный белый костюм, судья был само очарование и любезность, при этом он старательно обходил стороной то место, где разворачивалось основное действо и где принимали гостей Люси с доктором Питтсом.
— Какой красивый мужчина! — услышал я чьи-то слова, обращенные к Ледар, и заметил, что Ли снимает дедушку всякий раз, как тот попадает в поле ее зрения.
Когда «Ред клэй рамблерз» запели песню Берта Кемпферта «Wonderland by Night», братья посмотрели в сторону исполнителей, подумав то же, что и я: кто-то явно заслал деньги в оркестр. Под эту мелодию наши родители всегда танцевали медленный танец, и я затаил дыхание, увидев, что судья направляется к моей матери.
Он низко поклонился, и мама, стоявшая рядом с доктором Питтсом, присела в реверансе. Отец спросил у доктора разрешения пригласить на танец его красавицу жену, и тот только добродушно махнул рукой. И судья, немного позируя, легко и размашисто закружил маму в танце, ставшем его собственным прочтением обычного вальса. Гости расступились, чтобы дать им место, а я не мог заставить себя посмотреть на братьев. Целых две минуты, пока эта пара кружилась по безупречно подстриженной лужайке, я был не в состоянии говорить. Меня тронуло до глубины души то, что они так красиво и слаженно танцевали, а еще больше потрясло воспоминание о том, какой катастрофой обернулся их брак. И мне захотелось опуститься на колени перед моими родителями. Я провожал каждое их движение, понимая, что этот танец значит для них не меньше, чем для их сыновей.
Когда танец закончился, отец подвел Люси к доктору Питтсу, и мужчины обнялись под аплодисменты Люси и всех присутствующих.
Майк с Ледар подошли ко мне, и мы стояли рядом, положив руки друг другу на плечи, а «Ред клэй рамблерз» играли классическую пляжную музыку, и, когда они дошли до «Sixty Minute Man», толпа взревела.
— Моя песня, моя песня! — обрадовался Майк и, задергавшись в шимми, поманил Ледар за собой, и Ледар двинулась ему навстречу с уверенностью кошки, прикидывающей расстояние от пола до стола.
— Какая красивая женщина! — крикнул я ей.
— Чертовски справедливо, — откликнулась она. — Рада, что заметил.
— Кто пел эту песню? Эту божественную, божественную песню, которую следовало бы записать и поместить в Талмуд? — поинтересовался Майк.
— Знаю, знаю. Дайте-ка подумать, — улыбнулась Ледар.
— Это Билли Уорд и группа «Доминоз», — подсказал я.
— Обожаю Джека! — воскликнул Майк. — Прошлое для него так же свято, как и для меня. Ледар, выходи за меня замуж. Ты единственная знакомая женщина, на которой я еще не был женат.
— Майк, а я могу сделать тебя счастливым? — поинтересовалась Ледар.
— Конечно нет. Потому что я, похоже, останусь самим собой. С ясным умом и душой Майка Хесса, который никогда не угомонится. Который мотается по миру в безнадежной попытке обрести счастье, чтобы все было снова как в детстве.
— Я хочу сделать кого-нибудь счастливым, — заявила Ледар. — Готова даже приплатить за это.
— Хорошее высказывание. Вставь его в сценарий. Нет, я слишком тебя люблю, чтобы на тебе жениться. Все мои бывшие жены ненавидят меня. Все они миллионерши, живут лучше Людовика Четырнадцатого, и при этом я у них в печенках сижу. Начинают считать мои деньги, потом звонят моему бухгалтеру. Он единственный, кого мои финансы действительно волнуют. Эй, бабуля, дорогая, давай тряхнем стариной!
Тут Майк вместе с Ледар направился к Эсфирь Русофф и, не обращая внимания на ее протесты, поднял с кресла. Ледар взяла за руку Макса Русоффа, и они присоединились к танцующим.
— Ли, ты должна обязательно это заснять, — произнес я. — Ледар танцует с Великим Евреем, а Майк — с Эсфирь, женой Великого Еврея.
Я заметил Кэйперса и его молоденькую жену Бетси, которые набирали политические очки, окучивая гостей. Улыбки у них были одинаковые, словно зубы им выравнивал один ортодонт, использовавший для обоих одни и те же брекеты. Они были точно пара львов, вышедших на охоту: сосредоточенные и полные звериной грации. И так же грациозно, в тесной связке, они обрабатывали избирателей на флангах. Я заметил, что время от времени глаза их встречались, во взглядах обоих мелькала искра понимания: они как бы хвалили друг друга за хорошую работу в команде.
— Бетси, — произнес я, когда они подошли к моему столу, — скажите, ваша незащищенность — результат долгой тренировки? Или это природный дар?
Бетси сердито сверкнула на меня глазами, но она была слишком хорошо воспитана, чтобы поддаться на мою провокацию.
— Ох, Джек! Я только что о вас говорила. Очень надеюсь, вы уже купили обратный билет в Италию.
— Вы так добры, Бетси, — ухмыльнулся я. — Как жаль, что наша чудесная дружба захиреет от недостатка внимания.
— Обязательно захиреет, если это будет зависеть от меня, — ответила она.
— Вам идет, когда вы сердитесь, — сказал я. — Это меня возбуждает.
— Дорогая, не позволяй моему старому другу Джеку подначивать себя, — вмешался Кэйперс. — Вся проблема во мне.
— Меня радует такая откровенность, — произнес я.
— Слышал, моя бывшая положила на тебя глаз, Джек, — сменил тему Кэйперс.
— Надеюсь, что так.
— Тогда мы в каком-то смысле породнимся, — широко улыбнулся он.
— Конечно породнимся. Мы даже собираемся назвать в твою честь своего первенца.
— Весьма польщен, — хмыкнул Кэйперс.
— Правда, я не совсем уверен, что Энема — красивое имя. А вы, Бетси?
— Джек, Джек, — вздохнул Кэйперс. — Что за манеры!
— Прошу прощения, Бетси. Не знаю, что на меня нашло, — пожал я плечами.
— Поверить не могу, что тебе когда-то нравился этот парень, — сказала мужу Бетси.
— У вас обо мне превратное представление, — в притворном ужасе закатил я глаза. — Когда-то я походил на Младенца Христа. Но потом прочитал «Капитал».
— В жизни не видела большего засранца! — фыркнула Бетси.
— Вот и нет. Видели. В церкви. Возле алтаря. В день вашего венчания, моя сладкая, — ответил я.
Еще немножко, и Бетси, казалось, взорвется. Однако ей удалось сдержаться. Она вычислила в толпе подругу и поспешила к ней, освещая себе дорогу широкой улыбкой.
— Кэйперс, Бетси идеально тебе подходит, — заявил я. — Думаю, это худшая рекомендация, которую я кому-либо давал.
Мы оба замолчали, заметив сияющего Майка Хесса.
— Сегодня у твоей матери великий день, — произнес Майк.
Я отыскал глазами мать в толпе поклонников и старых друзей.
— Да, настоящий бал. Майк, спасибо тебе за все.
— Я всегда заглядывался на Люси, — сказал Майк Кэйперсу. — Но черт побери, кто меня за это осудит!
— Майк умеет говорить приятные вещи, — заметил я.
— Быть красивой — дело нехитрое, — бросил Кэйперс. — А вот сексапильной — целое искусство.
— Тебе ли этого не знать, Кэйперс, — ухмыльнулся Майк. — Ты у нас и красивый, и сексуальный.
— На самом деле единственная вещь, что не имеет цены, — это хороший генофонд! — рассмеялся Кэйперс и, повернувшись ко мне, поинтересовался: — Слышал насчет четверга?
Я покачал головой, а Майк поспешил объяснить:
— Я просил Ледар передать тебе, чтобы ты не занимал вечер четверга.
— А что будет? — удивился я.
— Цветомузыка, — произнес Кэйперс, бросившись в сторону приехавшего за Стромом Термондом лимузина.
— Ничего не могу сказать. Даже Кэйперс не совсем в курсе. Но будет нечто грандиозное. Возможно, это станет величайшим вечером в нашей жизни.
— Ну скажи хоть что-нибудь.
— Звонил Джордан, — ответил Майк. — Он хочет, чтобы мы еще раз собрались все вместе.
— Я думал, он в Европе, — с трудом выдавил я, потрясенный этим сообщением.
— Джек, спорим, что ты врешь, — рассмеялся Майк и добавил: — Ладно, расслабься. Джордан сам со мной связался. Мне не удалось его выследить.
— И где мы должны встретиться?
— Всему свое время. Мы пока еще на стадии переговоров. Это словно поймать Святого Духа! Но думаю, это большая победа для нашего маленького фильма. Джордан хочет очной ставки с Кэйперсом.
— А почему он связался именно с тобой? — поинтересовался я.
— Он наконец-то согласился продать мне историю своей жизни. Похоже, он решил сдаться, — объяснил мне Майк. — И если хочешь знать мое мнение, ему нужны деньги на адвоката.
— Майк, — прорычал я, схватив его за руку, — если или ты, или Кэйперс попытаетесь сделать так, чтобы Джордана арестовали, то я утоплю вас в аквариуме с лобстерами в «Харрис Титере».
— Клянусь, тут я на твоей стороне, — поспешил успокоить меня Майк. — Кэйперс не рискнет встать у меня на пути.
— Будь осторожен, — предупредил его я. — Половина присутствующих здесь были на заупокойной службе в семьдесят первом. Они все еще считают, что Джордан мертв.
— Это добрые христиане, — улыбнулся Майк, оглядывая толпу. — Версию воскресения из мертвых проглотят за милую душу.
— А кто еще там будет?
— Переговоры пока идут, — ответил Майк. — Я и так сказал тебе больше, чем следует. Так что не занимай вечер четверга.
— Не смогу. Мне надо в магазин скобяных изделий Фордхама, купить удобрения для моих африканских фиалок.
— Приходи вместе с Ледар, — невозмутимо продолжил Майк. — Подробности сообщу по телефону.
— Майк, а в Голливуде тебя никогда не посылали на хрен? — поинтересовался я.
— В Голливуде все меня страшно боятся, — беззлобно ответил Майк, просто для информации.
— Тогда увидимся в четверг, — бросил я.
— Джек, я ведь был хорошим ребенком?
— Замечательным. Лучшим в мире, — ответил я.
— Но тебе не нравится, каким я стал. Так ведь? — не унимался Майк.
— Очень не нравится.
— Джек, даже законы гравитации не могут остановить свободное падение, — произнес он с горечью. — Однажды я посмотрел на себя другими глазами. Молодой человек на взлете. Человек известный и состоявшийся. Потом мысленно прокрутил фильм о собственной жизни и пришел в ужас. Я позорю собственную мать.
— Стань лучше, Майк. Мы ведь южане. В этом много плохого, однако сердце у нас открыто для добра. Вот такие мы люди.
— А! — воскликнул Майк, внимание которого привлек «фольксваген» с открывающимся верхом шестьдесят восьмого года выпуска, когда-то ярко-желтый, а теперь выгоревший на солнце и ужасно грязный. — Посмотри, что там едет по аллее! Ты, случайно, не на этой машине ездил в колледже?
— Она по очереди переходила ко всем моим братьям. Теперь на ней ездит Джон Хардин. Он везет маме подарок, — объяснил я.
Джон Хардин лавировал на своей машине, из которой торчала какая-то накрытая одеялом мебель, между припаркованными автомобилями до тех пор, пока не подъехал к центральному столу с Люси во главе. Народу уже поубавилось, но самые близкие друзья матери остались, а бармены деловито готовили коктейли в обеих половинах дома. Ли сидела подле Люси, которая развлекала гостей за столом историями, очаровывая всех своим искрометным, но абсолютно беззлобным юмором. Ли видела, как бабушка прямо-таки завораживает аудиторию, останавливаясь на полуфразе и вопросительно поднимая одну бровь, перед тем как перейти к кульминационному моменту. Дома Ли пыталась опробовать этот способ на мне, но так и не смогла приподнять одну бровь, чтобы тут же не вздернулась и другая. Пока Ли смотрела во все глаза, натренированная бровь Люси успела нацелиться на автомобиль Джона Хардина, подъезжающий прямо к ее столу. Джон Хардин часто выводил мать из себя, но ее любовь к нему, обиженному судьбой ребенку, была безграничной. Она и сейчас старалась не показывать своего беспокойства, когда сын слишком уж цветисто приветствовал сидящих за столом. Он закончил мастерить свой подарок и приурочил это специально к ее празднику. Толпа зааплодировала, когда Люси поднялась и, взяв за руку сына, пошла к машине. Джон Хардин так волновался, что аж вспотел.
Его натуре была присуща некоторая театральность, иногда принимавшая весьма эксцентричные формы, а иногда переходившая все границы. Джон Хардин, как настоящий шоумен, заставил Люси закрыть глаза, а один из музыкантов, чтобы подчеркнуть торжественность момента, выдал барабанную дробь. Джон Хардин, продемонстрировав недюжинный вкус и любовь к театральным эффектам, медленно снимал одеяло за одеялом со своего подарка; когда осталось снять последнее, на минуту замер. Затем, рванув одеяло на себя, он достал с заднего сиденья автомобиля подарок и положил к ногам матери, причем поначалу даже не заметив изумленного вздоха толпы.
Джон Хардин смастерил для Люси гроб из дуба, поваленного ударом молнии на острове Орион. Наш младший брат поставил гроб на траву и, взяв руку Люси в свою, провел ею по отполированному дереву, словно мастер, изготовивший для нее скрипку из драгоценных пород дерева. Гроб так блестел, что видна была небольшая бороздка, где пила пошла против волокон дерева. Я заметил, что, когда Джон Хардин снял со своего подарка последний покров, мать испытала шок, однако оправилась быстрее других, так как поняла, что в объявленном вне закона изломанном мире Джона Хардина этот гроб был знаком любви ее сына-шизофреника, который был просто-напросто не способен подогнать свое нечленораздельное, неуклюжее объяснение в любви под общий шаблон.
— А еще он привез ей три галлона бальзама, — покачав головой, произнес Даллас.
— Вы только посмотрите на работу! — восхищенно воскликнул Дюпри. — Само совершенство. Джону Хардину надо бы яхты строить.
— Я и рад бы сказать что-нибудь остроумное, — принял эстафету присоединившийся к нам Ти, — но из всех братьев только я один задним умом крепок. Возможно, выдал бы что-нибудь веселенькое, только случится это месяца через два, когда я буду менять колесо на шоссе или попытаюсь получить деньги в банкомате на отшибе, поскольку у меня перерасход текущего счета. Знаю, мальчики, что вы уже порадовали почтенную публику шестью-семью убойными шутками и ждете от меня хотя бы одну. Но я пас. Сперма отца со временем ослабла. Мамины яйцеклетки состарились и пожухли, когда на горизонте появились мы с Джоном Хардином. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но все же немножко странно смастерить гроб для собственной матери, у которой рак. Ага, вот и все мое заявление для прессы. Можете отправлять в любое телеграфное агентство.
— Он подарил именно то, что нужно, — заметил Дюпри. — Возможно, слегка странный подарок. Зато доктор Питтс сэкономил кучу денег.
— Бедная мамочка. Прямо-таки танк какой-то! — не выдержал Даллас. — Теперь ей придется поблагодарить Джона Хардина, словно он пожертвовал деньги на здание для колледжа, чтобы то назвали ее именем.
Люси встала на цыпочки, поцеловала Джона Хардина в щеку и крепко прижала к себе. Прижалась к его груди и улыбнулась, тем самым заставив его покраснеть. Затем Люси отступила на шаг, посмотрела на гроб и обратилась к толпе:
— Кто же раскрыл мой секрет? Это именно то, что я хотела. Мне не терпится его опробовать.
И тогда все гости благодарно и с облегчением рассмеялись в ответ, по достоинству оценив быструю реакцию Люси и ее умение разрядить обстановку.
Тут Джон Хардин снова удивил нас, сказав буквально следующее:
— Я хотел дать маме то, что редкий сын способен дать своей матери. Многие из присутствующих знают, что я принес маме немало горя, поскольку страдал от того, над чем не властен. Меня беспокоит только одно: а вдруг мама решит, что я смастерил гроб, считая, что она скоро умрет. Но это совсем не так. Мама всегда учила нас, что слова хороши, но болтать языком может любой. Она всегда твердила: обратите внимание на этого мужчину или на эту женщину, на людей, которые действовали: что-то делали или уже что-то сделали. Она учила нас верить своим глазам, а не ушам. Мне кажется, что я умираю, как только подумаю, что мама может уйти. Мне непереносима одна только мысль об этом. И сейчас мне трудно говорить. Но когда твое время придет, мама, я хочу, чтобы ты знала: я сделал такой красивый гроб, вложив в него всю свою любовь. Я срубил дерево, отвез его на лесопилку и шлифовал каждый дюйм. Я полировал его до тех пор, пока не увидел в нем собственное отражение. Праздник организовали для тебя мои братья, а я вот им совсем не помогал. Я трудился. Я очень боялся, что мой подарок расстроит тебя и твоих друзей. Я представлял себе, что строю тебе дом, в котором ты будешь жить вечно, дом, в который придет за тобой Бог.
Люси снова крепко обняла сына, и Джон Хардин зарыдал у нее на плече под одобрительные крики толпы. Затем он оторвался от матери и, продемонстрировав свою недюжинную силу, поднял гроб, словно это была доска для серфинга, положил обратно на заднее сиденье машины и уехал прочь, даже не попробовав барбекю.
— Надо же, наш шизофреник вышел на авансцену! — воскликнул Даллас. — Прямо-таки история моей жизни.
— Нет, — ответил я. — Он сделал нечто большее. Дал вечеру прекрасное логическое завершение.
Назад: Глава тридцать вторая
Дальше: Глава тридцать четвертая

