Глава тридцать вторая
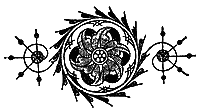
Выпускников средних школ 1966 года, даже не спросив, хотят они того или нет, выбросили, словно фишки, на обтянутые сукном игорные столы истории. Не было ни дорожных указателей, ни правил, которые помогли бы отыскать выход из утомительного лабиринта шестидесятых годов. Нас просто взяли и без разбора выкинули в предательское, ненадежное, яростное десятилетие, и нам ничего другого не оставалось, как зажмурить глаза, заткнуть уши, прикрыть гениталии и, словно ящерам или броненосцам, убедиться в том, что наши мягкие подбрюшья не выставлены на всеобщее обозрение и их нельзя ни пощупать, ни порвать в клочья.
Выпускников 1966 года приняла в свои объятия совсем другая Америка — изуродованная и галлюцинирующая. Казалось, вся страна развернулась и посмотрела на себя со стороны, и то, что раньше было непреложным, вдруг стало маргинальным и поверхностным, а самоуверенность нации, привыкшей к твердой опоре, пошатнулась чуть ли не за одну ночь. И как только отзвучали шаги выпускников по сцене, наш класс попал в страну, путешествующую инкогнито даже для себя самой. Мы должны были стать частью первого поколения американцев в этом столетии, развязавшего войну друг с другом. Вьетнамская война была первой войной с другой страной, которую Америка вела на собственной территории. Все мы были вольны в своем выборе. Безучастных наблюдателей не терпели и поднимали на смех. В шестидесятые годы не было уцелевших — остались только жертвы, раненые и убитые, военнопленные и кричавшие в темноте ветераны.
Я до сих пор считаю шестидесятые глупейшим и тупейшим временем в истории Америки, но все же не могу не признать: было в них нечто замечательное и даже величественное. Я остро, можно даже сказать трансцендентально, чувствовал себя живым, чего в последующие десятилетия со мной уже не случалось. Правда, не думаю, что я узнал бы себя в том мальчике, каким был тогда. Не уверен даже, что студент Джек Макколл остановился бы, чтобы пожать руку человеку, в которого ему пришлось превратиться, после того как дым развеялся.
Я любил Университет Южной Каролины, поскольку мой побег из отцовского дома казался мне духовным освобождением, значение которого невозможно переоценить. Отец уже больше не мог меня унижать, просто потому что я был недоступен, так как не жил с ним в одном доме. Каждый день преподаватели обращали мое внимание на работы писателей, о которых я доселе не слышал. К своей беспредельной радости, я обнаружили, что эти анонимные мужчины и женщины, колдовавшие над английским языком задолго до моего рождения, писали изысканно и утонченно. Когда я читал Чосера на древнеанглийском, то даже удивлялся, до чего ж это веселый писатель. Я и представить себе не мог, что люди в средневековой Англии тоже смеялись и шутили. Я по наивности считал, что смех — современное явление, и в судьбе поденщиц и лучников ушедших веков ему не было места. Зачитываясь этими книгами, я получал сказочное удовольствие от ежедневных открытий.
Первые два года моей учебы в колледже были насыщенными, упоительными и, можно сказать, статичными. Огромная территория университета, анонимность этого непокорного, самоуправляемого города-государства, действовавшего прямо перед носом у Законодательного собрания штата, — все это позволило мне понять, что мир полон чудесных возможностей и острых ощущений, что он открыт для меня и что мальчик, обладающий достаточной силой духа, может убежать даже на край света. Меня переполняли все новые идеи, и казалось, что в моей душе — всегда полнолуние и всегда высокий прилив.
В то время как в других учебных заведениях Америки принимали самое активное участие в жарких дискуссиях по поводу вьетнамской войны, мы, студенты Университета Южной Каролины, просто пили. Пили ведрами ужасную бодягу под названием «Пурпурный Иисус», состоявшую из незабродившего виноградного сока и дешевой водки. Каждое событие нашей студенческой жизни сопровождалось серебристыми бочонками пива, торжественными рядами выстроившимися посреди растаявших ледяных луж. Состояние опьянения стало добровольным выбором основной массы студентов, а среди мальчиков, красующихся и распускающих павлиний хвост перед весьма разборчивыми сокурсницами, особенно ценились ироничность и невозмутимость.
В те времена, когда мы, новоиспеченные студенты, приехали в Каролину, все стороны студенческой жизни строго регламентировались в рамках греческой системы, пользовавшейся непререкаемым авторитетом. Поэтому греческий язык мне пришлось изучать только раз в жизни, на первом курсе, для того чтобы разобраться в сестринствах и братствах, число которых обескураживало, а названия путались и мешались в голове. Уже в первый месяц Кэйперс признался мне, что для мужчины выбор правильного братства имеет не меньшее значение, чем выбор подходящей жены. Он сказал, что пять бывших членов «Каппа-альфа» и шесть бывших членов «Сигма-альфа-эпсилон» еще летом отправили в свои братства рекомендательные письма с лестными отзывами о нем. От Ледар я узнал, что она тоже запаслась письмами от трех подруг матери по сестринству, но решающим, конечно, оказался тот факт, что мать ее состояла в «Три-дельта», что в Каролине. Так что, по личному признанию Ледар, ее уже практически приняли, можно сказать, как наследницу, без особых заслуг с ее стороны.
Я посетил множество вечеринок, устраиваемых братствами, и заглянул одним глазом в общественную жизнь, о которой много слышал, но которую так и не смог понять до конца из-за множества тонких различий. После окончания школы Ледар порвала со мной, поскольку ей уже надо было как дебютантке выходить в свет, а я и мое семейство все же слегка портили воздух в присутствии высокой комиссии, выносящей вердикт о критериях, необходимых для дебютанток и их ухажеров, а также о желательности последних. Мой отец был судьей и членом коллегии адвокатов, а его мать, моя бабушка, была урожденной Синклер из Чарлстона, а потому я всегда считал свое происхождение вполне сносным, если не высоким. Я так и не осознал всей глубины мезальянса, совершенного отцом, когда тот женился на моей неотесанной, безграмотной матери. Люси тоже была не в силах помочь мне обойти эти опасные мелководья. Я не разбирался ни в кодексе, ни в установленной форме жизни братств, тогда как и то и другое молодой человек на пороге взросления должен был усвоить как дважды два. Что было хорошо для школы, то было плохо для лучших студенческих братств. Я ловил все на лету и мог не хуже ртутного столбика отреагировать на температуру в комнате, а посему сразу же почувствовал свою непохожесть, когда сердечные до приторности члены братств оценивали меня, оглядывая с головы до ног.
В начале августа я получил еще один поучительный урок загадочной социальной этики, в которой так легко разбирались мои друзья. Я сопровождал Кэйперса и величественную миссис Миддлтон во время их похода в магазин Берлина в Чарлстоне с целью купить Кэйперсу подходящую одежду на тот первый, ответственный год.
— Запомните, — изрекла Эвлалия Миддлтон, — первое впечатление — самое важное и, — продолжила она, делая ударение на последнем слове, — именно оно и остается на всю жизнь.
— Ваша правда. Ваша правда, — поддакнул мистер Берлин, помогая Кэйперсу облачиться в синий блейзер.
— Упаковка… вот что делает самый обычный подарок бесценным, — пропела мать Кэйперса, когда тот, облаченный в черный костюм в тонкую полоску, любовался на себя в зеркале.
— Миссис Миддлтон, вы непременно должны написать книгу, — сказал мистер Берлин, помечая мелком завернутые наверх слишком длинные брюки. — И хотя нам все это кажется очевидными, вы просто ужаснулись бы тому, что мне иногда приходится слышать.
— Здравый смысл и, — вскинула брови миссис Миддлтон, поймав в зеркале мой взгляд, — хороший вкус. Это то, с чем кто-то рождается, а кто-то нет.
В день, когда Кэйперс купил смокинг, я узнал, что смокинг именно покупают, а не берут напрокат на один вечер. Счет Кэйперса становился все больше, а когда перевалил за три тысячи долларов, я даже присвистнул от изумления, сразу же поняв, что допустил непоправимый социальный ляп, так как Кэйперс, миссис Миддлтон и мистер Берлин изо всех сил старались сделать вид, что ничего не слышали. Я принялся судорожно прикидывать в уме, затратили ли родители на меня за всю мою жизнь три тысячи долларов, считая еду. Меня потрясло, с какой серьезностью Кэйперс и его мать отнеслись к выбору студенческого гардероба.
Когда Кэйперс примерял отлично сшитый плащ под названием «Лондонский туман», я, открыв рот при виде цены, спросил:
— Кэйперс, а это-то зачем?
— Ты что, думаешь, в этой части штата не бывает дождей? — недоуменно улыбнулась миссис Миддлтон.
— Бывает, — согласился я. — Но ведь всегда можно нырнуть куда-нибудь. Или добежать до дома.
— Джентльмену не пристало никуда нырять, — заметила миссис Миддлтон. — И джентльмен подготовлен к любым капризам погоды. Кэйперс, тебе понадобится черный зонт, когда в дождь ты будешь провожать девушек до дверей студенческого общежития. Боже мой, Джек, что бы ты стал делать, окажись в подобной ситуации?
— Скорее всего, схватил бы свою девушку за руку и велел бы бежать за мной.
— Надо же, — произнесла миссис Миддлтон, и я заметил, что мистер Берлин с трудом сдерживает улыбку.
Хотя в тот нескладный первый семестр я пытался усвоить все правила студенческой жизни, было слишком много мелочей, которые трудно было переварить за такое короткое время. Я был очень застенчив и неаккуратен и не мог вписаться в систему лучших студенческих братств с их безупречным порядком. Я видел, какое впечатление производило на всех появление Кэйперса, и понимал, что дело это гораздо загадочнее «Лондонского тумана», когда, словно рыба-лоцман, таскался за Кэйперсом с вечеринки на вечеринку, наталкиваясь на холодность и равнодушие потенциальных собратьев. Я точно соблюдал все правила этикета, однако меня по-прежнему никто в упор не видел, а я кочевал из дома в дом в поисках комфортной зоны, в которой почувствовал бы, что наконец пришел в нужное место. Хотя прямо об этом никто не говорил, я догадывался, что в престижных университетских братствах мое присутствие нежелательно и меня в лучшем случае включили бы в середину списка кандидатов какого-нибудь второсортного братства. Хирургическую операцию они провели молча и без анестезии. Задолго до того, как братства сделали окончательный выбор, я понял, что у меня нет шансов на успех, и объявил всем своим школьным друзьям, что решил стать независимым.
Много лет спустя я признался себе, что не заделался бы таким ярым поборником антивоенного движения, если бы получал помимо каталогов товаров почтой письма с вложенными туда конвертами с обратным адресом отправителя и если бы, к моему величайшему сожалению, не был так невежествен в вопросах деятельности различных группировок. Я так и не смог до конца освободиться от ауры маленького городка; пока я бродил в поисках собственной ниши в кампусе Каролины, меня неотступно преследовал гнилостный запах наших болот. Я надеялся проводить время в основном со своими лучшими уотерфордскими друзьями и при переходе из одной фазы студенческой жизни в другую просто-напросто добавлять в этот список тройку-другую блестящих имен. Меня сначала обеспокоило, а потом и обидело то, что сразу после своего появления в кампусе Кэйперс и Ледар перестали постоянно общаться с друзьями вроде меня. Братства, не жалея сил, обхаживали Кэйперса, а девушки из сестринских объединений чуть ли не передрались друг с другом за право получить благосклонность Ледар.
С первого дня приезда в Каролину Майк с ходу объединил свои силы с еврейским братством. Он был дальновидным, смекалистым парнем и хорошо знал, что делает. Еще в школе он был уверен, что будет работать в киноиндустрии, но ему необходимо было проложить дорогу в мир кино. Выбрав специализацию в области делового администрирования, он тем не менее тут же нахватал все хоть как-то связанные с кино курсы лекций, которые мог предложить факультет английского языка. А еще он каждый день ходил в кинотеатр и тщательно записывал впечатления буквально от каждого просмотренного им фильма. Когда в зале гас свет и на экране появлялись первые титры, Майк начинал чувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Учеба в колледже увлекла его бурной общественной жизнью, серьезностью академической работы и возможностями, предоставляемыми такому амбициозному мальчику, как он, расширить свои горизонты настолько, насколько позволят его пытливый ум и глубина натуры. Выросший в очень любящей семье, Майк считал, что все, с кем он встречался, не устоят перед его добродушием, и не ошибся. У него была заразительная улыбка, отражающая его широкую, хотя и немного иезуитскую натуру. Он хотел знать историю жизни каждого встречного и умел разговорить любого. У него был особый дар привлекать к себе застенчивых людей и увлекать их за собой в качестве зрителей и болельщиков в свой говорливый волшебный мир. В студенческом городке Майка сразу заметили, потому что он не расставался со своей восьмимиллиметровой кинокамерой. Его умение обращаться с ней постепенно стало своего рода искусством.
И только Шайла, казалось, ничуть не изменилась в пьянящей атмосфере студенческой жизни. Она не была тщеславной и не собиралась участвовать в интригах своих однокурсниц. А поскольку Шайла считалась самой красивой еврейской девушкой в кампусе и с каждым днем только хорошела, то не успела она приехать в университет, как ее тут же наперебой стали приглашать на свидания самые завидные и привлекательные еврейские парни, включая и президента еврейского братства. В первую же неделю ее приняли в редакцию газеты «Геймкок» и дали небольшую роль в постановке нового театрального сезона «Тимон Афинский». Шайла, казалось, ничуть не изменилась, оставаясь все такой же непринужденной и естественной, и когда бы я ее ни встретил, то всегда мог перевернуть назад страницу своей жизни и понять, каким я был, лишь по одной ее реакции. И хотя прошлым летом, когда мы танцевали с ней в обреченном пляжном домике Миддлтонов, Шайла позволила мне влюбиться в нее, она прекрасно понимала, что я еще не готов. Она была терпелива, безмятежна и уверена в том, что наша с ней история, начавшаяся на том дубе, в конце концов приведет меня к ней. Мы часто встречались за ланчем в университетской столовой и по старой детской привычке рассказывали друг другу все-все-все. В чем мы неизменно соглашались, так это в том, что оба скучаем по Джордану и хотели бы, чтобы он учился вместе с нами в университете, а не в Цитадели, куда пошел по стопам отца. Мы сомневались, что свободолюбивый Джордан способен расцвести в условиях жизни в Цитадели, подвергающей суровому испытанию огнем шестьсот курсантов-первокурсников.
Письма от Джордана стали приходить вскоре после того, как кончилась первая, самая тяжкая для курсантов неделя и начались занятия. Делая вид, что готовится к урокам по истории Америки, он сочинял длинные обличительные письма об унижениях, которые ему и другим первокурсникам приходится переносить, согласно неписаным правилам, установленным молодыми садистами. «Я отправил матери письмо, поблагодарил ее за то, что она послала меня в эту замечательную клоаку. Напомнил ей, что именно это заведение воспитало молодчика, за которого она вышла замуж, и что некоторые из этих парней даже заставляют скучать по отцу. Так, наш первый сержант по имени Белл особенно невзлюбил твоего покорного слугу, поскольку он, видите ли, считает, что выражение моего лица свидетельствует о моем плохом отношении к нему. У Белла индекс интеллектуального развития на уровне примата, и он даже представить себе не может, насколько плохое это мое отношение, которое может только ухудшиться. Я попал сюда, так как мой старик ненавидит сам факт, что я до сих пор жив да еще имею наглость заявлять, что я его родной сын. В общем, это не самая удачная идея. Моему соседу по комнате все здесь нравится, и он мечтает стать снайпером во Вьетнаме. Это все равно что жить рядом с Генрихом Гиммлером. Спроси у Шайлы и Ледар, готовы ли они при встрече оставить у меня на щеке парочку засосов. Да, совсем забыл рассказать тебе о богатой интеллектуальной жизни в Цитадели. Вчера вечером первокурсникам показали порнушку, где женщина занимается любовью с ослом. Уж можешь мне поверить, мы с тобой точно выбрали бы осла! А мой сосед — да будет благословенна его фашистская душа — очень гордится своей способностью пердеть по команде. Он поделился этой ценной информацией с сержантом и теперь пердит громко и радостно, когда бы его ни попросили продемонстрировать свои таланты. Стараюсь даже и не думать о том, как же я по вам по всем скучаю, так как иначе здесь и пятнадцати минут не протяну. Можешь приехать повидаться со мной, когда мне дадут первую увольнительную? Всегда твой, в печали и болезни. Джордан».
Наконец Джордан впервые промаршировал по плацу в парадной форме, и мы с Шайлой поехали к нему в пятницу вечером, чтобы пригласить на ужин в «Кокоми-хаус». Но наставники позволили Джордану и его однокурсникам покинуть казармы только после того, как заставили их изрядно попотеть: Джордану пришлось выполнить более ста отжиманий, и лишь тогда на пропускном пункте ему выписали увольнительную.
Когда он вышел к нам, сильно похудевший, с обритой головой, Шайла, не удержавшись, спросила:
— Почему ты такой тощий?
— Мой первый сержант не верит в то, что животные и растения должны умереть только из-за того, что какой-то придурок должен жить, — ответил Джордан. — Мать учила его не переводить еду зазря, а кормить чужой рот, по определению, — переводить еду зазря.
— В этой школе чему-нибудь учат? — поинтересовался я. — Какую специализацию ты выбрал?
— Плевать и растирать.
— Нет, правда, — рассмеялась Шайла. — Чему ты будешь учиться?
— Ручные гранаты, а непрофилирующая дисциплина — огнеметы.
Весь вечер мы шутили и поддразнивали друг друга, но Джордан не мог скрыть глубокой грусти, которой были пронизаны все его рассказы о жизни в казармах. Так, одного курсанта, у которого все лицо было в угрях, в столовой заставляли надевать на голову бумажный пакет. У первокурсника из Уэйкросса, штат Джорджия, с детства охотившегося на аллигаторов в черном безмолвии болот Окефеноки, на уроке физики случился нервный срыв.
Джордана не могли оставить равнодушным страдания других людей, к собственным же он привык с рождения. Жестокое обращение старшекурсников было детскими игрушками по сравнению с изощренной тиранией отца. Подлость некоторых курсантов ему, единственному среди новичков, казалась почти комичной. Что действительно угнетало Джордана, так это то, что Цитадель в его глазах была отражением темной души отца на уровне целого учреждения.
Прежде чем мы успели сделать заказ, Джордан съел весь хлеб и масло, которые официант принес вместе с меню. А еще он положил в чай со льдом четыре куска сахара и при этом постоянно оправдывался.
— Я так голоден, что выел бы промежность у тряпичной куклы, — улыбнулся он.
— Джордан! — воскликнула шокированная Шайла.
— Извини, Шайла. Я слышал это за общим столом. Курсанты и слова не могут сказать, не добавив «твою мать!».
— Мне казалось, что я люблю Каролину, — признался я, — пока не увидел твое училище. А теперь я просто в трансе.
— У Джека кой-какие трудности, — объяснила Шайла. — Никак не может притереться, но все остальные на седьмом небе. Ты должен бросить эту свою помойку и поступить в нормальный колледж.
— Мне хотелось бы найти способ выйти из игры, не теряя достоинства, — отозвался Джордан. — Если я просто брошу училище, отец ни за что не станет платить за другой колледж. Проблема в том, что единственный способ выйти из Цитадели, не теряя достоинства, — это получить диплом.
— Придумай что-нибудь, — посоветовала Шайла. — Джеку нужен друг. Кто бы мог подумать, что такому большому мальчику будет одиноко в кампусе, где живут десять тысяч человек?!
— Джек слишком застенчивый, — отозвался Джордан. — Он еще не скоро будет твердо стоять на ногах.
Неожиданно мы услышали сзади чей-то голос:
— Курсант Эллиот!
Мы подняли глаза и увидели старшекурсника из Цитадели, остановившегося за спиной у Джордана. Джордан тут же вскочил и замер по стойке «смирно», а потом согнул ноги в коленках, чтобы показать, что прямо-таки дрожит от страха.
— Отставить, Эллиот. Вольно. Я обедаю здесь со своими родителями. Я не мог не заметить, что ты расстегнул молнию на форменной куртке. Это привилегия офицеров.
— Я не специально, сэр.
— Зайди ко мне в комнату за десять минут до отбоя, балбес, — приказал курсант и, улыбнувшись, посмотрел на Шайлу.
Он уже собирался было представиться, но тут я схватил его за ухо и притянул к себе его голову.
— Послушай, гнойный прыщ, — прошептал я ему прямо в покрасневшее ухо. — Я пациент психушки на Булл-стрит. Я убил свою мать. Вонзил ей в глаз мясницкий нож. Я не собираюсь тебя трогать, но если мой кузен Джордан скажет мне, что ты… — И с этими словами я взял со стола нож.
— Отпусти его, Джек, — вмешался Джордан. — Прошу прощения, сэр. Моего кузена не часто выпускают из больницы.
— Я его сиделка, курсант, — улыбнулась Шайла. — Надеюсь, он вас не слишком напугал. Придется увеличить дозу.
Я освободил испуганного старшекурсника, и тот, облегченно вздохнув, произнес:
— Спасибо, Эллиот. С докладом можешь не приходить. Развлекайся.
— Спасибо вам, сэр, — ответил Джордан. — Не хотите ли присоединиться к нам, сэр?
— Моя мать не страдала, — утешил я курсанта. — Мгновенная смерть.
Курсант поспешно ретировался, а Джордан, хихикнув, сказал:
— Его зовут Мэнсон Самми, и он самый подлый сукин сын из всех. Он ест салаг на завтрак и хвастает, скольких из них он выжил из училища.
— Пусть бы и тебя выжил. Приезжай в Каролину, — предложила Шайла. — У нас общежитие забито девушками, и все они готовы облизать тебя с ног до головы. У нас полно выпивки, вечеринка за вечеринкой, играет настоящий биг-бэнд…
— Тогда почему Джек такой одинокий? — поинтересовался Джордан и, перегнувшись через стол, сжал мне руку.
— Потому что он Джек, — объяснила Шайла. — Он думал, что мы все вырастем — ты, я, Кэйперс, Майк, Ледар и он — и будем жить вместе, в одном большом доме.
— И что в этом плохого? — обиделся я.
— Для меня это звучит как музыка, — улыбнулся Джордан и втянул носом воздух, так как в этот момент из кухни прибыл его стейк.
— Это непрактично, — отозвалась Шайла. — И никакого воображения.
— Зато свидетельствует о хорошем вкусе, — возразил я. — Я знаю, кто мои друзья.
Джордану потребовался еще месяц такой жизни, чтобы наконец найти решение, причем достаточно фантастическое; оно позволило ему вылететь из Цитадели, но так, что он смог уйти с высоко поднятой головой и даже получить благословение отца. Его отец свято верил, что Цитадель укрепит сына именно в тех местах, которые жена в отсутствие супруга слишком размягчила. Как надеялся генерал, военная школа исправит то, что не получилось у него самого, другими словами — сделает Джордана абсолютно не похожим на мать.
Разработанный Джорданом план требовал помощи друзей из Университета Южной Каролины, и план этот продемонстрировал, что Джордану удалось развить природный дар стратега. У него всегда была ясная голова, а стресс казарменной жизни лишь усилил его способность мгновенно принимать правильные решения.
Двумя неделями раньше десять курсантов Цитадели взяли отпуск на уик-энд за полмесяца до ежегодного футбольного матча между Цитаделью и Университетом Фурмана и выкрали арабского скакуна, бывшего у студентов университета чем-то вроде талисмана. Паладин был смирным животным, грациозным и легкоуправляемым, но курсанты уж больно торопились поскорее вывести коня, и в спешке двое парней, слишком пьяных, чтобы правильно взнуздать чужого жеребца, его ослепили. Когда до них дошло, насколько серьезно они повредили талисман, курсанты сделали то, что сочли наиболее гуманным: уложили животное выстрелом в голову. Но один из курсантов принял неверное решение, написав аэрозольной краской на теле убитого коня слово «Цитадель».
Фурман и Цитадель яростно соперничали друг с другом и до этого инцидента. Теперь же для баптистского колледжа, расположенного на холмах Гринвилла, Цитадель стала воплощением всего демонического и мерзопакостного. Благовоспитанные и миролюбивые студенты Фурмана пришли в дикую ярость, когда по кампусу распространилась новость о таком невиданном зверстве. Фотография убитой лошади появилась на первых страницах всех газет штата. Начальник Цитадели, генерал Наджент, опасаясь ответного удара, приказал всем курсантам не покидать расположения училища до того дня, когда должен был состояться футбольный матч. Несколько братств колледжа Фурмана поклялись в память об убитом Паладине повесить бульдога Цитадели на флагштоке здания Законодательного собрания штата.
Воскресным утром первый сержант Мэнсон Самми навещал свою девушку в колледже Фурмана, когда в газете «Гринвилл морнинг ньюс» появилась фотография убитого коня. Поцеловав девушку на прощание у дверей общежития, сержант направился к своей машине, где его встретили пятьдесят студентов Фурмана, включая половину футбольной команды.
Два дня спустя Мэнсона Самми вернули в Цитадель, предварительно обрив ему голову и гениталии, натянув на него женские трусы, измазав пометом и украсив куриными перьями с ближайшей фермы. Они написали слово «Фурман» на шести зданиях Цитадели, включая часовню. Обнаружив Мэнсона, избитого и закованного в цепи, посреди плаца, курсанты поклялись жестоко отомстить. Но генерал Наджент после переговоров с губернатором и ректором Университета Фурмана распорядился не выпускать курсантов из комнат и выставил вокруг училища оцепление, дабы предотвратить дальнейшие набеги студентов Фурмана. Напряжение между двумя учебными заведениями достигло опасного уровня, и обе футбольные команды поклялись выиграть матч, который должен был состояться в следующую субботу в Чарлстоне. В воздухе сгустилась неуправляемая и тем более опасная мужская энергия, а Цитадель напоминала находящееся в осаде маленькое воюющее княжество. Слово «Фурман» стало ругательным в устах возбужденных курсантов, которые после унижения и избиения Мэнсона Самми начисто забыли о гибели лошади Фурмана.
И тогда первогодок Джордан Эллиот пришел к командиру роты Пиннеру Уорреллу с блестящим планом, где военная стратегия сочеталась с библейским пониманием мщения. План был простой, но коварный, и старший курсант Уоррелл согласился его поддержать и даже принять в нем участие, если Джордан сумеет найти троих парней (не из Цитадели) и уговорит их сесть за руль машин, обеспечивающих отступление. Джордан заверил своего командира, что у него уже есть три водителя, идеально подходящие для этой операции, необходимыми условиями для проведения которой были любовь к быстрой езде и страсть к риску.
— А держать язык за зубами они умеют, Эллиот? — поинтересовался Уоррелл.
— Я бы доверил им свою жизнь, сэр, — заверил наставника курсант Эллиот.
— Но ты салабон, Эллиот. Мусор под ногами. Ночная поллюция. Использованная прокладка. Кусок туалетной бумаги. А в этой операции примут участие в основном старшекурсники. Лучшие из лучших. Настоящие боги, Эллиот. Настоящие боги.
— Сэр, даже такая прокладка, как я, доверил бы моим друзьям жизнь этих настоящих богов.
— Я беру на себя ответственность за все военные и стратегические аспекты этой сверхсекретной миссии, дубина. Уже на будущий год я буду во Вьетнаме, стану убивать косоглазых, жечь деревни, наводить порядок и вообще задам азиатам жару. А ты, Эллиот, будешь отвечать только за транспортировку. Ты всего лишь прыщ на заднице, сперматозоид настоящего старшекурсника из Цитадели. Я научу тебя всем тонкостям военного мастерства.
— Сэр, позвольте мне заняться транспортировкой.
В среду вечером, накануне матча с Фурманом, пятнадцать курсантов из роты G, одетых в камуфляжную форму, собрались, чтобы получить последние инструкции от Пиннера Уоррелла. Уже в пятый раз они вместе шаг за шагом проработали каждую деталь набега на кампус Университета Фурмана. Каждая группа должна была расписать как минимум три здания, а затем быстро отступить к месту сбора, чтобы успеть в Чарлстон до утренней побудки. Главное в этом деле — фактор времени, повторял Уоррелл снова и снова. Пятнадцать курсантов сверили часы, а Пиннер еще раз повторил каждому его задачу. Они погрузили в три машины, припаркованные в Хэмптон-парке, недалеко от корпусов Цитадели, банки с краской, кисти, ножницы для колючей проволоки и алкоголь. В десять тридцать, когда над казармами прозвучал сигнал отбоя, пятнадцать курсантов уже стояли у боковых ворот. Они вместе выскочили из ворот и, пробегая мимо младшего сержанта, дружно закричали: «Всем в помещение!» — а потом, нырнув в темноту, кинулись к железнодорожным путям за зданием факультета военных наук. Курсанты должны были вернуться в Цитадель к утренней побудке в шесть пятнадцать, а Гринвилл находился в двухстах десяти милях от них.
Кэйперс, Майк и я, сидевшие каждый в своей машине, еще раз проверили время, завели мотор и стали ждать, пока курсанты наконец продерутся сквозь кусты азалий вдоль железнодорожных путей. Ни один из нас ни секунды не колебался, когда Джордан позвонил с просьбой о помощи. Во имя дружбы мы были готовы гнать машины на полной скорости из одного конца штата в другой.
Джордан залез на переднее сиденье, вслед за ним, как стрелок-наблюдатель, забрался его командир Пиннер Уоррелл, а потом на заднее сиденье с криками «давай, давай, давай!» плюхнулись трое старшекурсников — и я нажал на газ.
Первым, сжигая резину, сорвался с места «Понтиак GTO» Кэйперса, за ним — красный «Шевроле 57», который Майк содержал в отличном состоянии. У меня был более тихоходный серый «Шевроле 59» со смешными задними крыльями, придававшими ему допотопный вид, но так как это была моя первая машина, я любил ее именно за непритязательность и отсутствие стиля. Из трех машин моя была не самой быстроходной, но на автостраде показывала себя не хуже других.
Мы пролетели по улицам Чарлстона на скорости семьдесят пять миль в час и выскочили на шоссе I-26, врубив на полную громкость рок-музыку, под звуки которой курсанты для храбрости время от времени прикладывались к бутылке. Будучи первокурсником, Джордан помалкивал в тряпочку, и мне приходилось слушать разговор явно нервничающих старшекурсников и одновременно следить за задними огнями машины Майка, чтобы не оплошать во время этой двухчасовой гонки со средней скоростью сто пять миль в час.
Минут за пятьдесят мы проехали Колумбию, отмахав добрую сотню миль и оставив за спиной Чарлстон, и наконец где-то впереди справа увидели огни города. Подъезжая к Ньюберри, я неожиданно заметил в зеркале заднего вида синюю мигалку патрульной машины дорожной полиции и нажал на тормоз, но Уоррелл успокоил меня, сказав, что патрульный — выпускник Цитадели и он тоже посвящен в план. Патрульный автомобиль обогнал наши машины и поехал впереди, освещая синим светом дорогу через сосновые леса Каролины. Во время медленного подъема в гору севернее Гринвилла я буквально чувствовал, как земля под нами вздымается, передавая энергию приближающимся горам. Мне еще не приходилось ездить на такой бешеной скорости и на такие огромные расстояния, как тогда, когда мы стрелой летели через штат Южная Каролина в сопровождении машины дорожного полицейского с кольцом Цитадели на пальце.
На подъезде к Клинтону я краем глаза увидел свет фонарика, мигающего с путепровода над нами. А далеко впереди на путепроводе перед нами я заметил ответную вспышку, исчезнувшую так быстро, что я даже не был уверен, видел ли я ее на самом деле. В моем мозгу смутно отложилось, что это был какой-то сигнал, но я настолько сосредоточился на дороге, что вспомнил об этом только на следующий день. Когда мы подъехали к Гринвиллу, Пиннер Уоррелл еще раз заставил курсантов повторить задачу шаг за шагом, чтобы удостовериться, что каждый член его команды назубок знает свою роль.
— Виг, ты берешь на себя библиотеку. Просто напиши на фасаде слова «Бульдог» и «Цитадель». На заднюю часть наплевать. Это относится к каждому. Все должны быть здесь ровно в три ноль-ноль. Все поняли, господа? А тебе, дубина, все ясно?
— Сэр, да, сэр, — отрапортовал Джордан.
— А ты, подтирка, возьмешь на себя женское общежитие, — приказал Уоррелл Джордану. — И не вздумай нюхать белье на веревке.
— Постараюсь держать себя в руках, сэр, — ответил Джордан, и старшекурсники на заднем сиденье заржали.
— Гнойный прыщ, — произнес Уоррелл с теплотой в голосе.
Тем временем мы уже сворачивали с шоссе, увидев указатель поворота на Университет Фурмана.
— А твоя задача, Пиннер? — спросил кто-то с заднего сиденья.
— Командир группы всегда берет на себя самую трудную задачу, — заявил Уоррелл. — Я буду писать на церкви слова: «На хрен дохлого Паладина Фурмана. Цитадель рада, что убила его».
— Ты чокнутый, Уоррелл! — с восхищением отозвался тот же голос. — Чистый псих.
— Спасибо, — сказал Уоррелл. — Большое спасибо. Вот что будет поддерживать меня во Вьетнаме: парни вроде вас, способные расписать стены общежития. Но только Уоррелл мог додуматься испачкать краской церковь баптистского кампуса.
— Но ты же сам баптист, Уоррелл.
— Я машина для убийства, Доббинс, — поправил его Уоррелл. — И мы сейчас на гребаной войне.
Когда я остановился за автомобилем Майка около девятифутовой сетки, окружавшей кампус Фурмана, Уоррелл сказал:
— Ты, Макколл, пришелся бы под стать парням из Цитадели. Какой стыд отдавать такого мужика, как ты, в школу для маменькиных сынков Каролины! Пошли, парни. С этой минуты абсолютная точность. Военная точность. Наш план безупречен. Только человеческий фактор может все изговнять. Но, господа, в армии Уоррелла нет места такой штуке, как человеческий фактор.
Группа старшекурсников из машины Кэйперса уже вырезали с помощью ножниц для колючей проволоки большую дыру в сетке, и первые курсанты в камуфляжной форме с рюкзаками, набитыми банками с аэрозольной краской, уже бежали во весь опор к зданиям университета, находившимся в трех четвертях мили от них. Парни из Цитадели были в прекрасной физической форме, так как их тела окрепли после долгих часов бега с препятствиями и многочасовых маршей под дружное и громкое пение.
Я открыл багажник, еще раз поразившись скорости и экономности движений курсантов, молниеносно надевших рюкзаки и ринувшихся к дыре в ограде, через которую они проползли по-пластунски. В этот момент из-за облаков вышла луна, залив холодным светом диверсантов, бежавших по низким холмам, молча и стремительно, точно речная форель. Я видел, как Пиннер Уоррелл исчез за одним из холмов, и очень удивился, когда из тени выскользнул Джордан Эллиот и, смеясь, подошел ко мне.
— Джордан, тебя ждут большие неприятности, — заметил Кэйперс.
— Не больше, чем есть, — ответил Джордан. — И по крайней мере, не сейчас.
Джордан махнул рукой вправо, дважды мигнув фонариком, и слева мы тут же увидели ответное мигание.
— Кому это не спится? — удивился Майк.
— Всему кампусу Фурмана. Помнишь Фергиса Свангера?
— Защитника из средней школы Ханаха? Классный футболист, — сказал Майк.
Потом Джордан еще раз помигал фонариком, на сей раз немного правее.
— Теперь Фергис играет за Фурмана. Я позвонил ему накануне вечером.
— Зачем? — поинтересовался Кэйперс. — Ты даже не знаешь этого несчастного сукина сына.
— Я до мельчайших подробностей изложил ему план разукрасить кампус Фурмана.
— Ах ты, мерзкий грязный ублюдок! — восхитился Майк. — Это просто гениально.
— Но это как-то двулично, — возразил Кэйперс. — Мне даже понравились те парни, которых я подвозил.
— Ну и переходи на их сторону, — бросил Джордан. — А теперь все убирайтесь отсюда. Если обнаружат, кто нас сюда привез, от ваших машин ничего не останется, разве что пепельницы да антенны.
— Зачем ты это делаешь?! — воскликнул Кэйперс.
— У меня был приятель, который сидел рядом со мной в столовой. Нам посчастливилось есть вместе с самим господином Пиннером Уорреллом. Однако господин Уоррелл не собирался расходовать казенные деньги зря: на то, чтобы кормить таких салабонов. А потому он морил нас голодом, но делал все с подходцем. Он выяснил, какую еду мы ненавидим. Я, например, ненавижу брюссельскую капусту, и когда он спрашивал, не хочу ли я ее заказать, я говорил: «Нет, сэр». И тогда он заставлял меня есть всю брюссельскую капусту, что была на столе. А тот парнишка Джеральд Миншу отказывался пить томатный сок. И потому Уоррелл заставил его выпить двенадцать стаканов томатного сока. Миншу забыл сказать ему, что у него на этот сок аллергия, и после всего чуть не умер в отделении неотложной помощи больницы Гринвилла.
— Назови мне лучше настоящую причину, — попросил Майк. — Я не куплюсь на эту хрень по поводу брюссельской капусты и твоей любви к бедному Миншу.
— Мне необходимо выбраться из училища. Оно не для меня. Когда я не сплю, то все здесь ненавижу. Хотя оно мне даже по ночам снится.
— Ну так уйди, — предложил я.
Джордан горько рассмеялся.
— Я уже говорил тебе, Джек, что умолял отца позволить мне покинуть школу, но он даже слышать ничего не хотел. Мама говорит, что надо найти какой-то способ уйти из Цитадели с достоинством, иначе мне придется проторчать здесь еще четыре года.
— И ты называешь это уйти с достоинством? — поинтересовался Кэйперс. — Уж поверь мне: фурманы уделают их так, что от них мокрого места не останется.
— И от меня тоже, — бросил Джордан и проскользнул в дыру в заборе, но пошел совсем не в ту сторону, что остальные курсанты.
— Просто возвращайся, — предложил я. — Фурманы точно тебя прикончат.
— Если они этого не сделают, тогда все поймут, что я предатель, — ответил Джордан. — Спасибо, парни. Никогда не забуду, что вы для меня сегодня сделали. А теперь сматывайтесь, пока вас не поймали.
Как только Джордан исчез за холмом, раздался мощный рев: это пятьсот фурманов выполнили идеальный маневр, взяв в клещи курсантов Цитадели и отрезав им все пути к отступлению. Был дан сигнал, и кампус неожиданно расцвел огнями — казалось, что тысячи фурмановских парней заняли стратегические позиции, заперев ошеломленных курсантов и продемонстрировав свое численное превосходство.
Меня так загипнотизировала ярость орущей толпы, что я едва успел добежать до машины, когда команда бейсболистов Фурмана, вооружившись битами, ринулась к припаркованным автомобилям. Пригнувшись к рулю, мы стрелой помчались по грязной дороге, а из-за ограды нам вслед летели биты, одна из которых повредила мне капот, а другая разбила Майку заднее стекло.
На круглосуточной заправке уже на шоссе I-26 мы остановились, чтобы залить бензин и обсудить наши дальнейшие действия.
— Что за дерьмо? — спросил я.
— Нам должно быть стыдно за себя, что мы оставили этих курсантов, — заявил Кэйперс.
— Ты совершенно прав, Кэйперс, — отозвался я. — Возвращайся и забери своих, согласно плану.
— Ты не знаешь, что такое братство, — произнес Кэйперс. — Ты ведь так и не вступил ни в одно из них.
— Поучи-поучи меня насчет братства и дружбы, мальчик, — ухмыльнулся я. — Возвращайся за своими курсантами.
— Джордан нас поимел, — сказал Кэйперс.
— Джордан — наш друг, и мы всегда будем на его стороне, — покачал я головой.
— Господи! — вздохнул Майк. — Он делает такое, чего ни одному нормальному человеку и в голову не придет.
— Он опасен, — нахмурился Кэйперс.
— Пока что только для курсантов Цитадели, — рассмеялся Майк.
Джордан действительно оказался опасен для бесстрашных, готовых на все курсантов, которые отправились в ту осеннюю ночь в кампус Фурмана. В ту ночь в кампус просочились шестнадцать человек, и ни один не вышел оттуда на своих ногах. Одного курсанта заарканили и повесили на дуб вниз головой, а потом, стащив на землю, чуть не затоптали насмерть. Пиннеру Уорреллу сломали челюсть и три ребра, когда он краской из пульверизатора попытался отразить атаку студентов, все же сумевших сбить его с ног. В отделении неотложной помощи больницы Гринвилла он оказался в числе троих пациентов, поступивших со сломанной челюстью. Семерых курсантов привезли в больницу без сознания, в том числе и Джордана Эллиота.
Кроме того, Джордан оказался единственным, кто успел добежать до здания Фурмана и написать на стене слово «Цитадель». Он как раз разбрызгивал краску по стене гимнастического зала, когда его заметил конный патруль и поднял тревогу. И тут Джордану пришлось устроить гонки с мальчиками Фурмана, которые ему суждено было проиграть. Он кинулся в сторону тихого озера, обнаруженного им на карте Уоррелла, когда они планировали операцию. Чувствуя, что толпа буквально дышит ему в затылок, Джордан с разбега нырнул в холодную ноябрьскую воду и поплыл австралийским кролем на другой берег так быстро, как мог. За его спиной пять или шесть студентов Фурмана влезли в воду и тут же взвыли от холода. Поскольку Джордан плавал как выдра, он еще какое-то время надеялся оторваться от преследователей.
Но тут он услышал плеск и, оглянувшись, увидел, что на воду одновременно спустили четыре байдарки, в каждой по четыре здоровенных, слаженно работавших гребца. Джордан рассмеялся и повернулся к ним лицом. Когда к нему приблизилась первая байдарка, он нырнул и даже сумел перевернуть лодку, но тут получил удар веслом по голове… Прежде чем Джордан почувствовал, что тонет в черной воде, он увидел со всех сторон тени весел, которые опускались снова и снова.
Джордан получил опасное сотрясение мозга. Он стал последним курсантом, выписанным из больницы Гринвилла и препровожденным под охраной в Цитадель. Как и остальных, Джордана исключили «за поведение, недостойное курсанта», и пока его под эскортом вели в комнату, чтобы он мог собрать пожитки, курсанты, собравшиеся возле ограждения, приветствовали Джордана такими громкими криками, что даже несколько остудили гнев генерала Эллиота, польщенного триумфальными проводами, которые устроили его сыну.
До окончания семестра Джордан жил вместе с родителями в Лагере Лежон. В январе он подал документы в Университет Южной Каролины, и на двери нашей комнаты я написал аэрозольной краской: «Убирайся к Фурману!»
Назад: Часть V
Дальше: Глава тридцать третья

