Глава тридцать четвертая
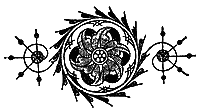
— Итак, Джек. Ты действительно хочешь узнать, что случилось со мной во время войны? Ты по наивности полагаешь, что мой рассказ позволит тебе получить ответы на мучивший тебя вопрос и ты наконец сможешь понять, почему бедная Шайла бросилась с моста в Чарлстоне. Джек, ты наверняка считаешь, что Шайла как-то связывает тот мост с воротами Освенцима. Ты ведь так считаешь, Джек? В твоей жизни все делается по рецепту. Надо просто соблюдать последовательность действий, все точно отмерять, не экспериментировать, правильно выставить время приготовления — и наслаждаться отличной едой в надежном американском доме. Но ты предполагаешь, что я забыл добавить какой-то ингредиент. И вот, получив этот ингредиент от меня, ты сможешь взять его в руки, взвесить, обнюхать, каталогизировать, добавить в пропись, наконец бросить в кастрюлю — и рецепт смерти Шайлы Фокс будет готов.
Джек, у тебя найдется немного времени для ада? Позволь изложить тебе краткую биографию червей. Во время войны черви в Европе были самыми жирными. Я проведу тебя по всем кругам ада, и, думаю, моя экскурсия запомнится тебе надолго. Я был там однажды, все дорожные издержки взяли на себя неулыбчивые турагенты Третьего рейха. Ты любишь шутки, Джек, всегда любил, и я надеялся, что ты улыбнешься при этих словах, но нет — ты остался мрачным. К чему такая серьезность? И ты, и Шайла постоянно твердили мне об этом. Прошлое есть прошлое. Что прошло, то быльем поросло. Ну хорошо. Итак, смеяться ты не собираешься. Обещай мне только одно. Ты должен выслушать все от начала до конца. Даже если почувствуешь, что тебя вот-вот стошнит. Никаких слез. Я тебя задушу собственными руками, если осмелишься пролить хотя бы одну христианскую крокодилову слезу из-за смерти тех, кого я любил. Согласен?
— Согласен, — ответил я.
— Итак, Джек. Наконец-то мы нашли общий язык. Мы долгие годы презирали друг друга, и ни одна живая душа, кроме нас, не знает, каким сильным было наше презрение и как долго все это продолжалось. Я ненавидел тебя по причинам, от тебя не зависящим. Ты тут совершенно ни при чем. Откуда тебе знать, что ты похож на сына эсэсовца, человека, закованного в броню, летчика из люфтваффе? Голубые глаза всегда поют мне только песню смерти. Голубые глаза встретили мою семью на платформе Освенцима. И вот твои голубые глаза я увидел в соседнем доме в Уотерфорде. Менгель, у которого тоже были голубые глаза, показал налево и отправил в газовую камеру всю мою семью. Шайла тоже пошла налево, прямо в твои объятия.
Ты в жизни не встречал такого музыканта, как я. Нет, такого, каким я был когда-то. Я воспитывался в старинных европейских традициях, корнями уходящих в прошлое, где подлинный артистизм — удел избранных. Еще в детстве я заключил договор с пятью горизонтальными линиями, где черные знаки рождают музыку. Мир нотного письма был для меня как открытая книга. В этом мире царят размер такта, ферматы, добавочные нотные линейки, орнаментика и тридцать вторые ноты, которые являются языком и наследием музыкантов всего мира. Это то, о чем ты абсолютно ничего не знаешь. Во всем, что касается музыки, ты и твое семейство — полные профаны. Музыка — то, без чего я не могу жить. Ибо жизнь без музыки — словно путешествие по пустыне, куда не дошла даже весть о том, что есть Бог. В сладкоголосой гармонии музыки я нахожу все необходимые доказательства существования Бога, который держит землю между нотными станами, где лежат Небеса. И здесь Он отметил все линии и интервалы нотными знаками, настолько совершенными, что своей красотой они прославляют все Его творения. В один прекрасный день я даже решил, что достоин сыграть музыку, которую написал и спрятал в созвездиях наш Создатель. По крайней мере, так меня учили думать. Посмотри на звезды. Это только ноты. Это и есть музыка.
Ах да! Холокост, Джек. Да, опять это слово. Это глупое слово, этот пустой сосуд. Я устал от этого слова. Его так затаскали, что оно больше ничего не значит, а мы, евреи, засунули это слово миру в глотку, запугивая каждого, кто осмелится использовать его ненадлежащим образом. Наш бедный мир не в силах выдержать столь тяжкий груз, и все же наш бедный мир обречен вечно качаться под тяжестью этого груза. Следы, оставленные фургонами для перевозки скота, стоны стариков, чувствующих, как в кромешной тьме по ногам течет собственное дерьмо, отчаянные вопли молодых матерей, видящих, как у них на руках умирают младенцы, непереносимая жажда, мучащая детей во время бесконечной транспортировки, жажда, убивающая, терзающая до самого последнего момента, когда миллионы людей в газовых камерах рвутся вверх, раздирают себя кровавыми ногтями под действием газа, истребляющего их, точно насекомых… Холокост. Нет такого английского слова, чтобы вместить в себя столько человеческих сердец!
Мы не уцелевшие. Никто из нас не уцелел. Мы игральные кости. Нас швырнули в преисподнюю, и мы узнали, что человеческая жизнь ценится не дороже слепня, которого можно прихлопнуть. У личинок, что выводятся в экскрементах, было больше шансов выжить, чем у еврея, затянутого в машину Третьего рейха. Нацисты — это гении смерти. Когда война только началась, я еще ни разу не видел умирающего. Когда же она подходила к концу, я так привык к смерти, что даже просил ее забрать меня из этого ужасного мира. Я узнал, что нет ничего страшнее, чем то, когда смерть отказывается тебя забирать. Но смерть не исполняет желания каких-то там игральных костей. Они просто катятся, и какое число выпадет, решает слепой случай. Но кости ведь не способны чувствовать. Их просто бросают — и они падают в пропасть. Я могу рассказать тебе, как отыскать путь в пустоту. У меня есть карта, Джек. Все названия улиц залиты кровью, и все улицы вымощены черепами евреев. Ты ведь христианин, Джек, и чувствуешь, что здесь ты у себя дома. Я ненавижу твое лицо. Мне очень жаль. Я всегда его ненавидел и всегда буду его ненавидеть.
Убийство евреев, облавы, неописуемая жестокость, все невероятное, ставшее обычным делом. Холокост от начала и до конца было христианским изобретением. А иногда — чисто католическим. Все началось с одного наблюдательного еврея, Христа. Этот самый еврейский Христос спокойно смотрел, как во имя Его убивают миллионы Его братьев и сестер. И вот последователи этого Христа, обрезанного, досконально соблюдавшего все еврейские законы, охотились на евреев, словно те были микробами, паразитами. Даже плач наших детей не мог тронуть христианское сердце. Плач наших младенцев приводил в ярость немецких солдат. Младенцы. Такую распущенность рейх расценивал как личное оскорбление. И можно сказать, что им еще очень везло, если они сразу попадали в газовую камеру.
Ты ненавидишь мои глаза, Джек. Все ненавидят мои глаза. Потому что они холодные. Мертвые. Думаешь, я этого не знаю? У меня есть зеркало. Когда я бреюсь, то боюсь увидеть свои глаза. Мои глаза давным-давно умерли, и живут они постольку, поскольку еще живет мое тело. Я могу заставить себя ни о чем не помнить. Но мои глаза видели все, и там, за сетчаткой, на крюках, как мясные туши, висят человеческие тела. Мои глаза отталкивают, поскольку видели слишком много ужаса. Мои глаза вызывают отвращение, и не потому, что нуждаются в отдыхе, а потому, что жаждут забвения.
Сейчас это уже стало клише. Найдется ли кто-то, кто уже тысячу раз не слышал этой истории? Евреи кричат: «Мы не должны забывать!» — и снова и снова рассказывают одно и то же, так упорно, так отчаянно, что слова сглаживаются, становятся округлыми, неразборчивыми, и даже мне хочется заткнуть уши и крикнуть: «Да замолчите же вы наконец!» Я боюсь, что когда-нибудь придет такое время, когда нашу историю просто-напросто не услышат, потому что ее слишком часто рассказывают. Эта история стала общим местом из-за хваленой немецкой аккуратности. Стоило нацистам запустить машину смерти, и они уже ни на шаг не отступили от своей методики. Они входили в каждый большой город, в каждый маленький городок, в каждое местечко, уже имея детально разработанный план по уничтожению евреев. Все мы рассказываем одну и ту же историю. Различие лишь в деталях.
Родился я не среди евреев, как вы все в Уотерфорде привыкли считать. Мой отец был берлинцем, сражался за кайзера, был ранен и награжден за отвагу в сражении на Сомме. Родители матери были музыкантами, а еще владельцами фабрики, славящейся на всю Польшу. Это были граждане мира, Джек, которые попробовали все лучшее, что могла предложить Европа. Евреи Уотерфорда — потомки отбросов русского и польского еврейства, неграмотного и малокультурного, воняющего сырой картошкой да протухшей селедкой. И нечего возмущенно поднимать брови, Джек! Ты должен это знать, так как иначе никогда меня не поймешь.
Руфь — потомок таких вот евреев. Ее родные были крестьянами, торговцами и лесорубами, которые днем говорили на идиш, а по ночам искали вшей в волосах. В Америке они стали бы не лучше черных. Schwarzen. He мне их судить. Просто я хочу объяснить, кто Руфь и кто я. Все дело в происхождении. Европа со своей многовековой историей и моя семья объединили усилия, сделав из меня музыканта. Свою первую сонату я сочинил, когда мне было семь лет. В четырнадцать написал симфонию в честь сорокалетия матери. Во всей Южной Калифорнии не найдется такой культурной семьи, как та, в которой я родился. Я говорю это просто для информации. Никакого высокомерия, всего лишь констатация факта. Своей глубиной Европа наложила неизгладимый отпечаток на мою семью. Европа погрузила нас в свою тысячелетнюю культуру. У Америки нет культуры. Она до сих пор в пеленках.
У меня было четыре сестры, все старше меня. Звали их Беатриче, Тоска, Тоня и Корделия. Как видишь, совсем не еврейские имена, и взяты они были из мира художественной литературы и оперы. Куда бы мои сестры ни шли, их непременно сопровождал смех. Все удачно вышли замуж, сделав блестящие партии. Мне они казались молодыми львицами, сильными, волевыми, и они никогда не позволяли матери бранить меня. Каждый раз, как бедная мама хотела меня отругать, сестры бросались на мою защиту: окружали меня, задевая шелковыми юбками, причем их тонкие талии были на уровне моих глаз, и в четыре голоса спорили с матерью, остававшейся в меньшинстве. Отца, обычно читавшего газету, все это страшно забавляло, словно он смотрел новую комедию в парижском театре.
Мы не были хорошими евреями, мы были хорошими европейцами. Отец собрал потрясающую библиотеку: сочинения Диккенса, Толстого, Бальзака и Золя, причем все книги в кожаных переплетах. Отец мой был прекрасно образован и великолепно воспитан. Его очень любили рабочие фабрики, которой он владел. Он не позволял себе грубости и авторитарности, а поскольку много читал, то знал, что счастье рабочих окупится сторицей, так как их довольство только приумножит его богатство.
Моя семья посещала синагогу лишь по большим праздникам. Родители были гуманистами и рационалистами. Отец был свободомыслящим человеком и витал в облаках, опускаясь на грешную землю, только когда записывал цифры столбиком или заказывал сырье для фабрики.
В нашем доме в Варшаве мама была центром вселенной, и она хотела, чтобы у ее детей было все самое лучшее в мире. Я был ее единственным сыном, и она обожала меня. Ее улыбка была для меня точно солнце. Она стала моей первой учительницей игры на фортепьяно. И она с самого начала сказала мне, что я стану выдающимся пианистом. Врагов у нее не было. За исключением, конечно, всего христианского мира, но в детстве я этого не знал.
В восемнадцать я занял первое место на конкурсе юных пианистов в Париже. Моим основным соперником был голландец по имени Шумейкер. Он был настоящим музыкантом, но не любил сцену. Был еще один пианист — Джефри Стоппард из Лондона. Очень сильный. Обладавший прекрасным ударом, но не имевший никакого театрального чутья. Критики писали, что я шел к фортепьяно, как Князь тьмы. Они прозвали меня Le Loup Noir — Черный Волк.
Но особенно мне запомнился пианист из Германии. Звали его Генрих Бауман, и по своим способностям он был второразрядным музыкантом. Он был одержим музыкой, но ему не хватало одаренности, и он это прекрасно понимал. Мы с ним много лет переписывались, обсуждая музыку, будущую карьеру — словом, все. После конкурса мы всю ночь бродили по Парижу и встретили зарю на ступенях собора Сакре-Кёр. Над городом взошло солнце, окрасив старинные здания в розовый цвет, и от этого зрелища у нас просто дух захватывало. После победы на конкурсе город показался мне еще прекраснее. Генрих занял третье место, что было его лучшим результатом. Письма от него перестали приходить в тридцать восьмом году. Тогда уже стало опасным переписываться с евреем. Даже если это был Черный Волк.
Целеустремленность была моей врожденной чертой. Это качество необходимо для всех великих музыкантов. В погоне за совершенством для лени уже не остается места. По утрам я обычно трудился над гаммами. Я свято верю в гаммы. Освой гаммы — и тебе откроются секреты лучших композиторов. Талант требовал от меня полной самоотдачи. Мне было не до любезностей. Мне не хватало доброты или сердечности, я думал только о черных значках, льющихся с нотного стана, словно вода по камням. Когда я приступал к новым симфониям, то чувствовал неземной восторг. Сейчас я могу сказать, что нечто подобное испытывали астронавты, впервые ступившие на Луну.
Ты спросишь, Джек, зачем я впустую трачу время, рассказывая тебе эту историю? Даже если великий Горовиц будет водить твоей рукой, ты не сможешь сыграть «Собачий вальс». Шайла предала меня, выйдя замуж за человека, столь невежественного в музыке. У меня была первая жена, Джек. А еще трое сыновей. Ты ведь не знал, что до Руфь я уже был женат?
— Нет.
— И не знал, что у меня были дети кроме Шайлы и Марты?
— Нет.
— Впрочем, это не имеет значения. Что толку говорить о мертвых? Согласен?
— Нет.
— Ты не знаешь, что такое — потерять жену.
— Нет, знаю, — произнес я.
— Наша встреча с Соней была предопределена судьбой. Соня была так же прекрасна, как та музыка, которую я исполнял для нее. Она и сама удивительно хорошо играла на фортепьяно, особенно для женщины того времени. Я должен был выступать в Варшаве вскоре после своего парижского триумфа. Билеты раскупили за много недель до концерта. Мое имя было на устах у всех любителей музыки в Польше. Это был первый концерт в месте, где я родился. В тот вечер я играл блестяще. Безупречно. Выступление я закончил Третьей венгерской рапсодией Листа, поскольку она эффектна и нравится публике. Соня сидела во втором ряду, причем я сразу увидел ее, когда вышел на сцену. Она была точно яркое пламя, вырвавшееся на свободу. Вот и сейчас стоит мне закрыть глаза, как я вижу ее, точно время остановилось. Она принадлежала к тем женщинам, которые привыкли к вниманию, и, поймав мой взгляд, поняла, что одержала надо мной победу, так как я позволил ей себя завоевать. Один только взгляд — и я пропал навсегда. И хотя в тот вечер в зрительном зале присутствовало более пятисот человек, я играл только для нее одной. Когда все встали и начали аплодировать, я заметил, что только она одна не поднялась с места. Уже потом, когда мы познакомились, я спросил, почему она осталась сидеть. Она сказала: «Потому что хотела, чтобы ты разыскал меня и задал этот вопрос».
В среде варшавских евреев наша пышная свадьба стала настоящим событием. Наши семьи были очень культурными и состоятельными, причем ее семья по материнской линии подарила Польше целую династию знаменитых раввинов, историю которых можно было проследить вплоть до восемнадцатого века. Свой медовый месяц мы провели в Париже, остановившись в отеле «Георг V». Мы целыми днями, держась за руки, бродили по улицам. И общались друг с другом только по-французски, да, по-французски. Мы даже любовью занимались, шепча друг другу французские слова, и я наконец избавился от застенчивости, когда в ту ночь нашептывал ей на ухо нежные слова по-французски. Позднее она заявила, что забеременела от меня в первую же ночь. Наши тела пылали, когда мы были вместе. По-другому я даже сказать не могу. Думаю, такое происходит только раз в жизни и только в очень юном возрасте, когда чувствуешь, что твоя кожа загорается просто от прикосновения к телу другого человека. Я не мог насытиться ею, и этот праздник плоти продолжался для меня бесконечно. Так любят только раз в жизни.
Соня разбиралась в музыке почти так же хорошо, как я. Она любила сидеть в комнате, где я упражнялся, и я старался как мог, желая получить ее одобрение. Никогда еще не было у меня слушателя столь чуткого и понимающего. Ее беременность была источником несказанной радости для нас обоих, и я изливал свои чувства, сидя за роялем, чтобы мой еще спящий, только формирующийся ребенок мог слушать в чреве матери самую прекрасную музыку на свете. У меня бывали периоды, когда я становился таким сентиментальным, как ты, но ты меня таким и не знаешь. Я давным-давно похоронил все это в своей душе. И я пошел дальше, уже не оглядываясь, не стал читать каддиш, не обронил ни слова похвалы.
Соне эта моя черта нравилась гораздо больше, чем мне. Мои близнецы, Иосиф и Арам, родились в ваш праздник, четвертого июля. Я написал по этому случаю песню и играл ее, пока моя Соня рожала.
Итак, Джек.
Прошло совсем немного лет, но сейчас то время кажется мне периодом абсолютного счастья. Под любящим взглядом моей прекрасной Сони и под лепет моих подрастающих малышей я начал совершенствовать свой дар и превзошел самого себя. Под моими пальцами рояль стонал или бурно ликовал.
Но нацистское чудовище уже росло и набирало силу. Ни один еврей не мог чувствовать себя в безопасности в большом городе, так как голос Гитлера отравлял атмосферу. Однако я, как музыкант, считал, что меня не касается ярость сражений, а вера отцов отходила на задний план, когда я садился за инструмент и извлекал из него страстные звуки, которые Брамс, Шопен и Шуман, эти великие музыканты, оставили миру. Благодаря музыке, Соне и моим прекрасным близнецам я мог не замечать Гитлера. Когда газеты пытались меня напугать, я просто переставал их читать. По улицам поползли страшные слухи, но я заперся дома и велел Соне сделать то же самое. Соня слушала радиопередачи, рыдая от страха, и тогда я навсегда выключил радио. Я не желал слышать лай нацистской овчарки. Политика утомляла меня и вызывала тошноту.
Потом я услышал, как кто-то скребется в мою дверь, и я, пребывавший в святом неведении, лицом к лицу столкнулся с нацистским зверем. Итак, я играл свою музыку, стараясь умилостивить этого кровожадного зверя. Зверю моя музыка нравилась, он ходил на мои концерты, кричал «бис», бросал на сцену розы и выкрикивал мое имя. Он так любил музыку, Джек, что я упустил момент, когда он начал слизывать кровь моей семьи с лап и клыков. На антисемитскую Польшу напала антисемитская Германия. И только тогда я узнал, что началась Вторая мировая война и я со своей семьей оказался в самом пекле.
С первых же дней войны я понял, что не являюсь человеком дела. И действительно, что может музыкант против пикирующего бомбардировщика? Меня парализовал страх, и во время первого авиационного налета я так и остался у рояля, поскольку был просто-напросто не в состоянии двинуться с места. Мне казалось, что у рояля мне гораздо спокойнее, чем в подвале, где прятались моя жена и соседи. Я слышал приближение самолетов, слышал вой сирен воздушной тревоги и понимал, что должен делать, однако не мог заставить себя бежать. Вместо этого я импульсивно сел играть сонату Бетховена № 32, си минор, опус 111. Собрав остатки сил, я играл его последнюю сонату из серии, состоящей из тридцати двух.
Ты никогда не жил в оккупированной стране. И представить себе не можешь хаос, отчаяние, панику, царящие на улицах. Именно поэтому, как мне кажется, современная музыка и современное искусство так уродливы. Когда моя жена Соня вышла из подвала после того, как бомбардировщики вернулись на базу, она нашла меня сидящим за фортепьяно и играющим, как одержимый. От страха я даже обмочился. Так сильно я испугался во время первого налета. Мне, наверное, казалось, что моя музыка спасет меня, станет защитным барьером, прикроет непробиваемым щитом. Соня была очень добра ко мне. «Все хорошо, мой милый. Ну вот, дай я тебе помогу. Обопрись на меня, пожалуйста». Во время воздушного налета я и не вспомнил о Соне или о мальчиках. Ни разу. До той минуты я и не подозревал, что я такой трус, презренный трус. Теперь и Соня узнала об этом.
Отец Сони, Саул Юнгерман, был человеком дела. Он сохранял ясность ума в самые опасные моменты. Он уже прочитал книгу Гитлера «Майн кампф» и с тревогой следил за восхождением фюрера. Юнгерман был богатым фабрикантом, имевшим производства в четырех странах. И вот он сказал нам, что знает о намерениях Гитлера. Он велел нам бежать на восток, причем как можно быстрее, чтобы опередить наступающую германскую армию. Два его сына, Марек и Стефан, отказались покинуть Варшаву, поскольку их жены, родившиеся в большом городе, не мыслили себе жизни без комфорта. У них были дети школьного возраста. И даже если немцы все же победят, они ведь не смогут запретить детям ходить в школу! Сейчас, конечно, легко смеяться над их глупостью, но нельзя забывать о том, что тогда слова «Треблинка», «Освенцим», «Маутхаузен» еще не были известны. Ни один из членов семьи Сони, оставшихся в Варшаве, не пережил войну. Ни один.
На улицах Варшавы творилось какое-то сумасшествие, да и сам город казался раненым и истекающим кровью, но Саул Юнгерман все же вывез нас на барже по Висле, а затем на запряженных волами телегах мы проехали еще двадцать километров к ферме, возле которой нас должны были ждать два автомобиля с водителями в униформе. Здесь главную роль сыграло даже не то, что отец Сони был очень богат. Многие богатые люди погибли от голода в варшавском гетто. Нет, самое главное было то, что Юнгерман разработал план и взялся за его осуществление. Днем мы спали, а ночью ехали. На четвертую ночь нашего тяжкого пути мы подъехали к границе и оказались на территории, контролируемой Красной армией. Саул решил, что там его семья будет в безопасности, поскольку Молотов и Риббентроп подписали пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. Брат его жены — владелец фабрики, и он ждет нашего приезда. Итак, пятого сентября нас принимает его семья. Нас размещают в красивом доме с хорошим фортепьяно, только что настроенным в честь моего приезда. Город, оказавший нам гостеприимство, находится на Украине. И называется этот город Кироничка.
Колесо судьбы неумолимо вращается, а человек и не подозревает, что его ждет. Мы попадаем туда, откуда родом твой Великий Еврей, Макс Русофф, и его жена Эсфирь. Но судьба раскрывает свои карты не сразу, а постепенно. Итак, мы оказываемся в Кироничке, и я каждый день играю на фортепьяно, а на улице собираются толпы народу послушать мою музыку. С самого начала у нас все идет хорошо. В Кироничке много евреев, около двадцати тысяч, а потому принимают нас очень тепло. Из Варшавы каждый день поступают тревожные вести, но мы узнаем обо всем лишь из новостей по радио. Семнадцатого сентября Советский Союз нападает на Польшу с востока.
Я работаю учителем музыки, некоторые мои ученики очень талантливы, и все же это не та жизнь, которую я для себя хочу. Мой тесть совершает несколько весьма рискованных поездок в Варшаву: привозит своей семье еду и лекарства, а затем с невероятным трудом возвращается в Кироничку. Я еще никогда не встречал такого отважного человека. То, что он рассказывает о жизни в Варшаве, еще страшнее, чем то, что выпало на нашу долю. К ноябрю основные районы проживания евреев окружают колючей проволокой. Евреям приказывают надеть повязку с желтой звездой Давида. Как мы ни уговариваем Саула Юнгермана, нам так и не удается убедить его больше не ездить в Польшу. Он считает себя в первую очередь польским патриотом.
Когда мы приезжаем в Кироничку, Соня уже беременна третьим ребенком, но мы еще об этом не знаем. Но и ребенок не знает, в какой мир ему предстоит войти, и продолжает расти в утробе матери. Мы, конечно, ужасно беспокоимся о наших родных, остающихся в Польше, но все же рады, что успели бежать. Мой третий сын, Натан, родился в июне. Если бы я мог предвидеть будущее, то размозжил бы Натану голову о скалу подле реки. Я отравил бы крысиным ядом своих близнецов, Соню, а потом и себя.
В июне сорок первого немцы объявляют войну Советскому Союзу. Двадцать второго июня на Кироничку падают первые бомбы. И вот спустя три недели, после непродолжительной оккупации венгерскими войсками, я слышу на улице три самых страшных слова в своей жизни: «Немцы уже здесь».
Немцы уже здесь. В тот же миг все меняется для евреев. Поскольку СССР — союзник Германии, мы получаем передышку и из-за этого забываем об осторожности, считая себя в безопасности. Из Варшавы и разных районов Польши до нас доходят слухи о судьбе евреев, но мы стараемся об этом не думать. В конце концов, немцы такие же люди, как и мы. В этот же год я начинаю ходить в синагогу на утреннюю молитву. А потом в один прекрасный день немцы сжигают ее дотла вместе с сотней евреев внутри. Если бы в то утро Соня не заболела, я мог бы погибнуть вместе с ними. Хотя сейчас я хорошо понимаю, что евреям, заживо сгоревшим в то утро, еще сильно повезло.
А потом появляется гестапо, бесчеловечное, но прекрасное той красотой, от которой кровь стынет в жилах. Гениальность гестапо состоит в том, что им удается поставить себя выше милосердия. К ним невозможно обратиться, как к обычным людям, поскольку они сверхчеловеки. Один украинский коммерсант является владельцем самого большого дома в городе, и дом этот выбирает под штаб-квартиру гауптштурмфюрер Рудольф Крюгер. Козак, так звали того человека, протестует, говорит, что его семья — одна из самых известных на Украине, и требует к себе должного уважения. Крюгер его уважил, повесив на балке собственного дома. Тело висит несколько недель в назидание жителям Киронички. И только когда от трупа начинает исходить сильный запах, Крюгер приказывает снять мертвое тело и бросить в сточную канаву.
И конечно, в этой объявленной против евреев войне немцы несут неоправданно большие убытки. А потому все еврейское население обкладывают контрибуцией. В этом они прибегают к помощи украинцев. И если украинцам удалось пережить эту уродливую главу своей истории, это значит, что в течение всей войны Бог просто спал. В Кироничке евреи носят повязку не с желтой, а с голубой звездой Давида шириной десять сантиметров. Евреи сдают в юденрат все изделия из золота и серебра. Наши с Соней обручальные кольца постигает та же участь. У нас отключают электричество, отбирают кожаную обувь. Конфискуют все немецкие книги. Мы — в руках преступников, убийц и воров. И это мы, богоизбранный народ!
Некоторые бедные запутавшиеся евреи верят, что если примут христианство, то избегут ужасной участи своих соплеменников. И вот как-то в пятницу проходит массовое крещение, во время которого оцерковляют двадцать еврейских семей, за исключением нескольких стариков. Гестапо приготовило подарок в честь крещения и уже ждет новых неевреев. Их отводят на христианское кладбище и расстреливают из автоматов. Включая женщин и детей. Позднее один из членов юденрата, который уже лучше знаком с Крюгером, спрашивает у него почему. А тот все оборачивает в шутку: «Если приведешь в собор свинью, у тебя будет ветчина и бекон, а собор как стоял, так и будет стоять». Я тоже становлюсь членом юденрата.
Юденрат. Тебе, Джек, это слово незнакомо. Оно для меня как несмываемое пятно позора. Я еще никому и никогда не признавался, что занимал такую должность, и ты первый, кому я это говорю.
Крюгер организовывает комитет, который состоит из евреев и должен заниматься вопросами управления новым гетто. Тех, кому не удается вступить в юденрат, ждет неминуемая и скорая смерть. Вступление в юденрат означает сотрудничество с немцами в деле истребления и истязания собственного народа. Когда немцам требуется собрать бригаду для ремонта моста, юденрат предоставляет Крюгеру список евреев. Когда немцы решают провести Aktion, так называемую акцию, и уменьшить число жителей гетто, мы решаем, кого из евреев выгонят на главную площадь, посадят в грузовики и увезут прочь, чтобы больше их никогда не увидеть. Делая это, я искренне считаю, что тем самым спасаю жизнь Сони и мальчиков. И я спасал. Но ради чего спасал?
Председатель юденрата — хирург по имени Исаак Вайнбергер. Это задумчивый, терпеливый человек, свято верящий в то, что нацистов, как и других людей, можно переубедить. Он настаивает, чтобы мой тесть, Саул Юнгерман, вступил в юденрат. Саул хорошо понимает всю опасность этой должности, но одновременно и то, какую пользу может принести семье этот его шаг. Саул настаивает и на моем участии в работе юденрата. С самого начала он пугает меня, говоря по секрету, что нацисты собираются истребить всех евреев на земле. Я смеюсь над его словами и говорю, что война пробуждает в каждом человеке склонность к сильному преувеличению. Саул снимает очки, протирает их и говорит, что всегда восхищался моим талантом, который, однако, не мешает мне оставаться дураком. Мы сидим у себя дома в гетто, рядом играют дети, а жена с тещей на кухне готовят еду и сплетничают. «Они все трупы, — шепчет мне Юнгерман. — Они все трупы».
Тридцатого августа юденрат должен предоставить немцам список евреев-интеллектуалов. В списке этом двести семьдесят учителей, тридцать четыре фармацевта, сто двадцать шесть врачей, тридцать пять инженеров. Я тоже здесь значусь как музыкант. На следующий день отбирают сто человек из списка. На рассвете они садятся в грузовики, прощаются с рыдающими семьями и навсегда исчезают с лица земли. За исключением одного человека.
Его зовут Лаубер, и он — один из тридцати четырех фармацевтов, внесенных в список. Он возвращается обратно в гетто, ночью, тайком, словно там его ждет спасение. Он страстно желает очутиться в объятиях жены, услышать голоса своих детей. И он это получает. Он рассказывает свою историю женщинам, чьих мужей увезли на грузовике. Их везут за пятьдесят километров на гороховое поле, дают в руки лопаты и заставляют копать. Они выкапывают огромную яму, затем раздеваются догола и встают на колени на краю ямы. А потом нацистские автоматы избавляют их от тяжести войны. Все эти избранные люди вернулись к Богу, избравшему их.
Но никто не верит Лауберу. Гестапо находит его. Они отвозят его, его жену, его детей, его родителей и еще две другие семьи из дома на еврейское кладбище и расстреливают всех до одного. Только после этого несчастного Лаубера перестают считать лжецом. Жена Лаубера, умирая, кричит на него, что он не должен был возвращаться.
Гауптштурмфюрер Крюгер — это жестокий обыватель и свинья, пытающаяся показаться образованным и воспитанным человеком. Доктору Вайнбергеру он твердит о своей любви к Вагнеру, а сам не может назвать арию, которую любит насвистывать. Вайнбергер рассказывает ему обо мне, и Крюгер велит мне играть на фортепьяно для группы немецких офицеров, отправлявшихся на передовую. Пока они едят, я играю им и слышу, как немцы хвастаются своими успехами на русском фронте. Они разговаривают как нормальные люди, пока не напиваются, и тогда начинают говорить как нацистские солдаты. За столом они поглощают столько мяса, сколько и не снилось евреям с тех пор, как воздвигнуты стены гетто. Потом немцы переходят в библиотеку выкурить сигару и выпить коньяку. Все, за исключением одного офицера, который подходит к фортепьяно и слушает мою игру. «Ты до сих пор играешь как ангел. Даже в такие времена, как сейчас».
Я поднимаю глаза и вижу своего друга Генриха Баумана. Он присаживается рядом со мной, и мы начинаем играть по очереди. Он исполняет Моцарта, а я в ответ — Шопена. Пока мы играем, Бауман расспрашивает меня обо мне и о моей семье. Он говорит, что у меня имеются серьезные причины для беспокойства, так как я еврей. После ужина он отвозит меня на своей машине в гетто. Солдаты отдают ему честь. Он боевой офицер, не эсэсовец. Он входит в мой дом, он знакомится с Соней, целует спящих детей. Кланяется Саулу Юнгерману и моей теще. Он оставляет нам мешок продуктов: пшеничную муку, банки с тушенкой, пакеты с кукурузной мукой. Уходя, герр Бауман целует меня в щеку и извиняется за всю немецкую нацию. Мы по-прежнему члены музыкального братства, говорит он мне. Его убивают под Сталинградом.
Хороший немец? Нет. Герр Бауман воюет в гитлеровской армии. В лучшем случае он был, как я, членом своего юденрата. Есть несколько немцев, которые не могут простить мне участие в работе юденрата. Они знают меня. В каком-то более глубоком смысле я один из них, и это связывает нас, делая представителями самой печальной разновидности рода человеческого. Мы танцуем с врагом и даем ему вести нас в танце.
Как думаешь, Джек, ты смог бы бросить свою дочь Ли в печь крематория? Конечно нет. Ты сильно ее любишь. Давай я заставлю тебя голодать целый год. Давай полностью подчиню себе. Давай буду убивать каждого, кого ты любишь, заставлю работать на износ. Давай я буду тебя унижать, напущу вшей в волосы, а в хлеб — личинок. Давай доведу тебя до края, когда ты начинаешь терять человеческий облик и способен на самый безнравственный поступок. Именно это они со мной и сделали, Джек. К концу войны я мог бы выбросить в печь крематория самого Мессию и сделал бы это за лишнюю миску похлебки. Я мог, не задумываясь, выбросить Руфь, Шайлу, Марту, Соню, сыновей, Ли и всех других в это пламя. Вот в чем штука, Джек. Нужно окончательно сломать человека — и тогда он твой. Давай я сломаю тебя так, как сломали меня, и обещаю: ты бросишь Ли в огонь, повесишь ее, будешь спокойно смотреть, как ее насилует сотня мужчин, а потом перережешь ей горло и бросишь собакам на улице расчлененное тело. Я тебя расстроил. Мне очень жаль. Но я знаю, что говорю. И ты должен знать: ты сможешь убить Ли собственными руками, так как мир раскололся на части, а Бог от нас отвернулся, и ты подумаешь, что, убивая Ли, доказываешь тем самым свою великую любовь к ней. Я сам, не дрогнув, убил бы ее прямо сейчас, лишь бы она не прошла через все то, через что прошел я, Джек. А ведь я люблю твою дочь больше всех на свете.
Нет, Ли не напоминает мне сыновей, о которых я скорблю. И Шайлу тоже не напоминает. Она гораздо спокойнее и выдержаннее Шайлы. Нет, твоя Ли поразила меня в то самое место, которое, как мне казалось, уже умерло. Она напоминает мне Соню, мою любимую покойную жену.
Крюгеру, похоже, я начинаю нравиться, и то, что я играю для него, пока он обедает, полностью согласуется с его представлением о себе как о человеке культурном. Он быстро пьянеет и тогда плачет. Его сын Вильгельм возвращается с русского фронта, чтобы отпраздновать девятнадцатый день рождения. Они оба напиваются и заставляют меня снова и снова играть немецкие народные песни. Потом, когда приходят две украинские шлюхи, меня выгоняют. На следующий день они отбирают десять молодых евреев и отвозят их за пятнадцать километров в поле у реки. Евреям этим говорят, что они могут бежать к реке и если добегут, то станут свободными людьми. Крюгер с сыном стоят посреди поля с охотничьими ружьями. Когда евреи начинают бежать, отец и сын по очереди стреляют по бегущим. Они очень меткие стрелки. Евреи бегут очень быстро и стараются увернуться, но ни одному из них не удается достичь реки. Крюгер сам рассказывает мне эту историю как-то вечером, когда я по его приказу играю ему только Гайдна.
Гестапо хватает одного старого ортодоксального раввина по фамилии Небеншталь, когда тот молится, и публично унижает. Они заставляют его плевать на священную Тору, пока у него не кончается слюна. Потом заставляют его мочиться на Тору. Потом хотят, чтобы он испражнялся на Тору, чего он не может сделать, поскольку давно не ел. Они приносят ему хлеб. Запихивают в горло буханку за буханкой, но действуют слишком рьяно, так что душат его этим хлебом и оставляют лежать на улице. Евреи начинают драться из-за хлеба, торчащего изо рта мертвого раввина. Другой раввин подбирает поруганную Тору и тайно хоронит ее на еврейском кладбище.
В октябре Крюгер требует, чтобы юденрат провел еще одну селекцию. На сей раз требуется тысяча евреев. Гетто снова в ужасе замирает. Мы выбираем самых никчемных евреев — бедных и всеми презираемых. Больные и голодные — легкая мишень, как и старики, не имеющие влиятельных родственников. Мы просто защищаем собственную семью и своих друзей. Каждый раз, вальсируя с врагом, мы обесцениваем себя как личности и опускаемся все ниже. После окончания селекции и отъезда грузовиков с людьми нацисты дают нашим семьям дополнительную пайку. За лишнюю буханку хлеба мы обрекаем сынов Израилевых на участь гораздо более страшную, чем рабство.
Однажды мой тесть чуть ли не силой приводит меня на фабрику. Директор швейной фабрики вместе с русскими эвакуирован из города, и Саулу приходится взять управление производством в свои руки. Это фабрика по шитью одежды, и по приказу немцев ее перепрофилируют для пошива шинелей. Саул приставляет меня к старшему мастеру и приказывает ему научить меня шить шинели. Я в ярости кричу, что я пианист, а здесь место, где работает быдло. Саул сгребает меня в охапку и трясет как грушу. Он стар, но очень силен. «Учись шить! — кричит он. — Учись делать то, что может потребоваться немцам! А сейчас им нужно это».
Итак, старший мастер показывает, как делать строчку на машинке. Заставляет повторять все снова и снова, пока шов не получится ровным. А еще надо знать много всего о молниях и воротниках. Саул приходит проверить, как идет обучение, и мы опять ссоримся. И все же он принуждает меня ходить туда каждый день. Я шью, вместо того чтобы играть гаммы. Я шью, вместо того чтобы разучивать произведения великих композиторов. Я шью и ненавижу своего тестя. Вот и сейчас, сорок лет спустя, я говорю тебе, что этот человек, которого я ненавижу, Саул Юнгерман, просто хочет спасти мою жизнь, делая из меня портного. Нацисты отправили бы в газовую камеру самого Бетховена, если бы он не смог сшить рубашку для солдата на Восточном фронте. Благодаря ему я и музыкант, и портной.
Евреи очень боятся молодого гестаповца по фамилии Шмидт. У него привычка: на улице сбивать с ног проходящих мимо евреев. Шмидту нравится, когда пожилые евреи, завидев его, падают на колени. Как-то раз я вижу это собственными глазами. Шмидт идет по улице гетто, и каждый мужчина опускается перед ним на колени. В том числе и я.
Шмидт — альбинос и известный насильник. Он насилует польских и украинских девушек наряду с еврейскими. Правда, с одной лишь разницей. Еврейских девушек он насилует у них дома, чтобы в соседней комнате слышали родители, а потом их убивает. Некоторые девушки еще совсем дети. Евреи прячут своих дочерей, как только разносится слух, что Шмидт подходит к гетто.
Очень скоро ты начинаешь понимать, что жизнь еврея ничего не стоит. Это единственная вещь, в которой ты можешь быть уверен в гетто. Голод — вот твой удел. Поиски еды становятся навязчивой идеей. Четырнадцать входов в гетто охраняет украинская полиция. Некоторые украинцы добры к нам, так как сами ежедневно испытывают на себе те же ужасы, что и евреи. Презренные информаторы из числа евреев докладывают немцам о доброте украинцев. Их навсегда убирают из охраны, и больше уж мы их не видим. Ordnungsdienst носят форму, которая похожа на военную и которую сами разработали. Это еврейская полиция, и они получают поблажки, работая информаторами на гестапо. Это марионетки в руках гестапо. Но должен тебе сказать: все они не хуже меня. Гетто — скотобойня, а мы — скотина, которую ведут на убой. Единственный способ для еврея доказать свою невиновность во всем этом кошмаре — оказаться мертвым. Люди начинают умирать от голода, и их тела складывают штабелями прямо возле домов, точно дрова в поленнице. И все без исключения завидуют мертвым.
Но есть такие евреи, которым живется еще хуже, чем остальным. Я вижу мужчин, которым поручено спускать фекалии в реку. Это до крайности истощенные люди, и они тащат телеги, словно старые клячи. Это работа, унижающая, убивающая человека. От них отвратительно пахнет. И все же они спасают всех нас от эпидемии. Хотя большинство из них в конце концов умирают от тифа.
Гизела. Так зовут мать Сони. Она очень добрая, ласковая, и ее все любят. Но Саул Юнгерман сводит ее с ума, так как постоянно идет на риск. Саул подкупает украинскую и еврейскую полицию. Ему даже удается подкупать людей из гестапо. Более того, он организует доставку еды в гетто. Зная о возможных последствиях своего глупого поведения, Саул Юнгерман налаживает связи с партизанами, нападающими на немецкие патрули. Информатор из числа евреев, негодяй по фамилии Фелдман, доносит в гестапо, что Саул контрабандой пронес в гетто оружие. Это явная ложь, но донос становится смертным приговором для Саула Юнгермана. Вместе с ним гестапо хватает и его жену Гизелу. Соню с сыновьями тоже должны были забрать, но в этот момент Соня с мальчиками на улице в поисках молока. В отчаянии я обшариваю все гетто и нахожу их спрятавшимися в канализационном колодце.
В тот же вечер я играю на фортепьяно во время ужина в доме Крюгера. Он даже вида не показывает, что мой тесть у него в руках. Прежде чем я набираюсь храбрости, чтобы спросить о родителях жены, он отпускает меня домой. Когда Соня узнает, что я не спросил о том, что ждет ее родителей, она отворачивается от меня. Снова и снова отворачивается она от меня, когда я пытаюсь оправдаться.
Ко мне приходят другие члены юденрата, обеспокоенные судьбой Саула и Гизелы. Мы решаем отправиться все вместе к Крюгеру, чтобы узнать, что с ними. Нам кажется, что мы можем взять числом. Нашу делегацию возглавляет председатель юденрата — доктор Исаак Вайнбергер. Его уважают даже нацисты, так как ему удается вылечить гестаповцев, получивших переломы после падения грузовика в кювет. Мы приходим в кабинет Крюгера, и тот начинает бить Вайнбергера стеком и продолжает экзекуцию, несмотря на наши мольбы. Крюгер кричит на нас, грозит провести специальную Aktion для всего юденрата и их семей, если мы не научимся уважать его высокое положение. Затем он кидается ко мне с воплями. Он, дескать, знает, что это я за всем этим стою. Итак, говорит он, хочешь увидеть своего тестя? Я не отвечаю, потому что немею от страха. Однако киваю головой. Крюгер говорит, что умеет обращаться со свиньями. Его дед держал свиней, и свиньи эти всегда кончали одинаково. Потом он ведет меня на бойню за гетто и вводит внутрь. Здесь у гестапо тюрьма и место для допросов. Я слышу крики и стоны людей, но никого не вижу. Крюгер быстро идет вперед, я следую за ним. Повсюду запах крови и испражнений, но трудно сказать, чья это кровь — животных или людей. Мы подходим к охраннику возле двери. «Юнгерманы готовы для посещения?» — спрашивает Крюгер охранника на диалекте, который, как он думает, я не пойму.
Гестаповец ухмыляется и отвечает, что они готовы для любых посещений. Я делаю шаг в темноту, и Крюгер зажигает лампу. Саул Юнгерман висит на крюке, на который подвешивают туши животных. Острие протыкает его насквозь под лопаткой. Я не узнаю его лица: так сильно избит Саул. Но он еще жив, и его опухшие глаза устремлены на что-то в другом конце комнаты. Я смотрю туда же и вижу обнаженную Гизелу. Она висит, подвешенная за ноги, и ее тело распорото от горла до промежности. Вываливающиеся внутренности почти скрывают ее лицо. Крюгер быстро выходит вон, и я слышу, что его рвет в коридоре.
В тот вечер он заставляет меня играть «Времена года» Вивальди.
И хотя Соня постоянно задает мне вопросы, я не рассказываю ей об увиденном на скотобойне. Говорю, что ее родителей увели под конвоем. Я ничего не рассказываю и другим членам юденрата. Так как не думаю, что мне стоит еще больше нагнетать обстановку, усиливая их страхи. Мы все уже прекрасно знаем, что находимся в руках сумасшедших и мясников. Соня сама себя успокаивает, лелея надежду, что, возможно, ее родители отправлены в трудовой лагерь. Я старательно поддерживаю такие мысли. Отчаяние — наш хлеб насущный, и его у нас сколько душе угодно.
В июле — еще одна Aktion и еще пятьсот евреев отправляются на убой. Бригаду еврейских пожарных вывозят в поле и заставляют копать братскую могилу. Потом несчастных евреев принуждают раздеться догола. Один молодой еврей по фамилии Волынский набрасывается на гестаповского охранника. Волынскому удается привязать к ноге нож длиной шесть дюймов, и он втыкает этот нож в горло гестаповца, а тот, захлебываясь собственной кровью, бежит за Волынским и закалывает его штыком. Ответ не заставляет себя ждать. Волынский еще не успевает умереть, как уже становится причиной того, что нацисты облагают евреев дополнительной контрибуцией. На следующий день немцы решают почтить память убитого гестаповца тем, что приказывают нам составить список еще из пятисот евреев, подлежащих уничтожению. Я знаю. Вместе с другими членами юденрата я всю ночь вношу имена евреев в этот список. И как всегда, мы выбираем самых бедных и беспомощных. И как всегда, мы выбираем тех, кого не знаем и с кем не связаны кровными узами.
Всю свою жизнь я был фанатиком чистоты. Но в гетто приходится навсегда забыть о гигиене. Как любой другой еврей, я вынужден выживать в нечистотах. Ночью крысы становятся властителями тьмы, и мы слышим, как они гремят кастрюлями и сковородками в поисках объедков. Лучшее место для крыс — это кладбище, где они жиреют, питаясь останками умерших от голода людей. Кроме того, нас осаждают клопы, которых так много, что нам нередко приходится забирать детей и отправляться на улицу — спать под звездным небом. Зимой у нас нет другого выбора, как воевать с клопами, тараканами и вшами. Вода — на вес золота. Даже грязная и тухлая. Как-то вечером один старый еврей находит время закрыть глаза, чтобы произнести молитву над куском хлеба, который он собирается съесть, но вдруг из шкафа выскакивает крыса и выхватывает хлеб из рук старика. Еврей в ярости убивает крысу ботинком, потом разделывает ее, жарит на костре и с жадностью поедает. К нему приходит раввин, но не для того, чтобы наказать старого еврея за употребление некошерной пищи, а для того, чтобы узнать, какова она на вкус. Вот так велико отчаяние евреев Киронички.
Громила по фамилии Бергер назначен следить за Ordnungsdienst, после того как его предшественника прямо на улице застрелил обершарфюрер за то, что тот недостаточно быстро выполнил приказ. Бергер силен как бык, и он всего-навсего простой грузчик на железнодорожной станции. Это пьянчуга, деревенщина и тупой, как гой, уж извини, Джек, за такое сравнение. Такие люди, как Бергер, противны другим евреям, но им ведь сделали обрезание, согласно нашим законам, а потому их приходится терпеть. Нацистам все равно, кто перед ним, Эйнштейн или Горовиц, если на дверном косяке у него висит мезуза и крайняя плоть обрезана. Бергеру выдают дубинку и форму, и он с удовольствием бьет образованных евреев, чтобы добиться послушания. Евреи боятся его даже больше, чем простого немецкого солдата.
Некоторые еврейские девушки становятся немецкими подстилками или ложатся под любого, кто может их накормить. Если немецкий солдат спит с еврейской девушкой, то по законам расовой чистоты их обоих ждет смерть. Но мужчины есть мужчины, а женщины есть женщины, и за еду каждый сделает все, что угодно. Так как я член юденрата, еды у нас больше, чем у других, а потому я не слишком беспокоюсь.
Как-то раз иду я домой по главной улице гетто после тяжкого дня на фабрике, когда мы переделывали шубы в теплые шинели для немецких солдат с Восточного фронта. Я чувствую себя очень усталым от работы и безысходности. И вот иду я медленно домой, опустив голову, стараясь не привлекать к себе внимания, что является лучшим способом выживания. Вдруг возле меня начинается какое-то волнение. Крики, причитания, плач. Я поднимаю глаза и вижу, как гестаповцы хватают двух еврейских мальчиков, которые контрабандой приносят в гетто еду. Одному мальчику десять лет, а другому — девять. Это братья, и они плачут, когда солдаты снова и снова бьют их по лицу. Мальчиков волокут на площадь и ставят под петли, свисающие с виселиц, на которых обычно вешают евреев, поляков и украинцев, провинившихся перед нацистами. Нацисты любят вешать людей в назидание остальным. В этот момент на площадь на автомобиле въезжает Крюгер.
Оба мальчика истошно кричат, когда их подталкивают к виселице, но поскольку они, в сущности, еще совсем дети, я думаю, что все обойдется. Они пытались тайком пронести в гетто рыбные консервы и бутылку водки, продукты, которые сейчас стоят баснословные деньги. Мальчиков ставят на табуреты, завязывают за спиной руки и накидывают петли на шеи. Сцена — словно из дурного сна. Я слышу, как евреи стонут потихоньку, потому что не решаются открыто протестовать. Мне кажется, что я иду по какой-то странной местности, будто из ночного кошмара. Я не могу оторвать глаза от мальчиков, которые в обычных обстоятельствах играли бы в футбол на школьном дворе. И вдруг я слышу, как выкрикивают мое имя: это Крюгер, заметивший меня в толпе, приказывает выйти вперед. «Они ведь еще дети», — говорю я, не поднимая головы, и он бьет меня по лицу стеком, и я чувствую во рту вкус крови. Затем я слышу шум, и к нам, расталкивая толпу, приближается какой-то человек. Это Бергер, громила и надутый осел из Ordnungsdienst. «Это мои сыновья! — кричит он. — Сыновья вашего преданного слуги Бергера, который сам накажет их так, что они надолго запомнят. Богом клянусь!» «Это не мальчики и не сыновья, — говорит Крюгер толпе. — Это враги рейха, которые должны быть сурово наказаны».
Крюгер подходит к виселице и проверяет, крепко ли затянуты веревки. Мальчики отчаянно кричат и зовут отца, который пытается пробиться к ним, но падает наземь после удара прикладом по затылку. Бергер силен как бык, и он совсем обезумел от страха и воплей сыновей, а потому с трудом поднимается на ноги и кричит сыновьям, чтобы те не волновались. Он говорит сыновьям на идиш, что Яхве обязательно защитит их. Но Яхве уже несколько лет находится в продолжительном отпуске, где-то очень далеко от избранного народа. В Восточной Европе, Джек, его тогда точно не было.
И снова Крюгер выкрикивает мое имя. Он говорит со мной очень тихо, почти по-дружески, так, чтобы не слышала толпа. «Ты член юденрата, лидер твоего народа, — шепчет он мне. — Я хочу увидеть, как ты принимаешь трудное решение, доказываешь свою способность к действиям, которая в военное время требуется от всех слуг рейха. Вы все слишком долго были паразитами и пиявками. Ты должен совершить поступок, который поможет рейху избавиться от кровососов. Ты повесишь эти два куска дерьма, пианист!»
Бергер умоляет пощадить его детей, и я вижу, как немецкие солдаты вбивают эти слова ему в глотку, но он очень сильный да к тому же совсем озверел. Он прокладывает себе путь через толпу, пока его не останавливают три гестаповца, выросшие словно из-под земли. А потом Крюгер снова обращается ко мне — эти слова, Джек, что-то изменили во мне — и говорит: «Если сегодня ты их не повесишь, завтра на этой самой виселице я повешу твою красивую Соню и твоих красивых детей».
После этих слов я перестаю колебаться. Я подхожу к мальчикам и прямо на глазах их отца, смотрящего на меня с ненавистью, выбиваю из-под них табуреты. Крюгер хватает меня за шею, я хочу отвернуться, но Крюгер крепко держит меня. Он заставляет меня смотреть, как мальчики дергаются в петле и агонизируют. Младший умирает гораздо дольше, чем старший.
Бергер начинает выть от боли — боли, подобной которой я никогда не слышал в голосе человека. Так она глубока. Его оттаскивают в сторону и потом, как я знаю, отвозят в гестапо. Живыми оттуда возвращаются только шлюхи. Дома я рассказываю Соне о том, что сделал, а она крепко прижимает меня к себе и снова и снова целует мое лицо. Она умоляет меня не мучиться и не страдать, говорит, что нас, евреев, проверяют на прочность, и как евреи мы обязаны выжить, и это докажет всем, что мы происходим от народа, которого преследуют уже три тысячи лет. «Они могут что угодно делать с нашими телами, — говорит мне Соня, целуя и крепко прижимая меня к груди, — они могут морить нас голодом, и пытать нас, и убивать нас десятками тысяч, но души наши отнять не смогут. Они не смогут, дорогой мой муж, отнять у нас то, чем мы являемся».
В отношении себя Соня была права. Она ошиблась в отношении Джорджа Фокса.
В тот вечер Крюгер просит меня сыграть что-нибудь из Гайдна, но я играю ему что-то из Телемана, и этот идиот понятия не имеет о моем обмане. Быть не слишком культурным — это не грех. Грех — притворяться культурным. В этот вечер, исполняя Телемана, я представляю себе, будто играю перед членами королевской семьи в Лондоне и играю так блистательно, что даже сдержанные британцы аплодируют мне стоя. Я пытаюсь внушить себе, что не участвовал в казни двух невинных еврейских мальчиков. Но когда я исполняю Телемана, их кровь на моих руках.
Приходит осень. И с наступлением холодов этот монстр Крюгер начинает сильно нервничать. В иные дни он не выходит из дому, а в другие — он очень буйный, жестокий и вездесущий. Как-то гестаповцы обнаруживают, что одна еврейская семья прячет золото и бриллианты в тайнике под камнем христианской церкви, и Крюгер насмерть забивает всю семью статуей святого Иосифа, взятой им в той же церкви. Среди его жертв и двухлетняя девочка. Бригаде еврейских пожарных приказывают подготовить могилы не менее чем для пятисот человек.
В один из дней, когда Крюгер нервничает еще сильнее, чем обычно, он приходит на фабрику, где я шью шинели. При его появлении все еврейские портные так дрожат, что у них вот-вот случится инфаркт. Крюгер является к нам как ангел смерти, сошедший на землю, и то, что он заправляет царством ужаса, накладывает печать на лицо гестаповца. Плоть его обвисла, и кажется, что он гниет изнутри. Крюгер манит меня пальцем и велит следовать за ним. Что мне остается делать? Я его раб, а потому покорно иду за ним.
Крюгер сажает меня на заднее сиденье автомобиля. Он плюет на мою звезду Давида, словно желая напомнить мне, что думает о всех евреях. Мне становится даже смешно: разве я нуждаюсь в напоминаниях? Он везет меня по улицам Киронички и останавливается возле приюта для маленьких детей. В этот месяц в город прибывает огромное число венгерских евреев, которые не нужны гетто и от которых нет никакой пользы. По отношению к своим венгерским соплеменникам евреи Киронички ведут себя просто гнусно. Правда, есть несколько заметных исключений. Среди людей всегда встречаются заметные исключения, благодаря которым кажется: то, что Бог создал человека, — не такая уж плохая идея. Однако в тот день сама идея существования человечества выворачивается наизнанку.
В грузовики запихивают более сотни детей, самых маленьких и самых беззащитных. Двенадцать из них даже не евреи. Преступление четверых состоит в том, что они поляки. Восемь виноваты в том, что являются украинцами. Младенцев очень много. Некоторые плачут. Но большинство слишком слабы, чтобы плакать. Маленький караван выезжает из города, следуя за автомобилем Крюгера. Должен тебе признаться, что в этой поездке за свою жизнь я боюсь больше, чем за жизни других. За всю дорогу я ни разу не вспоминаю о бедных детях. Мы едем час и в конце концов приезжаем в горы, которые в ясный день можно увидеть из Киронички. Мы подъезжаем к мосту, переброшенному через ущелье глубиной триста футов, на дне которого бушует река. Это так высоко, что и поверить трудно. Солдаты начинают с малышей, только-только начинающих ходить. Они берут их за ноги и запихивают в мешки. Большая часть детей плачут, другие сопротивляются, а самые слабые уже почти что умерли и молчат. Крюгер достает прекрасное охотничье ружье, с которым в Баварии он ходил на оленей и кабанов. На прикладе даже есть гравировка.
По пути к мосту немецкие солдаты уже успевают набраться шнапса. Они хватают мешки с никому не нужными детьми и один за другим швыряют их с моста в реку. Мне кажется, что мост вот-вот развалится от детского ужаса. Те дети, кого не сунули в мешок, вопят от страха. Некоторые зовут своих матерей. Правда, никто толком не понимает, что происходит, и это единственная гуманная вещь во всей неописуемой сцене. Крюгер заряжает ружье и целится. Он стреляет в каждого третьего ребенка, которого бросают с моста. Он отличный стрелок, известный в рядах эсэсовцев. Он хочет попасть в каждый мешок, в который целится. В одного младенца Крюгер попадает трижды, и солдаты аплодируют ему. Крюгеру удается попасть в пятнадцать детей подряд и только в одного ребенка — уже у самой воды. Потом игра эта ему надоедает, и он бережно укладывает ружье в футляр. Он орет на солдат, чтобы поторапливались, и те начинают сбрасывать вниз оставшихся двадцать — тридцать детей, даже не трудясь засунуть их в мешки. Я вижу, как пять голых младенцев находят свою смерть на обрывистых берегах. Эти летящие вниз создания так невинны и уже обречены. Вскоре работа закончена, и мы едем обратно в город. Всю дорогу Крюгер молчит как рыба. И я знаю, что если сейчас открою рот, то получу пулю в лоб.
В тот вечер он просит сыграть для него что-нибудь красивое, чтобы заглушить всепоглощающую душевную боль. Я исполняю концерт № 21 Моцарта, поскольку это произведение таит в себе скрытую красоту. Потом через какое-то время Крюгер начинает рыдать, и я понимаю, что он опять пьян. Крюгер начинает говорить, но он говорит не об убитых детях. Он говорит о долге, суровом долге. Чтобы быть хорошим солдатом, он должен со всей неумолимостью выполнять буквально каждый приказ фюрера. Ему гораздо легче быть мягким, ведь в гражданской жизни он отличается мягкостью, добротой и приветливостью. Его даже ругают за то, что он слишком балует своих детей, особенно дочь Бригитту. В той, другой жизни он банкир, и единственная его проблема в том, что он не может отказать в ссуде. Ему больно это говорить, но он одалживает деньги даже пьяницам и транжирам. Целый час Крюгер бубнит монотонным голосом, какой он мягкий, как любит собирать полевые цветы для Бригитты. Рассказывает, что любит стоять на воротах, когда играет в футбол с сыновьями, и всегда позволяет им выиграть. Я исполняю Моцарта и пытаюсь думать только о собственных делах. А Крюгер все пьет и плачет, пьет и плачет. Когда он вырубается, я на цыпочках выхожу из его квартиры и иду домой через гетто в тот самый день, когда Крюгер приказывает сбросить более сотни сирот с моста на Украине. Если есть Бог, Джек, то эти сироты обязательно встретят Крюгера на мосту, ведущем в ад. А Бог должен повернуться к нему спиной, так же как Он повернулся спиной к Своему избранному народу в те годы, о которых я говорю, и ни за что не поворачиваться, какими бы жалобными ни были вопли Крюгера и как бы долго они ни продолжались, а я молюсь, чтобы это была вечность.
Каждый день я прохожу мимо людей, которых голод одолевает все сильнее и сильнее, их ноги опухают и меняют цвет. Они странно передвигаются, словно идут под водой, и ты сразу понимаешь, кому из них остается жить несколько дней. У них плохая аура, от них воняет, и ты стараешься обходить их стороной. Поскольку я член юденрата, портной на фабрике и личный пианист Крюгера, моя семья питается сравнительно неплохо. Мы живем в грязи и мерзости запустения, но хотя бы питаемся не хуже других в гетто. И я благодарен за это, а моя прекрасная Соня и мои детки все живы.
А потом еврей по фамилии Скляр, молодой, горячий, сильный, подходит к нацисту, пришедшему арестовать его отца и мать, и выплескивает ему в лицо соляную кислоту. И вот этот Скляр выплескивает кислоту прямо в лицо нацистского зверя, который вопит от боли, когда едкая жидкость выжигает ему глаза и половину лица. Этого самого Скляра убивают на месте другие немцы, а его родителей приканчивают выстрелом в затылок. Крюгер приказывает повесить тело Скляра на главной площади, а потом сжечь. Но Крюгер не может удовлетворить свою жажду крови таким банальным возмездием. Нациста, оставшегося без глаз и с половиной лица, отправляют домой, в Дюссельдорф, а Крюгер вечером собирает членов юденрата и сообщает им, что в наказание за нападение на солдата рейха триста евреев должны быть повешены на фонарных столбах Киронички. Юденрат призывает добровольцев, но мало кто добровольно согласится пойти просто так на смерть.
Члены юденрата прямо-таки теряют голову от душевных терзаний. Решают послать на виселицу очень старых людей, справедливо полагая, что пожили — и хватит. В больнице поднимают с кроватей самых слабых и недужных. Хватают умалишенных, уговаривая себя тем, что делают им одолжение, поскольку сумасшедшие и так не могут отличить жизнь от смерти. Крюгер — вот наш темный бог, и мы должны повиноваться ему и отдать братьев-евреев на заклание. Наши ресурсы исчерпаны, а такого количества людей просто не набрать, и Крюгер грозит, что повесит всех членов юденрата, а потом и их семьи, если не выдадим ему требуемое количество душ. И тут, на наше счастье, — как нам кажется тогда, хотя потом мы и будем сожалеть, — на станцию прибывает состав с венгерскими евреями. Везде — на фонарных столбах, на стропилах, на только что построенных виселицах — висят триста евреев, принесенных в жертву из-за одного ослепшего нациста. Крюгер не разрешает их снимать, пока тела не начинают разлагаться.
В день, когда Крюгер линчует этих евреев, он приказывает мне играть Вагнера. Антисемита Вагнера. Но Крюгер — тупица, а потому музыку он выбирает в тот вечер просто так, без всякого подтекста и иронии. Он снова напивается и все бормочет: «Ты не знаешь, какой ценой, ты не знаешь, какой ценой». А я играю на фортепьяно, будто не слышу его. Играю Вагнера в ту самую ночь, когда триста еврейских мужчин переплывают Красное море, чтобы попасть в Землю обетованную. Триста мужчин, мужчин, соблюдавших заветы своего Создателя, раскачиваются на холодном ветру, дующем с гор вокруг Киронички. Я знаю, какой ценой, герр Крюгер. Я знаю, какой точно ценой, потому что ты заставил меня выбирать каждого из них.
Юденрат. Мне трудно произнести это слово вслух. Произнося его, к своему стыду, я испытываю такое отчаяние, что мне трудно дышать. В варшавском гетто председатель юденрата накладывает на себя руки. Думаю, это единственное правильное решение. Но оно требует мужества, которого у меня нет. Что будут делать Соня и мои мальчики, если я вскрою себе вены или съем крысиного яду? Я знаю четыре еврейские семьи, которые все вместе приняли крысиный яд. Тем самым приняв смерть на собственных условиях. Я жду, пока нацистский зверь проголодается и посмотрит по сторонам. Кто бы мог подумать, что этот нацистский зверь однажды посмотрит в сторону красивой Сони?
Я прямодушно решаю для себя, что мои жена и дети должны выжить, пусть весь мир летит к черту. И вот в один прекрасный день фабрику закрывают за якобы преднамеренную порчу станка, но ничего не находят и всех отпускают по домам, с угрозами, но без дополнительной пайки. Я прихожу в нашу перенаселенную квартиру, где моя семья ютится вместе со многими другими семьями, включая вновь прибывших из Венгрии. За моими детьми присматривает старая еврейка из деревни. Я спрашиваю, где Соня, а потом сажаю на колени младшенького и близняшек, и те начинают шарить у меня по карманам в поисках еды. Мне трудно произнести вслух имена своих детей. Когда Соня возвращается, она очень удивляется, что я дома. Я вижу, что ей почему-то стыдно. Я интересуюсь, где она была, так как красивой женщине опасно ходить по улицам, которые патрулируют немецкие солдаты и украинские полицаи. Соня прикладывает палец к губам, опускает глаза и говорит: «Не спрашивай меня об этом, пожалуйста».
В эту ночь, когда весь город спит, а рядом храпят незнакомые люди, от которых нас отделяет только одеяло, я хочу притянуть к себе жену. Я надеюсь найти утешение в ее теле. Я хочу позабыть обо всем во время нашей близости. Соня, как всегда, целует меня, а потом говорит, что мы больше не можем заниматься любовью, так как она опозорила меня, опозорила наши семьи и больше не может лежать в моих объятиях. Она рыдает в темноте и просит у меня прощения. Примерно месяц назад Крюгер заявляется к ней и приказывает прийти к нему домой, так как считает, что она станет для него подходящей подстилкой. Крюгер долго рассуждает о том, что не верит в законы расовой чистоты, которые исповедуют нацисты, но ради карьеры держит язык за зубами. Соня вся дрожит и умоляет его не заставлять ее делать это. Но Крюгер — король нашего кусочка ада, он лишь смеется и говорит, что с удовольствием расстреляет ее мужа и детей, а ее сделает своей служанкой. Затем он прекращает разговоры, так как обольщение ему наскучивает, а потому он попросту насилует ее на диване возле фортепьяно. Каждый день он заставляет ее приходить к нему домой. Соня умоляет Крюгера не сообщать мне о ее падении, и тот, по доброте своей, соглашается. Каждый раз, мой дорогой муж, это насилие, говорит мне моя хорошая Соня. Затем объясняет, что не может больше любить меня, поскольку Крюгер заразил ее сифилисом. Милая Соня. Ее страдания и ее стыд в ту ночь в моих объятиях невыносимы для нас обоих. Но уже под утро мы заново даем торжественную клятву любить друг друга. Они могут отнять у нас все, но наша любовь будет длиться вечно.
Ты думаешь, что слышал и вообразил себе все самое худшее, что может случиться с евреем в гетто. Но потом происходит нечто еще более ужасное, и тебе остается только держать все в себе. Ты молишься, чтобы у тебя не было воображения. И твои молитвы услышаны. Ты начинаешь понимать, что зло не имеет дна. Отчаяние, которое я чувствую где-то внизу живота, сродни параличу.
Я сейчас говорю тебе все это, Джек, а сам переживаю, как я это говорю. Может, он думает, что я преувеличиваю, спрашиваю я себя. А вдруг я упускаю важные детали, которые смогут убедить его в подлинности тех событий? Надо ли скрывать от него детали, которые могут показаться ему слишком трагичными и даже невероятными? Мой рассказ звучит достаточно искренно? Как ты думаешь, Джек? Скажи что-нибудь. Твои глаза. Я всегда ненавидел твои глаза. Глаза Крюгера. Глаза Германии. Ха! Глаза моего зятя!
Приходит тиф. Потом холера. С наступлением холодов становится ясно, что конец гетто не за горами. На русском фронте для немцев все складывается не слишком удачно. Матушка Русь, как это не раз бывало, начинает пожирать армии захватчиков. У немцев меняется выражение лица.
По утрам мертвецов просто выбрасывают на улицы, словно мусор.
Крюгер уже говорит со мной так, словно мы с ним старые друзья. Ему нужен собеседник, и он выбирает меня. Ему не нравится, когда я ему отвечаю, а потому, пока мои пальцы порхают по клавишам, я просто киваю. Я уже умею делать вид, что сочувствую его незавидному положению, его душевным терзаниям. Он рассказывает мне кое-что интересное. Это чудовище Крюгер говорит, что мне никогда не понять — каково это, держать целый город в своих руках. Он знает, что городом можно управлять только с помощью террора, но понимает, что и у террора есть пределы. Я исполняю для него Дворжака, а он продолжает говорить. Крюгер даже расплескивает коньяк, когда обсуждает со мной свою дилемму. Каждая жизнь в Кироничке в его распоряжении. Он, Крюгер, может приказать убить любого. В гестапо часто замучивают до смерти мужчин и женщин. Он знает о гвоздях под ногтями и как это больно. Для пыток годится любая часть тела. Ножницами можно расширять ноздри, протыкать ими барабанные перепонки, вставлять их в задний проход. Можно вырывать мошонки. Каждое отверстие на теле можно превратить в туннель «утонченной боли». Можно развязать любой язык, после чего вырвать его. Крюгер начинает понимать, что человеческие страдания его уже абсолютно не трогают. Он может приказать убить десять тысяч человек и думать об этом не больше, чем о раздавленной каблуком мухе. Его дочь болеет пневмонией, а у сына плохие отметки в школе. Он говорит мне, что ему не нравится, как готовит его жена. Когда-то он был вратарем футбольной команды начальной школы. Теперь уже недолго осталось, говорит он, но не объясняет своих слов. Сегодня он хочет послушать Моцарта, а не Бетховена. Этот идиот даже не догадывается, что я исполняю Дворжака.
На следующий день проводят Aktion: две тысячи людей сгоняют к могиле, выкопанной еврейскими пожарными, и расстреливают из автомата прямо на снегу. На сей раз всех ждет сюрприз. На сей раз они убивают и команду пожарных.
В тот вечер я опять играю, и Крюгер приходит уже пьяный. Я исполняю Брамса. Крюгер подходит ко мне и останавливается возле меня. Раньше он так никогда не делал. Он по-братски берет меня за плечо, словно мы с ним закадычные друзья. Потом подносит пальцы к моему носу. «Этот запах, — говорит он. — Это запах твоей Сони. Узнаешь его? Теперь он принадлежит мне. Навсегда. Я владею им. Слышишь меня, еврей? Я владею этим запахом. Вот так пахнет моя шлюха».
Крюгер говорит это, и ему становится стыдно. Он сердится на меня. Он бьет меня так сильно, что я падаю на пол. Я поднимаюсь, сажусь на табурет и продолжаю играть. Он выплескивает мне в лицо коньяк и кричит, что ненавидит евреев даже больше, чем Гитлер, и поможет фюреру убить их всех. Потом он говорит, что я единственный, кто действительно его понимает. Что я его друг. Что он любит Соню больше, чем свою постылую жену. Он беспокоится о дочери. Боится, что она попадет в руки русских. Ему становится нехорошо. И его рвет прямо у фортепьяно. Ничего, скоро все будет кончено. Очень скоро. Его снова рвет, и он падает в собственную блевотину. Я зову украинца-домоправителя, и мы вместе относим Крюгера в спальню. Я выхожу на улицу. С тех пор я не играю Брамса. Не могу. Брамс для меня умер, но я храню его в памяти.
Я должен рассказать тебе о Соне и о себе кое-что еще. Так как я уже знаю все о Крюгере, то думаю, что это отравит нашу с Соней любовь. Соня считает, что один только ее вид должен быть мне противен. Я думаю, что никогда больше не смогу посмотреть ей в глаза. Но нет. Этого не происходит. Наша любовь становится еще сильнее, и мы льнем друг к другу так, словно мы единственные люди на земле, не утратившие способности любить. Мы даем друг другу обещание, что Крюгер не запачкает своими грязными руками наше прекрасное чувство. Наши тела и наши судьбы принадлежат ему. Но мы принадлежим только друг другу.
Соня, Соня. Соня.
Что мне еще осталось рассказать? В феврале, в разгар зимы, гетто Киронички ликвидируют. Менее тысячи оставшихся евреев грузят в поезда. Крюгер приходит попрощаться с Соней и со мной. Хотя он этого не говорит, я знаю, что он расстроен нашим отъездом. Он влюблен в мою Соню. Я вижу это, вижу и то, что он страдает, так как Соня смотрит на него с презрением. Это чудовище Крюгер — очень одинокий человек. Я и сам уже сорок лет одинок и могу понять одиночество Крюгера. Поезд идет два дня, потом останавливается в морозной темноте. Наш малыш Натан умирает той ночью, и тогда в Соне что-то ломается. Многие люди, в основном старики, умирают от холода. Поезд снова трогается с места. Нет ни воды, ни удобств. Мужчины и женщины должны как-то справлять нужду. Запах смущает нас. Запах приводит в отчаяние. Плач детей, которые просят воды. Ну ты, наверное, можешь представить себе, что это такое. Да нет, не можешь. Воспоминание о том поезде всегда со мной. Поезд ломает Соню. Да, ломает. Ко всему тому, что мы уже пережили, теперь еще и этот поезд. Моя красавица Соня умирает раньше, чем немцы милосердно отправили ее в газовую камеру. Перед нами открывают ворота Освенцима — и тут Соня сходит с ума. Она идет вперед. Немцы силой отрывают ее руки от тела нашего ребеночка Натана.
Видишь татуировку на моей руке, Джек? Немцы любят списки, каталоги, любят порядок. Только благодаря тому, что я известный музыкант — а они уже знают, что я еду, — мне сохранили жизнь. Меня направили в шеренгу жизни. Соню и моих близнецов — в шеренгу смерти. Мальчики стоят по бокам своей матери, защищая ее. Они понимают, что мать уже не с ними, и, хотя мальчики еще малы, в этом строю они становятся мужчинами. Им приходится вести свою мать на смерть. Оба машут мне рукой. Незаметно, чтобы не увидели немцы. Потом их уводят — прямо в вечность. Я пытаюсь поймать взгляд Сони, но она уже где-то далеко. Я вижу, как она уходит из моей жизни, и до сих пор вижу, даже после всех этих ужасных лет, после всего, что случилось потом, и понимаю, почему она считалась самой красивой женщиной Европы.
Я надеваю лагерную робу и сразу же получаю удар сзади, который валит меня с ног. Потом меня пинают ногой в живот, затем в лицо. Я чувствую вокруг какое-то движение и думаю, что немецкие охранники хотят убить меня в раздевалке. Но это Бергер, еврейский громила из Киронички. Тот, чьи сыновья украли продукты и были повешены за свое преступление. Бергер помнит только одно: именно я выбил табуреты из-под ног его сыновей. «Этот еврей мой», — заявляет он.
Бергер служит в зондеркоманде, он был одним из проклятых Богом евреев, что убирают трупы из газовых камер и уносят их в крематорий. Каждый день Бергер находит меня и избивает. Он своего рода король среди проклятых. Своего рода Крюгер. Однажды Бергер приходит ко мне, чтобы меня забрать, и бьет по затылку. Этот громила свободно проходит в бараки. Охранники на вышках видят его, а он расхаживает по лагерю, точно консьерж. Он тащит меня куда-то, и я слышу, как евреи молятся нараспев, прославляя Бога. Там очень темно и воздух наполнен черным дымом. Потом раздаются дикие крики, которые нельзя сравнить ни с одним звуком на земле. Затем наступает тишина. Бергер снова валит меня на землю. Потом рывком поднимает и тычками в спину гонит перед собой, и я вижу толпу евреев, один из них вращает колесо. Бергер вталкивает меня внутрь и приказывает делать то, что делает он. Я вижу гору мертвых тел, их сотни. В основном женщины, дети и старики. Я изо всех сил помогаю убирать трупы. Я работаю под градом ударов Бергера. Трупы я тащу за ноги. Некоторые совсем невесомые. И вот я тащу одно тело, как вдруг Бергер останавливает меня и приказывает посмотреть вниз. Там лежит Соня. Тогда он заставляет меня разрыть другой штабель, и я вижу своих сыновей. Я отрываю их и оттаскиваю к Бергеру. Он дает мне щипцы и приказывает выдрать золотые коронки у Сони изо рта. Он раскрывает ей рот и с треском вытаскивает первую коронку. Я стою, не в силах пошевелиться, и тогда он бьет меня по лицу щипцами. Я открываю Сонин рот. Вытаскиваю зуб. Бергер хватает щипцы и вытаскивает все зубы подряд. Этот Бергер тоже сумасшедший и тоже невинный. Позже находится один еврей, работающий в администрации, и он говорит, что в старое доброе время видел меня на концерте. Он большой любитель музыки. Он узнает, что Бергер заставляет меня день и ночь работать в зондеркоманде. Этот неизвестный еврей — царь и бог на своем участке, и он заносит номер Бергера в список людей, предназначенных к уничтожению. За Бергером приходят, и потом я вижу его тело в груде трупов, вытащенных из газовой камеры.
Что до остального, то Освенцим есть Освенцим. Можешь почитать об этом. На мою долю выпадает то же, что и другим. Работаю. Страдаю. Голодаю. Как-то раз чуть не умер от дизентерии. Чтобы выжить, во время работы я проигрываю в голове музыку, которую люблю. Я мысленно прошу великих композиторов собраться у меня, чтобы исполнить лучшие свои произведения. И среди всей этой мерзости я представляю, как в смокинге обедаю с Бетховеном, Бахом, Моцартом, Шопеном, Листом, Гайдном, Пуччини, Римским-Корсаковым, Малером, Штраусом, Чайковским и всеми остальными. Каждый вечер я медленно одеваюсь, застегиваю запонки, завязываю и перевязываю черный галстук, добиваясь, чтобы узел был безупречным. Прежде чем идти на концерт, я захожу в лучшие рестораны Европы, заказываю лучшую еду, приготовленную лучшими поварами. Я ем улиток, блестящих от сливочного масла и сдобренных чесноком и петрушкой, заказываю утку с поджаристой корочкой и с жирком под крылышками, макаю в оливковое масло багет, ем крем-брюле, которое прослоено хрустящим жженым сахаром и взбитыми сливками и прямо-таки тает во рту. Мы не пожираем пищу, мы просто едим, наслаждаясь вкусом, — великие композиторы и я. Поскольку мысленно я переношусь в другой мир, мне удается выжить, сконцентрировавшись на всей этой красоте, которой я успел в свое время запастись. Я слышу музыку посреди всего этого ужаса. Но вот что, как я поклялся себе, я не сделаю ни при каких обстоятельствах: я не выживу. Но я покрываю себя позором, так как все-таки выживаю.
Зимой сорок пятого нас в срочном порядке гонят колонной дальше, так как к Освенциму приближаются русские. Мы идем по снегу без еды и отдыха. Многие падают и получают пулю в затылок. Эти пули для них как подарок. Я уже в Дахау, когда американцы освобождают лагерь. Но ничего из этого я не помню. Позже мне показывают снимок с горой обнаженных тел. Ты знаешь эти фотографии. Груды и груды мертвых чучел. Человек, который показывает мне снимок, — врач. Он и сделал эту фотографию. Он щелкает фотоаппаратом и вдруг видит, что моя грудь приподнимается. Он щупает мне пульс и срочно несет меня в полевой лазарет. Моя левая рука отморожена и поражена гангреной. Он удаляет мне мизинец. А безымянным пальцем я могу шевелить, но чувствительность не восстанавливается. Я всегда сожалел, что американский доктор тогда делал этот снимок. Лучше бы он оставил меня в груде тех тел. Я шел назад к своей Соне.
Руфь находит меня в лагере для перемещенных лиц, где она пытается найти родственников, оставшихся в живых. Она слышит о еврее, который ищет тех, кто был в Кироничке и кому удалось выжить. Мы женимся, и тем самым я разрушаю жизнь этой очень хорошей женщины. Я целую ее и знаю: она видит в моих глазах, что я вожделею Соню. Я занимаюсь с ней любовью и иногда шепчу имя Сони. У нас рождаются Шайла и Марта, и я снова разочарован, так как это не сыновья, которых я потерял. Они разочаровывают меня, потому что они — не моя первая семья. Я не могу любить Руфь, Джек. Стараюсь, но не могу. Я не могу любить Шайлу или Марту. Я могу любить только фантомы. Я иду спать, лелея своих призраков, и просыпаюсь только тогда, когда Шайла бросается с моста.
Вот так, Джек.
Назад: Глава тридцать третья
Дальше: Часть VI

