КНИГА ВТОРАЯ
УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ
I
К утру свадьба притомилась, но по уговору Данута и Эзра должны были веселить ее еще весь завтрашний день: недаром отец невесты достопочтенный Мендель Пекелис, маленький, пучеглазый, как лесная кукушка, еврей в черном праздничном сюртуке и в ермолке, бархатной скорлупкой прикрывавшей желток лысины, заплатил им чуть ли не за неделю вперед. На такие деньги не только сытно поешь в придорожной корчме или трактире, но и до самого Вильно доберешься.
В Вильно Эзра и Данута надеялись немного заработать, все-таки не глухомань, большой город, свадеб там справляют уйму, только успевай на них петь и плясать, чтобы потом через Минск и Смоленец двинуться в Москву, а оттуда в Сибирь за бурым медведем — мечтой всех бродячих скоморохов и площадных лицедеев.
Они и двинулись бы с божьей помощью, если бы не багровая струйка, хлынувшая прямо в разгар свадьбы у Эзры из горла. Пел, плясал, пиликал на скрипке и вдруг зашелся в кашле — хорошо еще, успел ковшиком руки подставить, зажать в ладонях молодую кровь, не дав ей пролиться на вымытый до белизны (хоть мацу на него клади!) пол.
— Кровь, — сказал достопочтенный Мендель Пекелис, и в округлых кукушечьих глазах пожаром вспыхнул ужас.
— Кровь, — загалдели нищие, третий день кормившиеся на свадьбе и славившие своим восторженным чавканьем молодую пару.
Обвенчанные скукой, оживились и молодые — вытянули шеи, уставились на Эзру, на его напарницу, заморгали своими бессонными глазами.
— Где? Где? — зашумели со всех сторон.
Эзра стоял, застыв от неожиданности, а Данута не спускала с него глаз, и в ее взгляде сквозило скорее растерянное любопытство, нежели испуг и сострадание. Она впервые в жизни видела мужскую кровь, и эта кровь в отличие от ее собственной, с которой она умело справлялась каждый месяц, казалась ей какой-то отталкивающей и опасной.
Эта кровь предвещала не обновление, а болезнь, страшную, скоротечную, о которой Данута слышала от своей тетушки Стефании Гжимбовской еще в ту пору, когда служила у господина Скальского в Сморгони.
Эзра и раньше кашлял, но Данута не придавала этому значения, думала: много курит; он действительно много курил, сворачивал одну самокрутку за другой, и поцелуи его, прогорклые и дымные, отдавали печным чадом. Она терпела и этот кашель, и этот чад потому, что была благодарна Эзре за свою нищенскую, полуголодную свободу, за радость, которую испытывала от какой-нибудь переиначенной на еврейский лад мазурки, или веселого разбитного казачка, или песни чуждого ей (поначалу!) и загадочного народа.
Заиграй мне казачка
По-хасидски!
Заиграй мне казачка
По-хасидски! —
начинал, бывало, Эзра, и Данута тут же своим высоким звонким голосом подхватывала:
То, что можно, можно всем.
Можно и чего нельзя.
Голоса их набирали силу, взлетали все выше и выше, сталкивались, сшибались, сливались воедино и, заглушенные топотом кривых, привыкших к преследованию, но не к кадрили еврейских ног, затихали, как голуби на черепичной крыше мишкинского костела, воркующие и чистящие друг другу ненарядные, не приспособленные к долгому полету крылья.
Заиграй мне казачка
По-немецки!
Заиграй мне казачка
По-немецки!
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того, что можно.
Забыв про жениха и невесту, презрев яства — жареных кур и уток, фаршированных карпов с выпученными от удивления, точно живыми глазами, рубленую печенку и толченые орехи, картошку с черносливом и гусиные шейки, заливную телятину и крупные побуревшие бобы, похожие на пуговицы с чиновничьего сюртука, вся свадьба с каким-то упоением и неистовством подпевала:
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того, что можно.
Зажимая между ладоней кровавую харкотину, храбрясь и уверяя себя, что ничего не случилось, Эзра еще пытался присоединиться к этому общему неистовству, но из горла вырывался только жалкий надсадный хрип. Так хрипят прирезанные гуси в прихожей местечкового резника Янкеля Головчинера, к которому Эзра в детстве отдан был не то в ученики, не то в помощники.
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того, что можно, —
прохрипел он, пялясь на свои окровавленные руки, и замолк.
Гусь, подумал он вдруг о себе. Гусь.
Отец невесты достопочтенный Мендель Пекелис страдальчески поджимал губы; Данута беспрестанно улыбалась, и в этой улыбке были и сожаление, и извинение, и безотчетное, извечное женское желание обольстить и недруга, и друга.
Гусь, гусь, стучало у Эзры в висках. Его охватило вдруг какое-то тупое, сковывающее все движения, отчаяние; вокруг него, кружась и подзадоривая друг друга, гикали, топали, отрыгали гости; уперев руки в боки, проплывали нищие; они что-то победно выкрикивали, громко портили воздух, и от этого зловония, от этого гика, топота у Эзры, казалось, вот-вот снова начнется кровавый приступ кашля, на сей раз смертельный.
— Спасибо, венец мой, — сказал достопочтенный Мендель Пекелис скомороху и весь съежился от своей доброты. — Мы с тобой квиты. Завтра можешь не приходить! Бейлке! — крикнул он дебелой молодухе, отплясывавшей с высоким нищим гопак. — Помоги человеку умыться.
Бейлке, видно, служанка Пекелиса, со всех ног кинулась в прихожую исполнять приказание хозяина.
— Вот водичка, — вернувшись, объяснила она Дануте, будто та отродясь воды не видывала. — А вот полотенчико!

Эзра долго — Дануте казалось, что целую вечность — мыл руки, погрузив их по локоть в ведро и как бы совершая некий, только ему одному понятный обряд, заставил Дануту дважды сбегать к колодцу, принести свежей воды, и, когда Данута сходила еще раз, припал к ведру, как лошадь, и стал жадно пить, прочищая горло, или, как он любил шутить, свой верстак. Комкая в руке полотенце, он никак не мог сообразить, куда его деть — оно было в розовых разводах, как небо, на которое занимающийся день похмельной кистью маляра уже наносил свои первые краски. Эзре не хотелось ни оставлять, ни забирать с собой эту холстину, она была подобна улике, следу — казалось, по нему вдогонку пустится беда, еще большая, чем та, которая уже его настигла.
В заезжем доме, где они остановились на постой, Эзра и Данута были единственными жильцами. Снимали они самый дешевый угол — крохотную каморку, темную (узнав, кто его постояльцы, хозяин Шолом Вайнер, жалея керосин, унес закопченную лампу) с застекленным наполовину окном (стекла не хватало, что ли?) и тряской кроватью, напоминающей большую выбоину на большаке. Над почерневшим, как плаха, столом висела библейская паутина, древняя и необыкновенно вязкая, в которой, видно, еще с прошлого лета (а может, с первого дня творения) чернели, словно высохшие на солнце ягоды рябины, мертвые мухи, не то помилованные, не то забытые пауком.
Данута по обыкновению разделась донага и легла, а Эзра почему-то медлил, словно ночь только-только начиналась, вглядывался в окно, вдыхая всей грудью свежий, предутренний воздух, струившийся в широкую оконную щель с жемайтийских равнин и холмов. В комнате стояла такая тишина, что было слышно, как они, эти холмы и люди, дышат, и в этом дыхании изощренное, неравнодушное к звукам ухо легко могло различить и тревогу, и смятение.
— Ты что там шепчешь? — спросила Данута, не нуждаясь в ответе. Она знала: он ответит: «Ничего» или «Спи».
— Гусь, говорю, — неожиданно сказал Эзра.
— Гусь?
Данута лежала на расшатанной, видавшей виды кровати, и груди ее светились в предутренних сумерках, как две луны, и светлые волосы струились по подушке, и от них во все стороны, как из-под кузнечного молота, летели золотистые искры, которые падали на Эзру, но сегодня эти искры не обжигали его и не воспламеняли, а гасли в воздухе и мертвыми мухами застревали в паутине, серебрившейся под низким бревенчатым потолком.
— Ложись, — сказала она.
Ей было страшно не только за него, но и за себя. Вот уже третий месяц, как не видела она своей крови, а это значило, что она ждет ребенка. Господи! И за что ей такая счастливая и такая тяжкая кара? Только ребеночка и не хватало! Зачем он им — кочевникам, бродягам, у которых ничего, кроме любви, нет. Как его накормить, обуть, одеть? Она сама в одном платье. В чем ушла от Скальского, в том и по сей день ходит.
При воспоминании о Скальском Дануте стало еще больней. Богатый помещик, отставной офицер, чего он только не сулил ей: и дюжины платьев, и деньги, и дом в Сморгони напротив православной церкви. Другая ни минуты не раздумывала бы, легла бы с ним в постель, не такую, как этот тряский тарантас, а в мягкую, с пуховыми подушками и периной, набитой не гусиным, а гагачьим пухом, распушила бы волосы, и пусть бы летели от них искры, падали на Скальского, жгли его, пока не испепелили бы. Но Данута скорей удавилась бы, выпила бы какого-нибудь яда — однажды она уже пыталась это сделать и, наверное, сделала бы, не появись в Сморгони этот чудной, этот потешный, черноокий бродяга с самодельной скрипочкой, парившей в воздухе, как огромный осенний лист.
Бог свидетель, Данута не на него засмотрелась, а на нее, на эту скрипочку — уж больно забавно он пиликал.
Данута как сегодня помнит и этот осенний день, и эту рыночную площадь, и этого бродягу-музыканта с его легкой, почти невесомой скрипкой, окрашенной киноварью листопада, с его диковинными хлесткими куплетами:
Заиграй мне казачка
По-шляхетски.
Заиграй мне казачка
По-шляхетски.
Нельзя того, чего нельзя,
Чего нельзя, того нельзя.
Нельзя того, что можно.
Люди кидали ему медяки.
Данута выпросила у пана Скальского гривенник и стала ждать, когда бродяга кончит петь.
Но он пел и играл без остановки, упиваясь своей незатейливой музыкой, не по времени щедрым осенним солнцем, говором крестьян-белорусов, визгом поросят, виолончельным перескрипом телег.
Хоть пан Чеслав Скальский и был слеп, он не пропускал ни одной ярмарки, ни одного престольного праздника. Данута поутру приносила ему праздничную одежду, он облачался в серый войлочный зипун, причесывал свои редкие волосы, надевал соломенную шляпу, на которую все время косились местечковые воробьи в надежде выклевать затерявшееся между ее стежками зернышко, и вместе с Данутой — своим бессменным поводырем — отправлялся в город.
— На, — сказала Данута, подойдя вплотную к Эзре, когда тот закончил играть и принялся вытирать пот на смуглом лице, подсвеченном лихорадочно горящими глазами. То были странные глаза. Они просто приклеивались к тому, на кого смотрели.
Монету Эзра не взял, а взял Данутину руку и долго не выпускал ее из своей, такой же теплой и прилипчивой.
Данута пробовала освободиться, но Эзра сжимал ее ладонь, как цыган-прорицатель — она поначалу и приняла его за удалого цыгана.
— Данута! Данута! — встревожился слепой пан Скальский, оставленный без присмотра.
— Пусти! Меня зовут! — прошептала она, замирая от этой негаданной и сладкой неволи.
— Приходи вечером к разрушенному мосту! — скорее грозно, чем ласково промолвил Эзра. — Придешь?
— Возьми монету! — задрожала она, продлевая свою неволю.
— К мосту! К мосту! — нараспев повторил он, и глаза его вспыхнули над ней, как звезды, которые, как ей казалось, только что зажег сам господь.
В тот вечер Данута и бежала из дому. Она ушла в одном платье, с гривенником в руке, хотя усыпить ревнивую бдительность пана Скальского ей удалось не сразу. Пан Скальский не отходил от нее ни на шаг, все время что-то приказывал, просил, спрашивал, закрыта ли на ночь дверь, скоро ли она, Данута, ляжет.
— Ложитесь, пан Чеслав, в постель и ждите меня. Я только… — пытаясь усыпить бдительность своего сторожа, сказала она.
Данута слышала, как слепой снимает ботинки, как расстегивает ремень, как стаскивает с себя рубаху, как сует ноги в шлепанцы, как на ощупь, выбросив вперед руки, семенит к своей постели, в которой давно не было женщины, а постель без женщины — это тот же гроб, только не заколоченный.
Пан Скальский и раньше покушался на ее молодость. Придет, бывало, ночью к ней в комнату, плюхнется на кровать и давай мять девушку, тискать, лапать, шарить под одеялом стеком, постанывая от бессилия и вожделения. Однажды Данута не стерпела, ударила его ногами в грудь, пан Скальский заохал, выронил стек, упал наземь. Убила, промелькнуло у нее! Данута соскочила с кровати, бросилась к Скальскому, стала тереть его обмороженные страхом щеки, просить прощения и, давясь от отвращения, целовать, целовать.
Пан Скальский очнулся, вцепился в нее своими слепыми щупальцами, повалил на пол, и они стали кататься в темноте по скрипучим половицам; половицы скрипели, как живые, изо рта Скальского пахло грехом и тленом; Данута кусала его руки, но Скальский не чувствовал никакой боли, только похотливо дрыгал ногами.
— Будь умницей… будь умницей…
В такие минуты, когда Скальский шепотом взывал к ее благоразумию, Данута сжималась в комочек, проклинала свою тетушку Стефанию Гжимбовскую, сестру ссыльного отца, умершего в Туруханском крае, которая отдала ее этому блудливому слепцу, дальнему их родственнику, потерявшему зрение якобы в битве за свободу Речи Посполитой. Желая Дануте добра, тетушка Стефания уговаривала, просто умоляла ее не перечить пану Скальскому — «будь умницей… умницей… он все равно скоро подохнет (так и сказала) и ты станешь наследницей всего имения!» — выполнять все его капризы, даже самые щекотливые.
Данута и сама не могла объяснить, почему маленькая струйка крови вызвала у нее столько горьких воспоминаний, воскресила сонную, плывущую, как утка в тумане, Сморгонь, рыночную площадь, сухопарого пана Скальского с тонким стеком в руке и бродячего скомороха, играющего на самодельной скрипочке.
Она вдруг подумала, что к этим воспоминаниям — к этому гривеннику, к этому разрушенному мосту через Окену, столь неожиданно и непредсказуемо соединившему их жизни, надо вернуть и Эзру. Стоит ему сделать шаг в сторону от этой кровавой струйки, как на осеннем солнце снова блеснет Окена, заголубеет далекое сморгоньское небо, закружится легкая, как бы обрызганная купоросом листва, и о булыжник рыночной площади застучит тонкий нетерпеливый стек пана Чеслава Скальского.
— Помнишь? — сказала Данута, желая хоть на время, хоть на час, хоть на полчаса отвоевать его у болезни. — Помнишь, как я пришла к мосту и ты взял меня, как монету?
Эзра молчал. Но его молчанье только подхлестывало ее:
— Помнишь, как мы любили друг друга…
У нее было только одно это желание: оторвать его от окна, за которым струйка крови, зажатая между ладоней, выплеснулась на мостовую и потекла к чужому и случайному кладбищу.
— Помнишь, коханы… — продолжала Данута. — Как мы лежали на ворохе листьев — ты… я… и осень…
— Помню, — безучастно произнес Эзра, все еще глядя в окно. Теперь по струйке крови, текшей к чужому кладбищу, ступал хозяин заезжего дома Шолом Вайнер, расстегивая на ходу портки и поддерживая их руками. Белая его рубаха надувалась от ветра, отчего Вайнер казался горбатым.
Ободренная ответом, Данута пробормотала:
— Ложись… Я хочу, чтобы снова было так, как в Сморгони — ты… я… и осень…
Эзра отвернулся от окна и, к ее удивлению, стал разуваться.
Данута смотрела на его смуглое гибкое тело, которое в предутренних сумерках напоминало огромную скрипку с двумя смычками. Руки его и впрямь были похожи на смычки, и от их прикосновения ее тело начинало тихо и пьяно звенеть.
Данута подвинулась и, когда он улегся, принялась целовать его голову, плечи, живот так, словно это было последнее их утро.
— Коханы, — повторяла она, пытаясь исцелить его своими поцелуями от тоски, от черных мыслей, от чахотки. — Ты сегодня на свадьбе превзошел самого себя.
— Да, — сказал Эзра.
— Как ты плясал!
— Да, — сказал Эзра.
— Как ты пел!
— Да, — сказал Эзра.
— Для меня, для меня, для меня, — твердила она, обезумев от страха и нежности.
— Да, — сказал Эзра.
— Я была невестой, — сказала она. — А ты был женихом.
— Да, — сказал Эзра.
Ее словно завьюжило этим коротким, этим беспредельным в своем значении словом.
Эзра ежился от ее поцелуев, слабо и натужно отвечал, Данута грозила ему пальчиком, корила за сдержанность.
— Не унывай!.. Что из того, что нас и сегодня не успели обвенчать, — прошептала она. — Вон еще сколько городов впереди. Мы обвенчаемся на другой свадьбе. Выбирай!
— Что?
— Город.
— Иерусалим, — отшутился он.
— Вильно, — возразила она. — Там в костеле Святой Анны венчалась моя мама.
— Спи!
— Завтра, завтра…
И она снова осыпала его поцелуями.
Эзра лежал, распятый ее ласками, ловя ртом воздух; воздуха не хватало, как на полке в бане, и он фыркал от удушья.
— Данута, — взмолился он. — Завтра…
— Сегодня, Эзра. Завтра мы поедем в Вильно к твоим братьям. К Гиршу и Шахне.
— Зачем?
— Ты же сам говорил: Гирша могут повесить. Ведь говорил?
— Ну и что?
— Может, вам еще удастся увидеться перед казнью?
— Перед чьей казнью? — спросил Эзра, и снова мысль о струйке, текущей к чужому и случайному кладбищу, пронзила его.
Небо за окном посветлело. В комнату хлынули первые лучи солнца. Они сперва побелили обшарпанную стену, потом пушистыми котятами улеглись на полу, потом перебрались в угол, где, как осина в вьюгу, скрипела старая кровать, за которую они платили Вайнеру по алтыну за ночь.
Только когда совсем рассвело, их одолел сон.
Дануте снилось:
будто она стоит в подвенечном платье перед алтарем в костеле Святой Анны;
ксендз пристально смотрит на нее, так пристально, что при каждом его взгляде у нее, как листья, опадают кружева фаты;
вот уже обнажились ноги, живот с дуплом пупка, груди;
она тщится прикрыть их, но нечем;
святой отец смотрит на нее своим невидящим оком, смотрит, и взгляд его сковывает сначала правую грудь, потом левую;
хочется бежать, но она не в силах и шага шагнуть, как будто приросла к земле;
ксендз приближается к ней и, когда подходит вплотную, она видит, что в руке у него вовсе не паникадило, а стек с набалдашником, и одет он не в сутану, а в расшитый золотом зипун.
— Скальский! Скальский! — вскрикнула Данута и проснулась.
Они вышли во двор, зачерпнули в колодце бадьей воду и стали сливать ее, студеную, прозрачную, друг другу.
Откуда ни возьмись во дворе вырос хозяин заезжего дома Шолом Вайнер.
— Молодой человек, — сказал он и тронул Эзру за рукав. — Можно вас на минутку?
Снова будет его уговаривать, чтобы бросил меня, подумала Данута и сплюнула сквозь зубы. Все только и делают, что уговаривают его!..
— Вот вам лампа, — сообщил Шолом Вайнер, когда они отошли в сторонку. — Пользуйтесь на здоровье.
— Премного благодарен, — сказал Эзра, но лампы не взял.
— У меня, правда, к вам просьба, — продолжал хозяин заезжего дома. — Это, конечно, ваше дело, как спать: на боку, на спине, однако же мой Соломончик еще ребенок… второй год после бармицвы — совершеннолетия.
Эзра никак не мог взять в толк, куда Шолом Вайнер гнет.
— Это, конечно, нехорошо — подглядывать в окна. Но что поделаешь, если в доме нет ни одной лишней занавески… Попросите, пожалуйста, свою… — Шолом боком повернулся к Дануте, — попросите ее, чтобы перед сном не раздевалась… то есть раздевалась, но снимала не больше, чем моему Соломончику положено видеть…
— Ваша лампа нам больше не понадобится, — просто и незлобиво сказал Эзра. — Мы уезжаем. Теперь ваш Соломончик будет видеть то, что ему положено. Но, согласитесь, это так мало.
— Что? — не сообразил хозяин заезжего дома.
— Видеть в жизни только то, что положено, когда хочется видеть все.
Когда Эзра рассказал Дануте о просьбе Шолома Вайнера, они оба расхохотались. Особенно громко хохотала она — захлебываясь, стремясь заглушить тревогу, нараставшую с каждым часом, с каждым упавшим наземь листом. Данута чувствовала, что в их жизни вот-вот произойдет какой-то перелом, тяжкий, с непредвиденными последствиями, что теперь для защиты их запретного и горького счастья одной любви будет мало. Да и было ли это счастье — эти вечные скитания с севера на юг, с востока на запад, этот холод и голод, эта крапивная неприязнь евреев к ней и христиан — к нему. Данута ловила себя на мысли, что редкие минуты радости не стоят таких мук, — а ведь она мучилась безропотно, тихо — и почти жалела о том, что тогда, в том пронзительном, натянутом как тетива сентябре, уступила, поддалась смутному и мстительному зову своей крови. Надо было пересилить свое отвращение, лечь с паном Скальским в постель и получить за это в награду не заезжие дома, не бесконечные слякотные большаки, не струйку крови, а тысячу саженей плодородной земли, усадьбу на берегу Окены, особняк в Сморгони с серебряными светильниками, с мебелью из карельской березы, паркетом, в него можно было глядеться как в зеркало, с огромными зеркалами, расставленными вдоль стен и забранными в позолоченные рамы, на которых сидели розовощекие ангелы. Подумывала Данута и о том, чтобы вернуться к тетушке Стефании Гжимбовской, вымолить у нее прощение. В самом деле: ей ли, дворянке, дочери офицера, кочевать с безродным евреем по городам и весям черты оседлости, ей ли веселить, как сказала бы тетушка Стефания, сумбурные жидовские свадьбы, ей ли ходить в одном стираном-перестираном, латаном-перелатаном платье, ломать язык, заучивать чужие слова, перенимать чужие обычаи? Ради чего? Ради пылкой любви? Ради безумной страсти, бездны, из которой она выбирается по утрам только для того, чтобы сломя голову снова ринуться в нее вечером. Что-что, а любить Эзра умеет. Он любил ее ненасытно, не зная устали — теперь Данута понимала, что пылкость его усугублялась болезнью, хоть это ей раньше и в голову не приходило! Эзра не щадил ни себя, ни ее, и она была благодарна ему за это изнурение, не представляла себя в объятиях другого — Эзра был для нее богом, которому возносят не молитвы, а ласки.
— Ты — мое небо, коханы. Поцелуй меня, — шептала она.
— Потом… — отмахивался он. — Завтра…
— Нет, нет. Ждать завтра — это ждать смерти. Я хочу, чтобы всегда было сегодня… вечное сегодня…
Вечное сегодня, усмехнулась она про себя и глянула на Эзру. Вечное сегодня, пусть даже залитое кровью.
Свадьба в доме достопочтенного Менделя Пекелиса обессилила их, и Эзра с Данутой решили уйти из местечка не назавтра, а в тот же день, в самую рань, еще до первой петушиной побудки.
Данута завернула в холстину, как творожный сыр, его скрипку, сунула в котомку свой кларнет, сложила нехитрые пожитки — книжки со сценками из жизни испанских грандов и израильских царей, с описаниями небывалых историй, случившихся с Моисеем и Аароном во время их странствия по пустыне в заветный Ханаан, бумажный колпак-корону, белила, воск — при их помощи Эзра изменял свою внешность, — скудную снедь, которую им в дорогу дала сердобольная, с близорукими, коровьими глазами Бейлке; заправила постель, взбила подушки, протерла тряпкой застекленное наполовину окно, увидела за ним хозяйского сына Соломончика, смутилась.
— Он снова слоняется под окнами, — сказала она Эзре.
Соломончик переминался с ноги на ногу и, видно, ждал, когда лицедеи выйдут во двор. На нем было длиннополое теплое пальто, перепоясанное конопляной бечевкой, тяжелая, не по сезону шапка и два странных башмака, казалось, с разных по размеру ног. Соломончик был не по летам рослый и плечистый. Толстые губы замело цыплячьим пушком, норка рта всегда открыта, и оттуда, как ящерица из-под валуна, нет-нет да высовывался мокрый суетливый язык.
— Уезжаете? — тихо спросил он, когда Эзра и Данута появились во дворе.
— Уезжаем, Соломончик, — ответил Эзра.
— А откуда вы знаете мое имя?
— Я все знаю.
— А что вы еще знаете? — прогудел сын Шолома Вайнера.
— Я знаю… я знаю, например, что ты очень любишь… — начал было Эзра. Но Данута перебила его:
— Эзра!
— Люблю подглядывать в окна? Да? — не растерялся Соломончик. — И вы бы подглядывали, если бы вам было скучно, — он высунул язык и тут же, как бы почуяв опасность, спрятал его. — А куда вы уезжаете?
Вид у Соломончика был плутоватый. С первого взгляда трудно было сказать, чего в нем больше — хитрости или непристойного простодушия.
— В Вильно, — неохотно ответил Эзра.
— Если бы не отец, и я бы туда поехал, — как ни в чем не бывало продолжал Соломончик. — Он меня никуда не пускает. Только к меламеду Гершену. Я, говорит он, тоже никуда не ездил, а, слава богу, стал хозяином заезжего дома. И ты, говорит, станешь, когда я умру. Но он умрет не скоро… А мне так хочется…
— Чтоб он умер?
— Нет. Мне хочется куда-нибудь поехать. Ведь это так интересно — спать не в своей постели.
— А в чьей? — не выдержал Эзра.
— Неважно, в чьей… Только не в своей… Когда вы уедете, я заберусь в вашу… лягу и буду, как вы… — Соломончик метнул взгляд в сторону Дануты, — как вы, любить Хайку…
Эзра и Данута застыли.
— Но Хайка требует, чтобы мы поженились. Иначе она и не согласна.
— Господи! — выдохнула Данута.
— Хайка говорит: грех, — продолжал Соломончик.
— А ты что говоришь? — допытывался Эзра. Он вдруг представил, как под рев публики будет изображать этого увальня, этого недоросля где-нибудь на рыночной площади, как будет показывать его ужимки, его причмокиванье языком, а Данута преобразится в Хайку, дочь меламеда Гершена, богобоязненную, перезрелую девицу с бородавкой на носу.
— Разве то, что делают все, грех? — спокойно спросил Соломончик.
— Ишь ты! — Эзра был поражен.
Данута слушала Соломончика, и вдруг против ее воли в сознании снова всплыла мысль о беременности. Ни к чему ей ребенок, ни к чему. Еще, не дай бог, вырастет такой, как этот Соломончик.
Дануте ни с того ни с сего захотелось ударить его, она и ударила бы, если бы не подумала о костеле.
Три года не ходила она на исповедь, и вот в этом глухом местечке, где и костела-то вроде нет, здесь, во дворе заезжего дома, в храме всех бродяг и странников, обители клопов и прелюбодеев, Данутой овладело нестерпимое желание излить душу, ощутить хотя бы на короткий миг радость общения с богом, к чему была приучена с детства и что, казалось, было безвозвратно потеряно.
— Ты куда? — спросил Эзра.
— К костелу.
— Там уйма яблок, — сказал Соломончик. — Но отец говорит: все они трефные.
Костел был деревянный, запорошенный листьями. Он гляделся в быструю норовистую Дубису. Во дворе, как нищенки, чернели голые яблони, на которых присмиревшими послушницами стыли местечковые вороны.
Приземистый, крестьянского вида человек, видно, ризничий, провел Дануту через открытую дверь прямо к исповедальне и, оставив ее одну, удалился.
От исповедальни, от задернутого занавеской окошечка веяло осенней сыростью и тайной.
Данута сама не понимала, зачем сюда пришла — за покаянием, за благословением, за советом? Хотя она нуждалась и в том, и в другом, и в третьем, ей было совершенно безразлично, что скажет ксендз — господи, почему его так долго нет? — просто хотелось других слов, других глаз, другой речи.
Три года Данута не была в костеле. Последний раз слушала мессу в вербное воскресенье, стояла с вербочкой в руке за колонной небогатого сморгоньского храма, смотрела на красавца Спасителя, как робкая девчонка, которая впервые пришла на свидание.
Через открытую дверь из притвора залетали легкие, тронутые мертвящей желтизной листья, устилали пол, ложились на стертые скамьи, и от этого костел казался осенним садом — Данута даже ощущала терпкий запах яблок-паданцев — садом, в котором дышалось необременительно и вольно.
Неземная прохлада костела как бы смыла с лица Дануты усталость, разгладила морщинки, наполнила душу какой-то готовой пролиться слезами смутой. Данута и не заметила, как большая слеза скатилась по ее щеке и упала наземь, словно листок. На миг ей почудилось, что она услышала звук падающей слезы — так тихо было вокруг, так отчетливо и обостренно воспринимались звуки.
Ксендза все не было, и когда Данута уже почти разуверилась, что ей удастся облегчить исповедью наболевшую душу, он появился: старенький, в поношенной, слишком широкой для него сутане, которую он поддерживал пухлыми белыми руками, как будто ступал не по полу, а по воде.
Ксендз окинул ее взглядом с ног до головы, юркнул в исповедальню, сел на скамеечку, отдышался и сказал:
— Слушаю тебя, дочь моя.
Данута растерялась, не зная, с чего начать — с отца ли, который бросил мать, с матери ли, изменявшей отцу, с тетушки ли Стефании, которая попрекала ее, сироту, каждым куском хлеба, с пана ли Чеслава Скальского, помещика и отставного офицера, который, когда она засыпала, приходил в ее комнату и похотливо тыкал стеком в ее молодое упругое тело. А может, сразу перейти к Эзре, к его-ее ребенку?
Исповедник сопел носом, и Дануту вдруг развеселила мысль, что святой отец уснул. Она прислушалась, приникла ухом к крохотному окошечку, к ситцевой занавесочке, стараясь укрепиться в своей догадке.
— Вы не спите, святой отец? — спросила она, поражаясь собственной наглости.
— Как можно, дочь моя! — возмутился священник. — Я слушаю тебя.
— Грешна я, отец мой, — процедила Данута и вдруг осеклась, раздумала рассказывать ему о своей жизни, бестолковой, суетливой, состоящей из сплошного то упоительного, то угарного греха. Чем он, этот тихий и недолговечный, как листопад, старец может помочь ей? Чем? Скажет: «Прочти три раза «Славься, Мария» или что-то в этом роде. А ей, ей нужен ответ. Но ответа ни у кого нет — ни у бога, ни у дьявола.
Данута замолчала, прикусила губу, уставилась на изображение Спасителя, потом на ангелов, похожих на чисто вымытых, хорошо откормленных поросят, потом на своды, под которыми чернели аккуратные ласточкины гнезда. Эти гнезда настолько захватили ее, что она, вместо того чтобы начать свою исповедь, спросила:
— У вас что, ласточки в костеле летают?
— Летают, дочь моя, — сказал ксендз.
— Как интересно, — она не скрывала своего восхищения.
— Не отвлекайся, дочь моя, — остудил ее восторг исповедник.
Он, видно, страдал астмой, беспрестанно сопел, и Данута устыдилась своей легкомысленности. Нашла о чем спрашивать — о ласточках. Пастыря надо спрашивать о том, как жить.
— Мой муж — еврей, — выпалила Данута, решив начать с главного. — Мы не венчанные.
— То, что не венчаны, это нехорошо, дочь моя, а то, что твой муж еврей, так и Христос был евреем.
— Христос был евреем, а Эзра им остался.
— Любишь его?
— Христа?
— Эзру.
Странно было слышать от него имя Эзры, но он произнес его внятно, без всякой брезгливости.
— Люблю… И его, и Христа… Только — господи, не покарай меня за кощунство — Эзру больше.
— Любить, дочь моя, надо всех поровну.
Слова старца приободрили ее, и она понеслась вскачь по городам и годам, принялась рассказывать о своих родителях, о слепом пане Скальском, до сих пор омрачающем ее сны, о том, как она ушла от него к Эзре, бродяге, скомороху, который и ее превратил в скиталицу.
Дыхание ксендза за ситцевой занавеской участилось, сделалось жарче и громче.
— Ты ждешь от него ребенка? — прохрипел ксендз.
Вопрос его застал Дануту врасплох. Чего-чего, а такой каверзы она от него не ждала.
— Нет, — сказала Данута. — Нет.
Вместо желанного облегчения от своей торопливо, по-детски искренней исповеди Данута вдруг испытала какое-то чувство щемящей, умноженной ложью, вины. Ей захотелось тут же от нее освободиться, чтобы она, эта вина, не угнетала и без того угнетенную душу.
— Он меня с ребенком бросит, — пожаловалась она на Эзру.
— Кто же тебе дороже? — спросил ксендз.
— Он.
— Он — ребенок или он — муж?
Она не ответила. Только почувствовала, как ее начинает бить озноб, то ли от прохлады — на дворе все-таки стоял сентябрь, — то ли от ее чрезмерной, губительной доверчивости.
— Молись, дочь моя! И уповай на бога, — напутствовал ее ксендз.
Он вышел из исповедальни и засеменил по листьям, устилавшим пол костела.
— Молись! — выдохнул он.
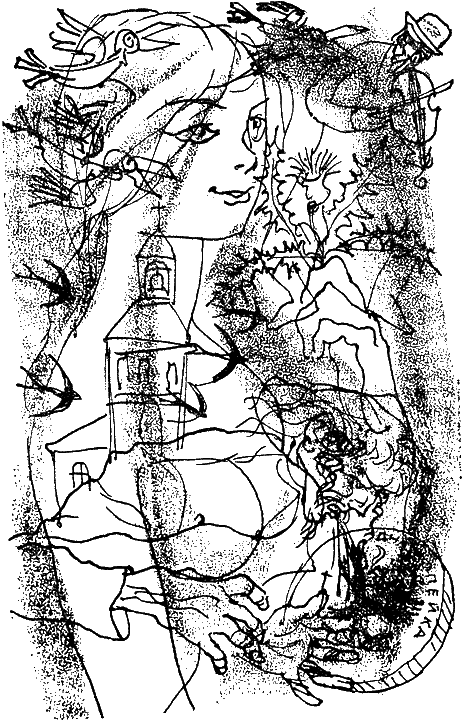
Ксендз шел медленно, чувствуя за собой дыхание Дануты, которая в ту минуту, наверно, была для него не грешницей, даже не женщиной, а тенью оголившейся яблони, падавшей на его сутулые, ссохшиеся плечи, не привыкшие ни к какой земной ноше.
В заезжий дом Шолома Вайнера Данута вернулась притихшая и просветленная, как будто приняла важное, почти роковое решение. Может, она и в самом деле прикоснулась к року сердцем, и сердце — как ни странно! — от этого прикосновения не лопнуло, не окаменело.
Эзры ни в доме, ни во дворе не было, и Данута всполошилась.
— Не видели моего? — осведомилась она у Шолома Вайнера.
Шолом Вайнер выпучил глаза и, прежде чем ответить, взглядом как рукой обшарил низ ее живота, холмики грудей, бойко выпиравших из-под платья, зарылся в копну ее рыжих густых волос.
— Реб Шнеер его увел, — сказал он, замурлыкав, как кошка при виде рыбы, выпрыгнувшей из ведерка.
— Шнеер?
— Наш кантор, — объяснил Шолом, все еще безнаказанно шныряя взглядом по ее сдобе. — Вон его обитель, — и хозяин заезжего дома провел по воздуху короткопалой, как рубанок, рукой, показывая на местечковую каланчу. — Только знаете, он у нас с тараканчиком в голове.
У Дануты не было привычки ходить следом за Эзрой. Она могла дожидаться его часами, перебирая и плетя, как косы, свои воспоминания или сидя за столом в каком-нибудь заезжем доме и гадая на замусоленных картах под вороний грай на червового короля.
Но сейчас его уход вызвал у нее какое-то смутное раздражение. Только поманили, и пошел. Больше нечего им здесь делать, хоть Мендель Пекелис, расщедрившись, и заплатил им столько, сколько не платят целой ватаге бродячих музыкантов. Пора убираться, пока не замело, не завьюжило, пока на дворе светлое, желтое, как костельная лампада, бабье лето. Пора! Не скоро доберутся они до Вильно, даже если им повезет и какой-нибудь крестьянин посадит их в телегу. А ведь до Вильно надо еще и в Бабты заехать, к колченогой Гите за зимней одеждой — ее, Дануты, кожушком и его, Эзры, сермягой (не таскать же это за собой круглый год!)
Возьмут у Гиты одежду и прямиком в литовский Иерусалим. В Вильно уйма докторов. Может, там Эзре помогут. За деньгами дело не станет. Шахна — пиковый король — даст, он человек богатый, служит в какой-то канцелярии. Это на бубнового короля — Гирша — рассчитывать нечего. Подумать только — в самого генерал-губернатора стрелял!
Данута вдруг вспомнила, как они с Эзрой на прошлой неделе гостили в Мишкине, как спали на чердаке, где ослепший голубь летал из угла в угол и садился на Цертину кровать, в которой они млели от любви. Голубь ворковал у изножья, и у них не было сил прогнать его.
Данута дошла до каланчи, над которой о чем-то сплетничали сороки. Они кружились в воздухе, как рассыпанная колода карт.
— Я слышал, как ты пел, — сказал кантор Шнеер и поставил на щербатый стол две кружки парного молока. — Пей.
Сухопарый, костистый, с седыми пейсами, как бы стекавшими серебристым ручейком в густой малинник бороды, лобастый, с мохнатыми тучками бровей, он смотрел на Эзру с каким-то восторженным сожалением.
— Пей, — повторил он, сам не притрагиваясь к своей кружке.
За окном, как маятник, мелькала Данута.
— Пей, голос купается в парном молоке, как усталый воин в струях Иордана.
Кантор Шнеер говорил витиевато, мудрено, помогая себе указательным пальцем, которым словно загребал в воздухе, и речь его, изысканная, цветистая, не вязалась ни с его внешним видом, ни с его повадками.
— Голос надо купать в парном молоке каждый день, — продолжал Шнеер. — А ты небось в вине его купаешь?
— Случается, — признался Эзра и отпил из кружки.
— Вино — радость, — сказал кантор. — Но когда радость начинается в чреве, она кончается в нужнике. Пей!
Эзра слушал его, отпивая маленькими глоточками, нежа свою измученную гортань и совершенно не понимая, зачем реб Шнеер позвал его к себе, зачем заманил в эту просторную и пустую комнату, где текут молочные реки в кисельных берегах.
— Слушал я тебя на свадьбе у Пекелиса и думал: вот из кого может выйти великий кантор. Да, да! — затараторил ом, хотя Эзра ему и возразить не успел. — Но для этого негоже драть глотку где попало и для кого попало. Петь надо только для одного человека.
— Для кого? — поглядывая в окно на вышагивающую Дануту, спросил Эзра.
— Для бога, — неожиданно ответил Шнеер.
— Но разве бог — человек?
— Человек, — не смущаясь, пробормотал кантор. — Единственный и настоящий.
— А мы?
— Мы? Мы — домашние животные: коровы, козы, собаки. Сидим в конуре, звякаем цепями, жуем в стойлах сено и радуемся, когда нас одарят лишней охапкой. Мендель Пекелис сколько сена тебе подбросил?
— Мендель Пекелис заплатил мне овсом.
— Ты парень — не промах, — рассмеялся Шнеер, и легкий ветерок восхищения взъерошил тучку его мохнатых бровей. Только сейчас Эзра заметил, сколько у него морщин — на лбу, на скулах, на высохших руках, — он словно весь был обнесен реденьким частоколом.
— У меня есть к тебе предложение, — сказал Шнеер.
— Но вы же совсем меня не знаете, — промолвил Эзра и снова глянул в окно, за которым под желтым ливнем расхаживала Данута.
— А что я должен о тебе знать? Мы все равно друг о друге ничего не знаем, кроме того, что родились и, когда придет наш час, умрем. Разве ты можешь к этому что-нибудь добавить?
— Нет, — сказал Эзра.
— Я — кантор, — теперь и Шнеер отпил из своей кружки. — Я должен слышать, а не знать. У тебя не голос, а ветвь саронского винограда, которую подтачивают черви. Я берусь их вывести, и все синагоги Литвы и Польши будут наперебой приглашать тебя и платить не овсом, а чистым золотом.
— Поздно, реб Шнеер.
— Что значит поздно? Я в молодости тоже харкал кровью, а вот же дожил до глубокой старости. Я в молодости тоже волочился за христианками, а ведь вот — остался евреем. Почему? Потому, что не базарные песенки распевал, а молитвы. Молитвы лечат, как парное молоко, поверь мне.
— Да, но я же не один.
— Что значит — не один?
— Ни в одной синагоге Литвы и Польши не станут слушать меня, узнав, что я… ну, что она — полька… — сказал Эзра и снова глянул в окно.
Данута перебрасывала котомку из одной руки в другую и делала ему какие-то знаки губами: мол, кончай, сколько можно разговаривать. Эзру уже самого тяготило краснобайство Шнеера. Он все равно не бросит свои скитания, не предпочтет сытую оседлость своим голодным странствиям, не будет распевать молитвы. Толпе нужны не молитвы. Толпе нужны грубые и ясные слова. Его, Эзру, манят площади, трактиры, он любит будоражить народ, науськивать, подстрекать против гонителей и лихоимцев. Эзра мечтает не обо всех синагогах Литвы и Польши, а о своем театре с крышей и сценой, с актерами и зрителями, с хлопками и криками восторга. Однажды он был в таком театре в Вильно. Он попросился бы туда, но кто его с таким акцентом примет? А еврейских театров нигде нет — ни в Варшаве, ни в Петербурге, ни в Киеве. Играют по-русски, по-немецки, по-фински, но только не по-еврейски. Запрещено! Хорошо еще, по-еврейски можно молиться. Молиться и проклинать.
— У меня тоже была жена, да будет ей хоть в раю сладко.
Шнеер зашагал по комнате, подошел к окну, протер стекла, чтобы получше разглядеть Дануту.
— А ты… ты что — не мог найти другую?
— Не мог, — отрезал Эзра. — Что по сравнению с ней все синагоги Литвы, и Польши, и всей Бессарабии в придачу?
— Позови ее, — великодушно произнес кантор. — В писании сказано: приюти чужестранца, открой дверь рабу и невольнику.
— Не надо ее звать, — твердо сказал Эзра. — Усталый воин не будет купаться в струях Иордана.
— А куда тебе торопиться?
— В Вильно брат умирает.
— Брат есть брат. Но ты еще раз подумай. Я научил бы тебя всем молитвам: и «Шима Исроэль» — «Внемли, Израиль!», и «Колнидрей». Ты только послушай!
И Шнеер вдруг высокой пронзительной нотой рассек воздух. Молитва затрепетала, взмыла под потолок, пронзила крышу и, видно, долетела до божьего чертога.
— Ну! — подзадорил кантор Эзру. — Давай вместе! Сейчас мы с тобой оторвемся от земли и перенесемся туда, на небо… и наш господь сотворит чудо — наполнит твои легкие воздухом, которого хватит на сто лет!
Сказав это, кантор снова затянул молитву.
Эзра диву давался: какой у Шнеера еще сильный и красивый голос. Он крепчал с каждым стихом, с каждым словом, с каждой буквой молитвы, пережившей гонения фараонов и амалекитян и звучавшей, может быть, еще в плаче на реках вавилонских; голос молодел и укорял Эзру, и Эзра не выдержал. Поддавшись какому-то колдовству, он против воли, сперва робко, потом смелей и смелей втянулся в это негаданное просветленное безумие: а вдруг господь и впрямь явит чудо, наполнит его легкие неземным делительным воздухом на сто, ну пусть не на сто, пусть еще на десять лет, и оттого, что Эзра не сплоховал, что у него из горла ничего, кроме чистых, завораживающих, подобно сну, звуков не исторглось, его охватило необъяснимое, давно забытое волнение. Ему почудилось, будто этот прорыв к детству, эта горячая и искренняя жалоба были предопределены свыше для того, чтобы он мог оплакать себя, бродягу и скитальца: своего отца, каменотеса и ваятеля Эфраима, который, видно, давно уже соорудил ему в душе могильный памятник; своего брата Гирша, на шее которого не сегодня-завтра палач затянет смертельную петлю; Дануту, которую он, Эзра, вырвал из родного гнезда и бросил в морось, вьюгу, листопад.
Наконец молитва изнурила Шнеера, и он подавленно-величаво замолк, озираясь по сторонам и теперь уже сам поглядывая в окно: не собрались ли зеваки? Ведь не каждый день происходит такое в местечке, где вообще ничего не происходит; ведь не каждый день глухонемая, униженная горестями душа обретает дар речи, отнятый у нее серыми, как старость, буднями.
— Спасибо, — сказал Эзра. — За молоко. За молитву. За то, что предложили остаться. Но кантором мне уже не быть. Я слишком грешен, чтобы петь во славу небес.
— А чем тебе платит земля? Овсом или кровью? — рассердился кантор и испугался собственных слов. Желая как-то смягчить их, он добавил: — Ты можешь спросить: «А чем мне заплатило небо? Чем? Отняло жену, не дало детей!» Это правда. Но ты запомни: вера выше правды. Как солнце выше печной трубы, забитой сажей. Вера светит, правда дымит.
В окне мелькнула тень Дануты.
Эзра встрепенулся, засуетился.
Заторопился и Шнеер. Видно, понял, что Эзру не уговорить.
— Я дам тебе адрес, — сказал он, допив свое молоко. — В Вильно живет мой родственник.
— Кантор?
— Доктор Гаркави. Брат покойной жены. Сходи к нему и покажи свои легкие. Скажешь: Ипудкин тебя прислал.
— Ипудкин?
— Это я. Денег он у тебя не возьмет.
— Спасибо.
— Запомни: Трокская, одиннадцать. Самуил Гаркави.
Шнеер Ипудкин (наградил же бог фамилией!) еще долго стоял у окна, пытаясь разглядеть не то Эзру с Данутой, не то Трокскую улицу, не то своего знаменитого родственника Самуила Гаркави, которого он ни разу в глаза не видывал, но о котором столько слышал и к которому великодушно посылал всех больных из этой сумеречной жемайтийской глухомани, где люди, если и лечатся, то только травами и молитвами.
Большак с выбоинами и рытвинами тянулся до самого горизонта.
Данута семенила впереди, а чуть сзади, втянув голову в плечи, шагал Эзра. Они уходили из этого сонного местечка, как и пришли: налегке, с пустыми карманами и ощущением неминуемой, упрямо преследовавшей их беды.
Эзра то и дело оглядывался — казалось, прыткая струйка крови, выползшая из дома достопочтенного Менделя Пекелиса, догонит их, и тогда прощай, Вильно, прощай, бурый таежный медведь!
Обычно переход из одного местечка в другое длился день, а то и меньше (местечки жались друг к другу, как горошины в стручке), но для Эзры и Дануты, голодных, вольных, бездомных, время не имело значения, они как бы не замечали его — разучивали в дороге разные сценки и куплеты, изображали богачей (таких, как скототорговец Мендель и Пекелис) или хозяев постоялых дворов (таких, как Шолом Вайнер), сварливых наложниц и мстительных любовников, томных еврейских барышень и спесивых польских графинь. Порой они из настоящего переносились в далекое прошлое, и тогда Данута превращалась в Юдифь, а Эзра — в Олоферна или в Амана.
— Нет ли у вас, хозяюшка, чего-нибудь на ужин. Жаркого, например? — спросил Эзра, затеяв с Данутой игру в «голодного путника и дебелую корчмарку».
— Лучше скажи, чего от тебя кантор хотел? Небось подговаривал бросить меня, — ответила Данута, отказываясь входить в образ.
— Не найдется ли у вас, хозяюшка, куска рыбы? — не унимался Эзра.
— Все твои сородичи только и делают, что науськивают тебя на меня… Я для них гонка… иноверка… Отец твой на меня волком смотрит… — сказала она.
— Отвечай: нет у меня ни жаркого, ни рыбы; все купцы приезжие съели!
— Женился бы на еврейке и горя бы не знал; готовила бы тебе жаркое, варила бы каждую субботу рыбу-фиш.
— А масла у тебя, хозяюшка, не найдется? — гнул свое «голодный путник».
— Хватит валять дурака!
Господи! Что это сегодня с ней? Раньше первая бросалась в водоворот игры, придумывала всякие ужимки, жесты, слова, поражая Эзру своей переимчивостью и необузданным воображением.
— А сметаны, хозяюшка?
— Нет! — выкрикнула она. — И отстань от меня!
— А хлеба, а огурчиков? — не отчаивался «путник».
— Господи! — взмолилась она.
— Правильно! Корчмарка говорит: «Господи!.. Что за странный человек! Ему всего хочется!»
— Глупо. Глупо! Глупо!
И заплакала.
На нее и раньше накатывала суровая и беспричинная ревность, и тогда их жизнь-игра разлаживалась, они разделялись на два неуступчивых враждебных стана, которые обычно примиряли по-крестьянски неброские литовские звезды и ночлег на постоялом дворе, если на это хватало денег.
Данута ревновала его не к женщине — все женщины, встречавшиеся им по дороге, казалось, годились на все, кроме любви; она ревновала его к его племени, которое, как она ни тщилась его понять, оставалось для нее загадочным, отмеченным какой-то почти потусторонней, омутной притягательностью. Данута питала к нему не вражду, не неприязнь, а тихое и горделивое безразличие. Она опасалась, что в один прекрасный (неизвестно только, для кого прекрасный, разве что для отца Эзры — Эфраима) день она не выдержит, пошлет их всех ко всем чертям, вернется в свою Сморгонь, где будет вспоминать об этом племени, как вспоминают о болезни. Но всякий раз, когда жизнь приближала ее к такой развязке, она передумывала, отказывалась от своего первоначального (и бесповоротного) решения, и останавливали ее не жалость к себе, не любовь к Эзре, не страх перед будущим, а само это племя, гонимое, лишенное всех прав, кроме горького и рокового права умирать. Чем лютей это племя ненавидели, тем больше Данута привязывалась к нему. Это возвышало ее в собственных глазах, делало чуть ли не праведницей. Самая праведная грешница и самая грешная праведница — так называл ее он, коханы Эзра.
Все ему нипочем, думала Данута, шагая по пустынному большаку; и чахотка, и бездомность, и беременность, о которой он, наверное, догадывается, не может не догадываться, ведь нет такого дня, чтобы она не подпускала его к себе.
— Реб Шнеер предлагал мне пойти к нему в ученики, — сказал Эзра.
— В певчие?
— Он сказал, что меня будут наперебой приглашать все синагоги Литвы и Польши.
— А ты что на это?..
— Я сказал, что моя синагога — ты… и что я в ней и кантор… и певчий…
— Поклянись богом.
— Евреи богом не клянутся. Говорят: «Чтоб я так жил!» или «Чтоб мне детей своих не видать».
Она откинула волосы, и волосы упали ей на плечи, как ворох осенних листьев.
— Хочешь иметь детей?
— А ты? — спросил он.
— У женщины не спрашивают. Или если спрашивают, то от страха. Ты спрашиваешь от страха?
Данута остановилась, подождала, пока он поровняется с ней, обхватила его шею руками, прижала к себе и стала целовать.
— Пусти, пусти, — взмолился он.
Они стояли посреди большака — в обнимку, зажмурившись, одни в целом мире.
— Так мы до Вильно никогда не доберемся.
— Никогда, никогда… И пусть… Я буду тебя целовать до тех пор, пока не затарахтит какая-нибудь телега.
— Не сходи с ума! А если она затарахтит завтра?
— Буду целовать тебя до завтра… до послезавтра… до скончания века, — прошептала она, задыхаясь от нахлынувшей нежности и не стыдясь ее, как не стыдятся своих ласк птицы и звери.
И вдруг в тишине прорезался негромкий и частый звук.
Эзра прислушался.
— Кто-то едет, — сказал он.
Данута пропустила его слова мимо ушей: она, казалось, спала. Шутка ли — две ночи не смыкать глаз, петь, плясать, подыгрывать Эзре на кларнете в счастливом доме достопочтенного Менделя Пекелиса, а потом до рассвета терзать постель на постоялом дворе Шолома Вайнера.
Повозка приближалась, но Данута не отпускала его, гладила по голове, терлась щекой о его подбородок и что-то, как сквозь сон, по-польски, по-немецки, по-хасидски звучно и самозабвенно повторяла.
— Эй, вы там! Другого места не нашли?! — донеслось с повозки, и Эзра по властному голосу понял, что возница не простой крестьянин.
Когда Данута отлепила веки, она увидела странного еврея в цилиндре, в черном сурдуте, в начищенных до бритвенного блеска хромовых сапогах. Возница, казалось, правил не лошадью, а всей империей — пегая была под стать ему: самоуверенная, с лоснящимся крупом, старательно расчесанной гривой и звонкими, подкованными копытами. Он сидел на облучке, слегка накренясь в сторону, прислушиваясь к чему-то.
— Дорогу! Дорогу! — воскликнул он без прежней злости, натянул вожжи, остановил лошадь, и взгляд его, как змейка, пополз по вырезу Данутиного платья и юркнул в белевшую между грудями ложбинку.
Эзра пригляделся к нему и, осененный счастливой догадкой, воскликнул:
— Реб Юдл!
Человек на облучке был эконом графа Завадского Юдл Крапивников.
— Для кого реб Юдл, а для кого и Юрий Григорьевич Крапивников, — предупредил возница. — А ты кто таков?
— Эзра… Эзра Дудак… Пою и играю на свадьбах… когда требуется, заменяю плакальщиц на похоронах.
— А-а! — протянул Юдл Крапивников. — Эзра Дудак, сын каменотеса Эфраима и брат государственного преступника?
— Мы с отцом ставили вашей матери памятник, — напомнил Эзра.
— Хороший памятник, — похвалил не то мастеров, не то самого себя Юдл Крапивников. — Здравствуйте, — церемонно приподняв цилиндр, обратился он к Дануте, и змейка, высунув жало, снова поползла по груди, по шее, по соломенного цвета волосам, в которых, казалось, гнездились прыткие перепела, дразнившие его охотничий нюх.
— К брату в Вильно? — все еще не трогаясь с места, проронил Юдл Крапивников и поправил цилиндр. — Задал же вам ваш Гиршеле работенку, — сочувственно произнес эконом, все еще пялясь на Дануту.
Эзра ничего не ответил. Какое Крапивникову дело до несчастного Гирша? Сидел бы на козлах, помалкивал бы и ел глазами Дануту, чтобы они у него повылазили.
— Отца своего не встретил?
— Нет.
— Я говорил ему: «Подождите, реб Эфраим, до пятницы. В пятницу я еду в Вильно графа из Парижа встречать». А он: «Нет и нет! До пятницы ждать не могу!» Не послушался меня… Дай бог, чтобы обошлось одной смертью, — вздохнул Юдл Крапивников. — Правдолюбцы задрипанные, — напустился он вдруг на воображаемых арестантов. — Кто их, скажите, просит за нас заступаться? Кто? Я? Твой отец Эфраим Дудак?
Юдл Крапивников стегнул лошадь.
— Что вы, паночки, стоите? Забирайтесь в бричку. Только, ради бога, ноги вытирайте, его сиятельство граф за каждую соринку, за каждое пятнышко с меня семь шкур спустит.
— А можно… босиком? — спросила Данута, чувствуя на себе знобкое прикосновение змеиной кожи и, не дожидаясь ответа, принялась разуваться. Задрала платье, стянула чулки, оголила ноги.
— Не замерзнешь? — озаботился Юдл.
— Я горячая, — выпалила Данута, обжигая его своим бесстыдством. — Правда, Эзра? — и, спохватившись, замолкла.
Господи! Просто не верится — такая удача! До самого Вильно довезет. И даром.
— Коли ты еврей, — продолжал Юдл Крапивников, когда Данута и Эзра уселись сзади, — ты должен соблюдать одно условие.
— Какое?
— Должен быть полезен хозяину. А что такое быть полезным хозяину? Это значит: не учить его уму-разуму, а лучше других для него петь, шить, лудить… Скажите, вам бы понравилось, если бы в вас стреляли? Говорят: равенство, свобода, братство. Тысяча лет прошла, и что мы видим? Евреи за братство, но где они, наши братья, где? Евреи за свободу, но где она — наша свобода? В черте оседлости? Евреи за равенство, но где оно, наше равенство? Уже во чреве матери мы неравны! Лучше других, паночки, пойте и играйте для хозяина на скрипке, и вас будут в красный угол сажать! Лучше других шейте для него, и вы будете одеты, — Юдл Крапивников снял цилиндр, вытер пот. — Мой покойный родитель аптекарь Крапивников говорил: плох ли сегодняшний день, хорош ли — все равно станет вчерашним.
Лошадь бежала непринужденной рысью, как и подобает баловницам графа. Ей были нипочем ни рытвины, ни ухабы. Все вокруг плавилось в огромной медеплавильне, и переизбыток меди уравновешивался голубизной, расплескавшейся над притихшими долами и полями.
Эзра слушал Крапивникова рассеянно. Эконом напомнил ему об отце, бросившем родной дом и отправившемся в свои восемьдесят лет в Вильно, чтобы проститься с непутевым Гиршем. Зачем ему, старику, это прощание? Палач не смилостивится, петля не оборвется.
Все мы палачи, все, думал Эзра, и я, и Гирш, и даже Шахна: обрекли отца на одиночество — разлетелись кто куда. А ведь одиночество хуже смерти. Одиночество — это ее бессонница.
С отца мысли Эзры перекинулись на Гирша. Ну чего, спрашивается, полез на рожон? Бог вложил тебе в руки шило — так шей, тачай, не суйся не в свое дело, стисни зубы, если обидели, не смей проливать чужую кровь. Чепуху несет аптекарь Крапивников. Никакой день не станет вчерашним, если он залит кровью. Такой день всегда будет сегодняшним — и завтра, и через десять, и через сто лет.
Мысль о крови снова вызвала у Эзры приступ кашля. Юдл Крапивников придержал лошадь, чтобы седоков не так трясло, Данута очнулась от забытья, подтянула попону, привалилась к Эзре теплым здоровым телом.
— Я знаю, почему ты кашляешь. Ты думаешь не о том. Я тоже кашляю от плохих мыслей. Плохие мысли как остья. Их выдирать надо, — зачастил Крапивников. — Ты подумай о чем-нибудь другом. О хорошем… очень хорошем… Скинь свою хламиду… влезь в чужой кафтан… надень цилиндр… Представь, что ты — граф, а она — графиня, что вы не к государственному преступнику едете, а возвращаетесь из Парижа.
Кашель не унимался.
— Что с вами, граф? — поддавшись на уговоры Крапивникова, спросила Данута.
— Ничего… Ничего, — успокоил ее Эзра… — Целовал ваши ушки и нечаянно проглотил вашу серьгу!
— Замечательно! То, что надо!.. Вот увидишь: сейчас кашель пройдет… Давай, — подбодрил он Дануту. — Так и дорога пролетит мигом.
— Я погибла, — промолвила Данута, стараясь придать своему голосу интонации высокородной дамы, своей тетушки Стефании Гжимбовской. — Вы же не знаете, граф: мой муж ужасный ревнивец.
— Великолепно! Бесподобно! — приговаривал восхищенный Юдл Крапивников.
— Он убьет меня, если я вернусь домой без серьги, — продолжала Данута.
— Чудесно! — рокотал эконом. — Ну точь-в-точь, как в настоящей жизни.
У Эзры не было никакой охоты паясничать и кривляться, он весь был поглощен своей болезнью, надвигался новый приступ, и, видно, оттягивая его, Эзра все же решился продолжить игру.
— Ради вас, графиня, я готов пожертвовать жизнью, — сказал он.
И — о чудо! — ему и впрямь сделалось легче, боль отступила, как будто от этого перевоплощения в графа у Эзры появились другие, напитанные зефирами Франции и Италии легкие.
— Не волнуйтесь, графиня, — сказал он, и Данута вздрогнула — так нежно, так беспомощно-искренне произнес он эту фразу.
— О, граф!
Данута чувствовала себя виновной в его болезни. Не будь ее, Дануты, Эзра давно поддался бы на уговоры своих родичей, занялся бы ремеслом, подыскал себе спокойную и заботливую жену — главное, из своего же племени — и не разрывался бы на части между евреями и неевреями, пристал бы к одному берегу: на двух берегах никто, кроме перелетной птицы, не живет — ни человек, ни дерево.
— Граф, что мне делать? — убивалась Данута.
— Моя верная сабля вернет вам вашу серьгу, графиня. Смотрите. — И Эзра проткнул воображаемой саблей живот.
— Господи, какой блеск! — таял Юдл Крапивников. — Собственный живот собственной саблей! Неслыханно!.. А дальше что было? Дальше? — умолял он.
— Дальше? Графиня наклонилась к графу, выколупала из его кишки серьгу, вытерла ее своим белым платочком и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то… — Данута запнулась, не зная, чем кончить.
— Приколола серьгу к уху? — пытался угадать конец Юдл Крапивников.
— Когда графиня пришла в себя, то увидела, что это не ее серьга, — быстро нашлась Данута.
— Не ее серьга? — эконом повернулся к Эзре и Дануте, позволив лошади самой отсчитывать версты.
Лошадь шла медленно, лениво. Над ее лоснящимся крупом носились гонимые ветром листья, она принимала их за слепней и отпугивала хвостом.
— Это была серьга ее подруги — графини Потоцкой, — сказала Данута и улыбнулась Эзре.
— Графини Потоцкой? Ха-ха-ха, — гремел эконом. — Ну точь-в-точь, как в настоящей жизни. Это конец?
— Нет, — заверила его Данута.
— Графиня дала графу пощечину?
— Фи! — возмутилась Данута. — Кто же любимому мужчине да еще пощечину? Графиня сбегала во дворец, достала из ларца иголку с нитками, зашила графу живот и простила его, изменника, потому что ждала от него ребенка.
— Сногсшибательно! — совсем растрогался Юдл Крапивников. Он полез в карман сурдута, достал два леденца, протянул один обманутой графине, другой — благородному изменнику и пробасил:
— Угощаю ужином в самой лучшей корчме!
Когда дорога укачала Крапивникова и он, положив на облучок кнут, задремал, Эзра наклонился к Дануте и пробормотал:
— Это правда?
— Что?
— Графиня ждет ребенка?
— Бедный граф испугался?
Его вопрос обидел ее. В голосе Эзры она ничего, кроме угрюмости, не почувствовала, но приписала ее болезненному состоянию Эзры, мучительному единоборству с кашлем, который шнырял по его бронхам, как прожорливый картофельный жучок по ботве.
Лошадь вдруг увидела на дороге зайца и, не чуя поводьев, шарахнулась в сторону, бричка дернулась, затряслась, задребезжала; Юдл Крапивников проснулся, замотал головой, и на миг Дануте померещилось, что без цилиндра он на кого-то поразительно, до ужаса похож, она не могла взять в толк, на кого именно, но сходство это поначалу изумило ее, а потрясло не меньше, чем допрос Эзры.
До самого вечера они не проронили ни слова, и как Юдл их ни упрашивал, соблазняя не только ужином, но и завтраком в самой лучшей корчме, расшевелить не мог.
— Играйте, играйте! — настаивал эконом, глядя, как Данута сосет чувственными губами леденец (Юдл Крапивников всегда возил с собой какие-нибудь сладости, чтобы угостить ими перед сном прислугу в постоялых дворах и лошадь), и улыбка распутной радости багрила его немолодое, привядшее лицо.
Небо задымилось, нахмурилось; от прежней голубизны, расплескавшейся над долами и полями, остались только прогалины, в которых изредка возникали силуэты улетавших на юг журавлей, строгих и печальных, точно свечи перед тем как погаснуть; журавли тихо и внятно курлыкали, и в их курлыканье было не только сожаление о промчавшемся лете, но и какое-то смутное, тревожащее душу обещание.
Запрокинув голову, Данута провожала их взглядом, как будто вместе с летом, с шорохом жухлой листвы, с голубизной они уносили что-то еще, может, ее глупые надежды, может, ее молодость, соблазнившуюся теплом несуществующего гнездовья.
Теперь она все больше убеждалась, что ее ласки, ее утомительная преданность, какой обычно кичатся старые девы, только тяготят Эзру; он и в этом, как ей мнилось, видел только игру; скрадывающую однообразие их унылого существования, игру без грима, без публики, без денег, которая — как бы ни была она хороша — не может длиться вечно.
Данута то и дело ловила себя на мысли, что зря удерживает его, придумывает сотни способов привязать к себе и что все это идет не на пользу, а во вред их вольной, безуставной любви, не требовавшей такой жертвенности. Эзра первое время и впрямь ее любил, да что там любил — боготворил; страсть его была не наигранной, настоящей, искренней; частенько эта страсть опустошала их до основания, и хотя это опустошение лишало их отношения будущего, они предавались ей с какой-то беззаботной одержимостью. Зачем думать о будущем — в постели никто так далеко не заглядывает, плоть питается не будущим, а настоящим.
Он и по сей день был нежен с ней, но в этой его нежности уже не было той исступленности, того обожания и испепелявшего их обоих пыла, что прежде.
Эзра как будто стыдился первым причинить ей боль, уязвить, обидеть или, не дай бог, смертельно ранить. Право расстаться, уйти от него Эзра как бы оставлял ей, но Данута боялась воспользоваться им. Лучше быть покинутой, чем на время прирученной. Потому, наверно, ей хотелось, чтобы он любил ее как женщину, а не жалел как мать.
Один раз она уже была беременна.
То было не в первую, а во вторую зиму их совместной бродячей жизни. Они тогда кочевали по северной Белоруссии, тщетно пытаясь найти пристанище и добыть своим искусством кусок хлеба. Работы никакой не было: ни на свадьбах, ни на праздниках совершеннолетия — бармицвах, ни на похоронах. Все евреи как будто сквозь землю провалились, попрятались, окопались, свадеб не справляли; кто-то сыграл под Гомелем свадьбу, так всех вырезали, а невесту изнасиловали, и мертвой колышек в лоно вбили.
Пустовали и рынки, где вокруг Эзры, показывавшего свои нехитрые фокусы, собирались толпы зевак, платившие, как всегда, больше восторгами, чем медяками.
Когда деньги вышли и подули студеные северные ветры, Эзра решил подрядиться к какому-нибудь ремесленнику — сапожнику или портному. В стужу фокусы лучше показывать шилом и иголкой.
— Сапожников у нас столько, сколько несчастий, — ответили ему в одном месте.
— Господь на каждый дырявый кафтан создал по семь портных, — ответили в другом.
Наконец в Борисове ему повезло. Эзра прослышал, что мельнику Ниссону Гольдшмидту требуются двое парней, и, хотя он никогда в своей жизни не молол, не пеклевал, не просеивал, направился на мельницу.
Мельница Ниссона Гольдшмидта стояла над самой Березиной, там, где Наполеон, намочив, по преданию, треуголку, разбил свой лагерь, перед тем как бежать из России.
— Что ты, дружок, умеешь? — спросил у Эзры борисовский Наполеон — Ниссон Гольдшмидт. Он и в самом деле чем-то походил на великого полководца — маленький, ширококостный, в ермолке.
— Умею играть на скрипке, — сказал Эзра.
— Ты слышал, — обратился Ниссон Гольдшмидт не к тени французского императора, а к самому господу богу. — Он умеет играть на скрипке. А еще?
— А еще — петь.
— Ты слышал, — не давал Ниссон Гольдшмидт господу богу покоя. — Мало ему, что играет на скрипке, так он еще и поет. И какие ты песни поешь?
— Всякие. Еврейские… немецкие… русские… белорусские… польские…
— Ты слышал? Он поет на всех языках. А погром… обыкновенный маленький погром человек на сто остановить ты можешь?
— Песнями? Погром?
— Да. Они на тебя с топорами и кольями, а ты на них с песней. — И Ниссон Гольдшмидт замурлыкал: «Жила и была царица, и был у нее виноградник, а в нем распевала пташечка…»
Эзра не понимал, почему мельник так долго с ним церемонится. Он не умеет останавливать погромы. Ни на сто человек, ни на десять. Погромы не в силах остановить даже казаки. Он, Эзра, не казак. Он такой же еврей, как Ниссон Гольдшмидт. Только без мельницы.
— Глупо, дружок, петь, когда кругом кровь, — съязвил мельник. — Кровь можно остановить только кровью.
— Рад бы помочь, — сказал Эзра, стараясь быть как можно более вежливым, — но у меня нет ни капли лишней.
— А твоей крови, даст бог, не потребуется. — Ниссон Гольдшмидт вынул кисет и принюхался к табаку. — Два золотых в месяц и полный кошт, — объявил он.
— За что? — спросил Эзра.
— Будешь мельницу стеречь… Ну и всех нас… меня, мою жену Менуху, моих дочерей Фрейдл и Шейндл. Винтовка и патроны мои.
Откуда-то с борисовской скотобойни доносился запах крови — кисловатый, теплый, и то ли от этого запаха, то ли от простых и страшных слов мельника у Эзры кружилась голова.
— Но я не умею стрелять, — пробормотал Эзра.
Признание его не смутило мельника.
— Не беда. Родион научит.
И когда Эзра спросил, кто такой этот Родион, Ниссон Гольдшмидт ответил:
— Урядник.
— Урядник?
— Ты, дружок, знаешь, когда придет мессия? Когда евреи перестанут отвечать вопросом на вопрос. И еще запомни: у денег нет вероисповедания. — Ниссон Гольдшмидт взял из кисета понюшку, поднес ее к мясистому носу, наслаждаясь своим могуществом и благовонием заморского табака, за которым ездил аж в Киев.
У Эзры не было сил ни согласиться, ни отказаться. Сознание того, что, если он откажется, Данута снова останется голодной, угнетало его. Откажешься и снова тащись десятки километров до какой-нибудь синагоги, где приютят тебя только в том случае, если Данута ничем себя не выдаст.
Они условились, что Эзра останется на мельнице до весны. Как только зазеленеет первая травка, он тотчас же уйдет из Борисова, потому что не его это дело — стрелять в людей, даже если они громилы.
— А это кто с тобой? — спросил напоследок Ниссон Гольдшмидт, косясь на Дануту.
— Данута, — сказал Эзра.
— Понятно, — бросил мельник. — У кого жена, а у кого… Данута.
И снова покосился на нее.
Ниссон Гольдшмидт выделил им хибарку возле мельницы без кровати, с выщербленным столом, на котором валялись какие-то бумаги, видно, счета. В углу стоял заржавевший безмен; рядом поблескивали пудовые гири.
С них, с этих гирь, все и началось.
Поближе к зиме, когда сквозь щели хибарки с разбойничьим свистом стал продираться ветер, Эзра, до того молчаливо сносивший все тяготы, потребовал от Ниссона Гольдшмидта положенного жалованья для найма какого-нибудь приличного угла или на худой конец покупки кровати с подушками и одеялом, но мельник и бровью не повел: жалованье, мол, не пропадет, сперва прояви себя в деле, а что до кровати, то пусть тебя твоя некейва греет.
Ниссон Гольдшмидт так и сказал:
— Твоя некейва.
Данута знала, что значит это слово по-еврейски.
Шлюха.
Шлюха, шлюха! Ее не раз так называли — и в Гродно, и в Барановичах, и в Тельшах.
Не дожидаясь, пока мельник снова обзовет ее, Эзра схватил гирю и занес ее над ермолкой; Данута ойкнула, закрыла глаза руками, а мельник, охваченный животным страхом, заорал:
— Погромщик! Погромщик! Евреи!..
Эзра сжимал гирю с такой силой, что у него вздулись жилы на лбу; еще миг, и тяжесть железа, смешанная с пудовой ненавистью, опустится Ниссону Гольдшмидту на голову; Ниссон Гольдшмидт попятился к двери, но Эзра преградил ему дорогу и глухо прорычал:
— На колени! На колени! Или я размозжу твой собачий череп!
Ниссон Гольдшмидт, кряхтя и проклиная тот день, когда взял к себе в охранники такого негодяя, грузно опустился на колени.
— Данута! — промолвил Эзра. — Открой лицо! Сейчас реб Ниссон скажет тебе другие слова! Повторяйте, почтенный, за мной, — обратился он к мельнику.
— Что?
— «О ты прекрасна, ты прекрасна».
— Кто прекрасна? — верный своей привычке торговаться, спросил Гольдшмидт.
— Та, перед которой вы сейчас стоите на коленях, — объяснил Эзра. — «Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои, как стадо овец, сходящих с горы Галаадской». Повторяйте, реб Ниссон, если не хотите, чтобы я сровнял вашу голову с плечами!
Мельник тупо вглядывался в грязный пол хибары. Он не видел ни овец, ни горы Галаадской — только разбросанные там и сям мешки, только плесень на стенах, только невод паутины, в который он по собственной глупости попался.
— Как стадо овец, сходящих с горы Галаадской, — простонал он, косясь на гирю в Эзриной руке. С таким шутки плохи! Сумасшедший! Ирод! Гонта!
— Ясней, реб Ниссон! Не проглатывайте слова! Повторяйте за мной: «Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий; тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных».
— «Щиты сильных…» — пытался сократить свои муки мельник.
— Хватит, Эзра, — заступилась за Гольдшмидта Данута.
— «Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей», — продолжал Эзра.
— «Пленила ты сердце мое», — обреченно выводил мельник. Его душила злость. Никогда еще в жизни он не испытывал такого подлого унижения. Повторять слова библии — кому? Некейве! Потаскухе! Девке, которой грош цена в базарный день!
Эзра опустил гирю на пол.
Ниссон Гольдшмидт встал, разогнул застывшую от унижения спину и принялся чистить штаны на сгибах. Он чистил их долго и рьяно, словно силился соскрести с них свой позор.
— Что это он повторял за тобой? — спросила Данута, когда они остались с Эзрой вдвоем.
— То, чего никогда не слыхала его Менуха и никогда не услышат его Шейндл и Фрейндл, — ответил Эзра. — «Песнь песней». Он просил у тебя прощения, он признавался тебе в любви… как царь Соломон царице Савской…
— Царица Савская… Некейва я для вас… некейва… — она размазала по лицу крупную, шляхетскую слезу. — «У кого жена, а у кого — Данута». Вот моя «Песнь песней».
Ниссон Гольдшмидт выгнал бы их в тот же день, если бы не погром, случившийся в Борисове.
Хоть погромщики лютовали на другом берегу Березины и мельницы пока не трогали, Ниссон Гольдшмидт понимал, что для погрома река не преграда.
Когда пьяная чернь, вооруженная дубинками, кольями и ломами, стала переправляться через набухшую от осенних ливней реку, мельник велел Эзре и другому своему наймиту Мойше зарядить винтовки и расположиться не на мельнице — черт с ней, с мукой, пусть грабят, пусть хоть всю растащат, — а на первом этаже дома, где дочки Ниссона Фрейндл и Шейндл кипятили воду и разливали ее по кастрюлям, чтобы в случае появления погромщиков вылить кипяток со второго этажа на их головы.
Из открытых окон второго этажа, как из бани, валил спасительный пар.
Воды требовалось много. Данута, выбиваясь из сил, таскала из колодца полные ведра и сливала в большой медный котел.
— Пошевеливайтесь! — покрикивала на дочек и на прислугу Ганку жена Ниссона Гольдшмидта Менуха.
Ганка, высокая, рослая девка, на большом листе белой бумаги рисовала крест, закрашивала его чернилами в отпугивающий черный цвет: мол, нас не троньте, мы православные.
— Фрейндл! Шейндл! Тащите кастрюлю! Сейчас попробуем! — командовала Менуха.
Дочки принесли кастрюлю с кипятком и, не глядя вниз, плеснули на мостовую.
— Ой! — послышалось внизу.
Данута не успела увернуться, крупные обжигающие брызги попали ей в лицо, она вдруг попятилась, оступилась.
— Эй, ты! — заорала на нее Менуха. — У тебя что, глаз нет?
Но Данута ее не слышала.
То ли от ожога, то ли от тяжести она покачнулась, выпустила из рук ведра и упала как подкошенная.
— Данута! — закричал Эзра и бросился к ней.
Она лежала в луже студеной колодезной воды, и первое, что Эзра увидел, был подол ее платья, намокший от крови.
— Мой погром кончился, — сказала Данута. — Они убили нашего ребеночка.
Эзра не понял, о ком она говорит — то ли о тех, кто бесчинствовал на другом берегу Березины, то ли о тех, кто готовился к защите.
— Разграбили мою мельницу, — сказала она, когда поправилась. — Теперь на ней только полова.
Сказала и после выкидыша зареклась беременеть.
Два года не забывала она про свой зарок, береглась, но, надо же, не убереглась. А теперь, когда Эзра так болен, — до ребенка ли?
Откуда-то из небытия под скабрезные шутки Юдла Крапивникова и убаюкивающий цокот копыт графской лошади в памяти у Дануты всплывали Борисов, крест на втором этаже гольдшмидтовского дома и медный котел с булькающим, льющимся на голову кипятком, от которого не увернуться ни ей, ни ее зачатому в каком-нибудь придорожном заезжем доме ребеночку.
Как Юдл Крапивников и обещал, он выбрал самую лучшую корчму, славившуюся на жемайтийском тракте своим гостеприимством и вкусной, рассчитанной на все вероисповедания, даже на мусульманское, едой. Во всем Северо-Западном крае и в соседней Курляндии эту корчму знали по ее звучному, меланхолическому названию — «Под липами».
Ее действительно обступала купа лип, посаженных, должно быть, еще в языческие времена.
Хозяин корчмы, видно, издавна был знаком с Крапивниковым, он сам распряг лошадь и под одобрительное бормотание эконома отвел ее в конюшню.
Задав ей овса и заперев на засов конюшню — не дай бог, пронюхает Иоселе-цыган и умыкнет лошадь, век с графом не рассчитаешься, — он вернулся, попросил гостей пройти в дом и, когда те гурьбой вошли, принялся предлагать им комнаты или, как он их называл, номера. К его удивлению, Юдл Крапивников от номера с видом на озеро отказался и предпочел поселиться рядом со своими седоками.
— Но этот номер, Юрий Григорьевич, похуже… — признался корчмарь.
— Сойдет, — ответил Крапивников, польщенный тем, что его назвали по имени-отчеству. Крапивников обожал, когда к нему обращались по-русски. Что такое «реб Юдл»? Ни один акцизный чиновник, ни один становой пристав, ни одна христианская душа не знает и не ведает о такой приставке — «реб». Другое дело — Юрий Григорьевич! Юрием Григорьевичем величают самого ковенского градоначальника! Если покопаться, то и среди министров можно найти Юрия сына Григорьева. И не только среди министров — россиенского батюшку тоже зовут Юрий. Обратятся к тебе так, и ты на минуту — в мыслях, конечно, — градоначальник, министр, батюшка!
— Ваша воля, — сдался корчмарь, оглядывая Эзру и Дануту. — Рядом так рядом. Прикажете накрывать на стол?
Крапивников не отвечал. Пускай обратится как положено.
Смекнув, что он дал маху, корчмарь поправился:
— Прикажете, Юрий Григорьевич, накрывать на стол?
— Изволь, голубчик.
— На сколько человек? — на всякий случай осведомился хозяин. Может, эти голодранцы не имеют к Юрию Григорьевичу никакого отношения.
— На троих, — снизошел Юдл Крапивников. — Балычок у тебя имеется?
— Имеется, Юрий Григорьевич.
— А икорка?
— И икорку сыщем, Юрий Григорьевич.
— А устрицы?
— Устриц, Юрий Григорьевич, не держим.
Вся корчма была полна этим сладкозвучным, этим высокородным сочетанием — Юрий Григорьевич. Оно ласкало Крапивникову слух, оно было балычком, икоркой, устрицами, бальзамом на сердце, придавало ему, сыну мишкинского аптекаря, небывалый вес.
— Штоф водки, — сказал эконом Завадского.
— Слушаюсь, Юрий Григорьевич. — С каждым «Юрием Григорьевичем» корчмарь к обычной цене набавлял алтын. Пускай платит, гордец, коли ему так хочется, чтобы его величали по русскому обычаю.
— Давай сразу два, — приказал Крапивников. — С хорошими людьми и выпить не грех. Кочуют, бедняги, из местечка в местечко, поют, пляшут, играют. Ты бы их, Хесид, взял к себе.
— Зачем, Юрий Григорьевич?
— Они б тебе гостей заманивали. Народ валом бы валил… Почему бы тебе, голубчик, не порадеть за родное слово и родную песню?
— Рад бы порадеть за нашу родную песню, Юрий Григорьевич, но на нее никто не повалит. Каждый еврей сам умеет петь.
— Ты, Хесид, не патриот.
— Боюсь, Юрий Григорьевич, побьют.
— Побьют?
— Сами знаете: за чужие песни платят, за родные — бьют, — вздохнул Хесид.
— Ах, хитрец! Ах, пройдоха! Ах, патриот! — ласково ругнул корчмаря Юдл Крапивников.
Человек, названный Хесидом, принялся жаловаться на тяжкое житье всех корчмарей на тракте от Смалининок до Ковно, на житье, которое особенно ухудшилось после ареста Ешуа Манделя («Крепкий был мужик! Вместе на винокурню к Вайсфельду ездили»), обвиненного в убийстве христианского мальчика; жди, мол, когда к тебе нагрянут и в отместку разнесут корчму в щепы; скорей бы дело кончилось, второй год суд идет и — ни туда ни сюда, ни домой, ни на каторгу; защитника уже доконали… Горского или Борского…
— Дорского, — помог Хесиду Юдл Крапивников.
— Вот, вот… Дорский… Скажите, Юрий Григорьевич, — взвихрился Хесид. — Почему так устроено?..
— Как?
— Когда убивает Роман, говорят: убил Шмерл! Когда ворует Хасан, вопят: стащил Берл. Послушаешь, что болтают, почитаешь, что пишут, и за голову схватишься: шмерлы-берлы — убийцы, шмерлы-берлы — воры, шмерлы-берлы — мошенники. А где же наши раввины? Сапожники? Гончары? Нищие? Мы что, из одного теста слеплены?
— Слеплены мы, положим, не из одного теста, но зато в одну печь посажены, — сказал Юдл Крапивников. Хоть он и знал, где евреи-раввины и где евреи-гончары, говорить об этом ему больше не хотелось. Он предвкушал, как сядет за стол, как выпьет первую рюмку холодной, остуженной в погребе водки, как теплынь, разлившись по желудку, поднимется вверх, затуманит глаза, и в этом теплом и безопасном тумане лицо Дануты покажется ему еще привлекательней, чем прежде.
Вечерело. Господь бог накинул на мир, как на лошадь, невесомую серую попону.
За окнами слышно было, как снулый ветерок шелестит в оголившихся ветвях липы. Где-то там, за этим шелестом, угадывалось озеро, дышавшее, как разморенное стадо.
Данута следила за тем, как Хесид проворно накрывает на стол, как расставляет тарелки, кладет вилки и ножи, и ощущение чего-то неотвратимого крепло в ней, переворачивая душу. Все ее внимание поглощала мысль о том, что перелом в их жизни произойдет не когда-нибудь, не завтра, не послезавтра, не через полгода, как она предполагала, а сегодня, сейчас, может быть, за этим вот столом, за этими ослепленными теменью окнами, в этих, как Хесид высокопарно, по-столичному называл их, номерах.
Она почти не смотрела на Эзру, как будто старалась от него отвыкнуть, и эта отрешенность только усугубляла ее смятение.
Было что-то унизительное (если не зловещее) в том, что чужой человек, удачливый слуга, счастливый приспешник привез их сюда, чтобы всю ночь (Данута в этом не сомневалась) кормить и поить на заработанные послушанием деньги. Она не обольщалась, не обманывалась насчет его щедрости, ее не вводила в заблуждение его расчетливая широта, которую изобличали недвусмысленные похотливые взгляды.
В разговоре Данута не участвовала — за три года, прожитые с Эзрой, она убедилась, что, о чем бы евреи ни судачили, они обязательно придут к одному и тому же: шести дней господу явно не хватило, чтобы сделать их счастливыми, и неизвестно, сколько еще дней-лет-тысячелетий понадобится, чтобы они похвалили его работу.
Запахло копченой рыбой, пряностями. Юдл Крапивников, нахваливая Хесида, первым уселся за стол (слуги в отсутствие хозяина всегда усаживаются первыми), широким жестом пригласил Дануту и Эзру.
Но Эзра как стоял у окна, так и остался там стоять.
Уже раньше Данута заметила за ним странную, пугавшую ее привычку. В такой позе Эзра мог находиться часами. Казалось, чего проще — перешагни через порог, выйди во двор, распахни, в конце концов, окно, но Эзра почему-то предпочитал смотреть на окружающее сквозь плотное, засиженное мухами стекло, словно оно единственное отгораживало его от всех зол и несправедливостей на свете. Данута никак не могла понять, о чем он, стоя в такой позе, думает, и это ее злило.
— Садись, Эзра, — сказала она.
— Да, да, — отрешенно бросил он, но за стол не сел.
— Садись, садись, — попросил его и Юдл Крапивников. — Как говорят русские, в ногах правды нет. А к тому, что говорят русские, надо прислушиваться. Особенно нам, евреям. Все наши беды оттого, что мы не прислушиваемся. Нам говорят садись — мы стоим, нам говорят стой — мы садимся.
Хесид прыснул.
Данута села напротив Крапивникова, откинула волосы, облизала губы, и этого движения было достаточно для того, чтобы Юрий Григорьевич приосанился, расправил свои холопские плечи, выпятил по-гусарски грудь. Он налил из штофа ей, себе и Эзре и, сонно ухмыляясь, провозгласил:
— За пенкных пань по раз первшы! (За прекрасных дам первый раз!)
— Эзра, — позвала Данута.
— Полная рюмка на столе и женщина в постели долго ждать не могут, — сострил Юдл Крапивников и, подражая, видно, графу Завадскому, добавил: — Прозит!
Хотя ей и польстила польская речь Юрия Григорьевича, Данута не отрывала глаз от Эзры, сердясь и удивляясь его упрямству.
Юдл Крапивников чокнулся с ней и выпил.
Пригубила и она.
— До дна! — потребовал эконом. — До дна. Радость только на дне, только в бездне. Ну-ка! Ну-ка! Вот так!..
Водка обожгла ее, и вместе с этим ожогом исчезла вдруг робость, и решение, которое зрело в ней, уже не казалось таким невозможным, как два или полтора года тому назад, когда она не представляла свою жизнь без Эзры. Юдл Крапивников перестал быть для нее мужчиной, потаскуном, чревоугодником и стал союзником, помощником — она будет пить с ним, кутить всю ночь, разрешит ему то, чего никогда никому не разрешала, только бы Эзра — даже страшно вымолвить! — покинул ее, вернулся в отчий дом или один добрался бы до Вильно и нашел доктора, который исцелил бы его от страшного недуга.
С какой-то пронзительной ясностью она внезапно поняла, что самый страшный его недуг — она сама, ибо с ней он не выживет, а пропадет, непременно пропадет. Потом, через десять, через пятнадцать лет, если судьба сулит встретиться, Данута расскажет ему, здоровому, избавившемуся от пагубы, чего ей стоила эта первая рюмка водки у Хесида в сумеречной корчме «Под липами».
— За пенкных пань по раз други! — намазывая на хлеб икру, предложил унюхавший удачу Юдл Крапивников.
До Эзры доносился звон корчмарского стекла, да и они сами — провозглашающий здравицы Крапивников, млеющая от тепла и внимания Данута, увертливый Хесид — казались ему дребезжаще-стеклянными; эконом был весь словно засижен мухами, Данута протирала его взглядами, но мухи все равно садились на него и гадили на его щеки, на его черный сурдут, на руки; Хесид крутился вокруг гостя, обмахивал его полотенцем, отгоняя назойливых насекомых; и все это дребезжание, весь этот звончатый гуд отдавались в ушах Эзры, который упрямо глядел в темноту, как в тору, выискивая в ней и утешение, и смысл.
Он стоял у окна и думал об отце, пустившемся в такой тяжкий путь, чтобы спасти, благословить сына, проститься с ним, о брате Гирше, ждущем в виленской тюрьме казни — казни, а не отца, но больше всего Эзра думал о Дануте. Три долгих голодных года подвергал он ее самой страшной пытке — пытке надеждой. Надеждой на венчание в каком-нибудь провинциальном костеле — в Эйшишках или Ошмянах, надеждой на свой угол, куда они могли бы возвращаться вьюжными зимами, надеждой на то, что когда-нибудь они откроют если не свой театр, то маленький передвижной балаганчик, где будут играть не только они сами, но и их дети. Данута стойко переносила эту пытку, но он-то знал, чего ей стоит эта стойкость, это ошпаривающее, как гольдшмидтовский кипяток, терпение. Нет, нет, он не имеет права больше ее пытать. Он должен что-то предпринять, чтобы все это кончилось, чтобы она снова почувствовала себя свободной, вернулась в свою Сморгонь или на худой конец ушла в монастырь (Данута всерьез об этом помышляла, когда жила у Скальского).
Юдла Крапивникова сам бог послал, думал он.
Пусть сидят хоть до рассвета, пусть милуются — это ему, Эзре, только на руку. Так легче уйти.
Уйти, уйти, цокали, как копыта по булыжнику, мысли, и Эзра боялся, что Данута, услышав их цокот, всполошится, встанет из-за стола, бросится ему на шею, и тогда ему уже никогда не вырваться.
Другого случая не будет, думал он. Ничего — Данута привыкнет, смирится, своим бегством он осчастливит ее больше, чем если бы остался. Нырнет в ночь, и вместе с ним туда нырнут и их горести, их надежды, их молодые глупые мечты.
— За пенкных дам по раз тщеци! — как заведенный твердил Юдл Крапивников, протягивая свою чарку скорее к ее груди, чем к рюмке, и чокаясь с Данутой с таким значением, словно они пили не водку с ковенской винокурни Вайсфельда, а волшебный, с каждой каплей сближающий их нектар Персии.
— Эзра, — сказала Данута, — иди к нам.
Но он даже не пошевелился.
— Эзра! — кликнула она еще раз. Ей было неуютно за ломящимся от яств столом, рядом с Юдлом Крапивниковым, который целился своей рюмкой то в ее грудь, то в ее шею, то в ее губы. — Ну что ты там, коханы, увидел?
— Медведь ходит, — ответил Эзра.
Юдл Крапивников громко рассмеялся:
— Хесид! Голубчик! Сделай одолжение! Прогони медведя!
Хесид глянул в окно и доложил:
— Не то что медведя — кошки, Юрий Григорьевич, не видно.
— Если видеть только то, что есть, то как же увидеть бога? — сказал Эзра и обернулся.
— Эзра мечтает купить бурого медведя, — объяснила Данута, не давая вспыхнуть ссоре.
— А зачем еврею медведь? — хмелея от водки, от близости Дануты, от трепетного сиянья зажженных Хесидом свечей, спросил Юдл Крапивников. — Еврей может купить дом, даже землю для собственного государства в Уганде, но медведя?
— Давайте лучше выпьем, — предложила Данута. — Выпьем и споем. Я хочу петь!.. Эзра, достань-ка из котомки скрипку.
Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь, —
начала Данута, вскинув голову.
Волосы ее, подожженные трепыхающимся пламенем свечей, расплавили вокруг себя сумрак, и в образовавшемся овале ее голова казалась необлетевшей кроной клена, неопалимой купиной.
Юдл Крапивников слушал ее с разинутым ртом, а Хесид пучил на нее свои печальные пастушеские глаза и вторил несмелыми, едва уловимыми вздохами.
Ранней весною сбирают фиалки,
Помни, что летом фиалок уж нет, —
тихо и обреченно выводила Данута.
Дитя, торопись, торопись,
Помни, что летом фиалок уж нет.
Эзра увидел, как увлажнились ее глаза, как она закрыла их тяжелыми веками — не так ли закрывает берестой свой ствол береза? Никогда раньше он не слышал от нее этой песни; наверно, эту песню певали ее мать или отец; казалось, Данута выдохнула ее, сочинила тут же, в этой корчме, при тусклом свете этой висящей под потолком, словно упырь, лампы и желтого, неверного света оплывающих восковыми слезами свечей.
Теперь твои кудри, что шелк золотистый,
Щеки, что розы «глюар де дижон».
Теперь твои губы, что сок земляники,
Твои поцелуи, что липовый мед.
Так торопись, торопись,
Помни, что летом фиалок уж нет.
Дитя…
Она как будто рассчитывалась с ним, возвращала свой долг за «Песнь песней» в хибарке неподалеку от мельницы Ниссона Гольдшмидта, только теперь не мельник, а она сама стояла на коленях — перед Эзрой, перед их несбывшимися надеждами, перед своими неродившимися детьми.
— Дитя… — раболепно вздыхал Юдл Крапивников.
Срипка замолкла.
Корчмарь Хесид комкал в руке полотенце, и запах липового меда холодил его раздутые ноздри.
— Дитя, — с хмельной, бездумной ласковостью повторил Крапивников, потянулся к рюмке, но пристыженно опустил руку, как будто перед ним была не водка, а огонь.
Свечи понемногу оплывали, и от их меркнущего пламени тишина казалась пороховой.
— Ну что это вы как на кладбище? Выпьем, — сказал Крапивников. — За нашу фиалку.
Молчание его не устраивало. Оно устанавливало какую-то тайную и равную связь между всеми, скрадывало различия, а ему, Юдлу Крапивникову, Юрию Григорьевичу, хотелось, страсть как хотелось отличаться, выделяться, возноситься. Он не умел ни петь, ни играть на скрипке. Но — как ему казалось — обладал главным мужским умением — платить.
— Шампанского! — крикнул Юдл Крапивников, ошарашив своей просьбой не только Дануту и Эзру, но и Хесида, который вытирал слезившиеся глаза и прикидывал в своем щелкающем, как счеты, уме, во что эконому обойдется эта его фиалка.
— Сей момент, — сказал Хесид и исчез.
Эзра пощипывал струны скрипки, Данута отрешенно заплетала волосы, а Крапивников, раздувая ноздри, принюхивался к своей фиалке.
Хесид принес шампанское и тулуп:
— Накроетесь, если замерзнете, — сказал он Эзре. — А в вашу сторону, Юрий Григорьевич, печь выходит… Спокойной ночи!
Корчмарь обрезал ножом нагар на свечах и, зевая в кулак, откланялся.
Юдл Крапивников откупорил бутылку и разлил в стаканы искристый, как бы настоянный на пламенеющих свечах, напиток.
— За панну Дануту в любую минуту, — сказал в рифму Юдл Крапивников и поднес стакан к губам.
Выпил и Эзра.
Лицо его побагровело, легкие расширились, он молодо и уверенно задышал, налил себе второй стакан.
Надо вести себя так, чтобы не вызвать подозрения, подумал он, иначе не уйти.
— Ты много пьешь, коханы… — забеспокоилась Данута. — Тебе нельзя.
Нельзя того, чего нельзя,
Нельзя того, что можно, —
дурашливо защищался он от ее заботливости и тревоги.
Он пил с каким-то остервенением то водку, то шампанское, не закусывая, стремясь как можно скорей опьянеть, затуманить глаза, утихомирить свои мысли. Но с каждой рюмкой, с каждым стаканом зрение его обострялось и мысль трудилась, как дятел на стволе. В нем медленно взбухала злость на розовощекого, как ангел, Юдла Крапивникова, однако он не выдавал ее, разыгрывал из себя беспечного и дружелюбного собутыльника, лез к Крапивникову обниматься, чокаться.
— За панну Дануту в любую минуту! — выкрикивал он. — Хи-хи-хи! Слышишь, кошечка, в любую минуту!
Он ни с того ни с сего взял с лавки тулуп, принесенный Хесидом, вывернул наизнанку, напялил на себя, встал на четвереньки.
— Медведь! Право слово, медведь! — восторгался Юдл Крапивников.
Эзра забрался вдруг под стол, обнял Данутины ноги, облизал их, потом высунул из-под стола голову и стал к ней ластиться; Данута секла его скрипичным смычком по шерсти, но Эзра не унимался, гладил на виду у Крапивникова ее плечи, груди и рычал от удовольствия:
— Брр… бррр.
Чем пристальней Данута смотрела на него, тем больше в ней крепло ощущение, что Эзра притворяется пьяным, что он что-то затеял.
— Ступай в берлогу! — упрашивала его Данута.
Еще в самом деле напьется, думала она, и завалится под столом спать, и все задуманное ею пойдет насмарку. Надо, чтобы Эзра был трезв, чтобы все видел своими глазами: и как она войдет к Крапивникову в комнату, и как за ними закроется дверь. Надо, чтобы он поверил и, как мельник Ниссон Гольдшмидт, обозвал ее некейвой! Шлюхой! Сукой! Уличной девкой, которой грош цена в базарный день!
Шлюху легче оставить — сам бог велит от нее уйти.
От вывернутой наизнанку шерсти пахло яслями. Овечий запах бесил Крапивникова. Казалось, все вокруг было пропитано им: и шампанское, и Данута, и он сам, Юрий Григорьевич.
— Ты же славный зверь, — решив его перехитрить, сказала Данута. — Ты же такой послушный… ты же любишь свою медведицу.
— Бр… брр, — бормотал Эзра.
— А ведь тот, кто любит, должен слушаться. Иди!.. Я скоро приду… меду с пасеки принесу…
— Иди, — раздраженно бросил Юдл Крапивников. Ему, видно, осточертела эта игра в медведя и медведицу. Не за нее, за игру, он платит Хесиду деньги. — Иди!
Эзра замахнулся на него лапой, но Юдл Крапивников ловко увернулся.
— Эй ты, поосторожней! — предупредил он Эзру.
Когда Эзра замахнулся в очередной раз, эконом не выдержал, схватил подсвечник со стола и принялся тыкать горящей свечой всклокоченное вонючее страшилище.
Свеча осмолила шерсть и погасла.
Тогда Крапивников схватил другую. Он тыкал ею в Эзру, как горящим копьем.
Обмахивая себя лапами, пытаясь погасить шустрые и живучие, как блохи, искры, Эзра заметался по корчме.
— Бр… брр, — хрипел он.
Корчма наполнилась удушливым дымом.
Он струился во все щели.
Скорее на запах, чем на крик, прибежал Хесид. Он был в одном исподнем — ни дать ни взять привидение.
— Горим! Горим! — причитал он, озираясь по сторонам и выискивая в сумраке пламя.
— Бр… брр, — хрипел он.
Он дымился, как потухший костер.
В дыму, в тусклом сиянии свечей все воспринималось как в тяжелом, бессвязном сне, где перепутались времена и лица, вещи и представления.
Сонный Хесид бегал вокруг стола, хватал недопитые стаканы и выливал их содержимое на скомороха.
Юдл Крапивников смеялся, и смех его катился над всеми, как конское ржанье.
— Кто же шампанским тушит пожар? — спросил он, не переставая смеяться.
Данута сидела не двигаясь и наблюдала за Хесидом и Эзрой, за их заторможенным, как на испорченной карусели, кружением.
— Я ухожу, — вдруг сказал Эзра и остановился, — Навсегда…
Хесид подхватил его под руку, и тот, не сопротивляясь, глухо порыкивая, двинулся к выходу.
На пороге Эзра обернулся:
— Прощай!
Данута ничего не ответила.
— Графа он играет лучше, чем медведя, — промолвил Юдл.
Данута молчала. У нее кружилась голова от выпитого, хотелось приклонить ее к кому-нибудь на плечо или облить студеной водой, чтобы не ломило в висках, не разрывало темя.
— Панна Данута! Когда я смотрю на вас, то вспоминаю слова мудреца: радуйся женщине, которую нашел, не меньше, чем золоту.
Только теперь Дануту осенило, на кого он похож, ну, конечно же, на пана Чеслава Скальского, безглазого, с руками-щупальцами и кнутом вместо стека.
Это он догнал ее в этой корчме, это он настиг ее этой сгустившейся жемайтийской ночью, опоил, как отравой, шампанским и заставил — Эзра! Эзра! — лечь в постель.
Ничего не изменилось с той давней сморгоньской поры. Ничего. Разве что цена стала иной.
Пан Крапивников-Скальский заплатит ей не усадьбой на берегу Окены, не домом напротив православной церкви, не зеркалами, забранными в позолоченные рамы, не гагачьим пухом, а свободой Эзры.
Свечи оплывали и гасли. Только лампа-упырь излучала скудное панихидное сияние, и от этого ощущение призрачности, сна, опустевшего балагана только усиливалось.
Юдл Крапивников наклонился к Дануте и попробовал поцеловать в губы.
Данута не противилась. Она и к этому отнеслась не как к горькой яви, а как к греховному сну с шампанским, свечами и — непременно! — с изменами.
— Не надо, — взмолилась она только тогда, когда его движения стали еще настойчивей.
— Наш медведь отправился в берлогу спать. Так что вам нечего бояться… А Хесид? Хесиду можно заплатить за молчание, — как ни в чем не бывало продолжал Крапивников.
Как ни пытался он расшевелить Дануту, она по-прежнему держалась, словно на панихиде. То и впрямь была панихида по дорогам, по которым они кочевали с Эзрой, по Эзре, которого она недолюбила, по счастливому-несчастливому рабству, в которое она попала три года тому назад у разрушенного моста через Окену.
— Ради бога, не будьте печальной, — сказал Юдл. — Признаюсь вам, панна Данута, я мечтаю жить в стране, где слышно было бы только молчание. Никаких колоколов, никаких криков, никаких слез. В стране, где молча рождаются, молча живут и молча умирают. И чтобы в каждом городе, в каждом местечке выращивали молчание и чтобы его можно было по дешевке купить.
— Хесид берет дорого? — внезапно сказала она.
— Меньше, чем за шампанское… Давайте, панна Данута, выпьем за страну молчания, где растут фиалки, которые срывают круглый год: весной и летом, осенью и зимой.
Он налил две рюмки.
— Прозит, панна Данута… Вы спрашиваете, сколько Хесид берет за молчание? Примерно столько, сколько за овес для лошади. Полтинник, два… Чем выше человек, тем его молчание дороже. У нас в уезде дороже всего стоит слово и молчание исправника Нуйкина. Только с ним лучше не связываться. Обязательно, бестия, обманет: заплатишь за слово, а он промолчит, дашь за молчание, а он всем выболтает.
— А мне?
— Что вам?
— Сколько вы заплатите?
— Как можно, панна Данута!.. Если вам нужны деньги… если вы нуждаетесь, то я всегда пожалуйста… только скажите, сколько?
Сон, сон, уверяла она себя.
Стоит ей сегодня пересилить свое отвращение к этому Крапивникову-Скальскому, согрешить, как завтра Эзра снимет с себя свою медвежью шкуру, пойдет к доктору, встретится со своим отцом Эфраимом, со своими братьями Шахной и Гиршем, со своей настоящей, не кочевой, а оседлой еврейской жизнью, и эта жизнь исцелит его от всех напастей, среди которых самая страшная — ее… его… их… любовь…
У каждого своя жизнь, подумала Данута. Кто идет на виселицу, как Гирш, а кто среди жемайтийской ночи — в чужую постель. И еще неизвестно, чья казнь хуже.
Данута вдруг поймала себя на мысли, что своим грехом может скорее погубить Эзру, чем спасти, и первым ее желанием было встать, отхлестать Крапивникова по щекам, вылить ему в глотку оба штофа водки и оставить одного за этим столом, в этой темени, в которой, как и в стране молчания, не слышно ни колоколов, ни крика, ни слез.
— Панна Данута! Если бы медведь хотел вас видеть, он бы вернулся, — с бесцеремонностью победителя сказал Юдл Крапивников.
В самом деле — если бы хотел видеть, вернулся бы, не бросил, не оставил ее наедине с этим… двойником Скальского.
Порыв ее погас, и вместо желания мстить и глумиться пришла безболезненная, всеобъемлющая пустота, которая обволакивала, как сумрак. В этой сумрачной пустоте уже не было ни одной преграды, не горело ни одной свечи, только упырь раскачивался под потолком.
— Приходи, — сказал Юдл Крапивников, впервые обращаясь к ней на «ты». — Я буду тебя ждать.
— Панну Дануту в любую минуту? — хмыкнула она и, стараясь не скрипеть дверью, вошла в свою комнату.
Эзра спал, не удосужившись снять тулуп. От него пахло гарью и водкой.
Данута не собиралась его будить, ждала, когда он, услышав ее шаги, сам проснется, и сон со свечами, шампанским и изменой рассеется, исчезнет; Эзра обнимет ее, накроет опальным тулупом, и они, как всегда, сольются, как сливаются две речки по весне, страсть к слиянию которых так чиста и бескорыстна; Данута прижмется к нему, и он сквозь упругую стенку ее упругого живота услышит, как прорастает его семя.
Но Эзра не проснулся.
— Спишь? — спросила она.
Ни звука.
Данута пыталась растормошить его, но Эзра, пьяно и беспамятливо дыша, что-то бормотал спросонья.
Мрак обступил ее со всех сторон — даже звездочки не было видно.
Не зная, что делать, она принялась разуваться.
Сняла ботинки.
Чулки.
— Данута! — послышалось за дверью.
Юдл Крапивников царапал ногтями иссохшиеся доски.
— Данута!
— Господи! — выдохнула она и неожиданно, как в детстве, упала на колени.
— Данута!
— Если это правда, что ты такой сильный, такой могучий, то почему ты не можешь сделать нас счастливыми? Разве тебе несчастные более угодны? Чем несчастнее, тем угоднее?
Хмель улетучился. Дануту трясло, плечи ее дрожали в зыбкой ночной мгле.
— Если это не так, останови меня. Вот тебе моя рука! — Данута протянула руку; рука не тонула — темнота выталкивала ее на поверхность.
— Данута!
— Господи! Неужели кобель за дверью сильней тебя?
— Данута, — шепот Крапивникова сверлил дверь, как древоточец.
— Иду, — не то кобелю, не то господу сказала Данута.
Встала, сняла с себя платье, бросила на кровать, обхватила руками голые груди.
— Иду!
Выскользнула за дверь.
И ослепила Юдла Крапивникова.
Когда она под утро вернулась, Эзры в комнате уже не было.
Данута опустилась на пустую кровать, накинула на себя вывернутый наизнанку тулуп, сглотнула тошноту, но горло сдавило, словно тисками, и через минуту из него хлынули балык и тетушка Стефания, шампанское и мельник Ниссон Гольдшмидт, икра и пан Чеслав Скальский.
Каждый должен изблевать свой грех, подумала Данута.
Но только не ребенка… дитя… помни, что летом фиалок уж нет…

