Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))
Назад: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ "МЕЦЕНАТЫ"
Дальше: Довженко
Йогансен
За всю свою жизнь я не знал человека талантливее Майка Йогансена.
Речь идет именно о таланте. Никаким другим словом нельзя охарактеризовать Йогансена: ни — образованный, ни — культурный, ни — эрудит или еще что-нибудь. Майк был именно талант и ничто иное. Он знал очень много, но не был знатоком в какой-нибудь определенной области. Его образованность была практически безгранична, однако ни в одной отрасли знания, ни в одной науке его нельзя было признать специалистом. Талантливость Майка Йогансена была своеобразна — многогранна, всестороння, так сказать — мастер на все руки. Он был чертовски способный лингвист, но так же легко давались ему и технические знания, в особенности же практическая деятельность в области техники; Майк был настоящий литератор — поэт, прозаик, теоретик, но так же увлекался он и так называемыми "чистыми" науками; образован он был энциклопедически, непрерывно поглощал все новые знания (и информации), и в то же время был страстным спортсменом — почти во всех видах спорта. Безусловно, он был дилетантом, но во многих областях он знал значительно больше иного специалиста.
Вот, к примеру, лингвистика.
Полушвед по происхождению (мать — украинка, отец — "обрусевший" швед), окончивший русскую классическую (с латынью и греческим) гимназию и русский университет, Майк был одним из лучших знатоков украинского языка, составлял и грамматики, и словари, и собрания пословиц и поговорок, и разные специальные сборники, выпускал научные исследования — только, упаси бог, не под маркой какого-нибудь научного учреждения, только, упаси бог, не на службе в Академии наук. Научные круги Майк высмеивал где только мог…
Какими языками Майк владел? На это трудно ответить: он был полиглот, и этим все сказано. Абсолютно владея немецким и английским, зная французский, он легко справлялся и с итальянским, и с испанским, а также и с любым из скандинавских языков.
Когда Кнут Гамсун прислал в "Книгоспілку" (по предложению Слисаренко) рукопись своего нового романа "Бродяги", Йогансен, никогда раньше не имевший дела ни с норвежским, ни с датским языком, свободно прочитал текст, стал первым рецензентом этого шедевра норвежской литературы.
Когда во время войны в Испании прибыли испанские дети-сироты, Йогансен "овладел" испанским языком буквально "на моих глазах" — поболтав с испанской девочкой лет десяти. И тут же стал переводчиком в разговорах с детьми — с испанского на украинский и с украинского на испанский — писателей из бригады, приехавшей навестить испанских детей в Померках на даче Г. И. Петровского. А вернувшись домой, взял испанскую книжку и без труда ее прочитал. Через несколько дней Майк уже опубликовал переводы из испанской поэзии.
Что же касается славянских языков, то здесь дело доходило до анекдота. Как-то, помню, Майку понадобился сербский язык. Он узнал об этом утром — мы с ним как раз шли к Порфишке играть на бильярде. И вот, загоняя шары в лузы, Майк между прочим обронил: "После обеда полежу часок — надо изучить сербский язык". Кстати, бильярд Майк называл по-старинному "кармалюк", лузу — "дучка". Вечером он уже переводил сербские думы и сдал этот перевод назавтра к обеду. Как известно, его переводы сербских дум на украинский язык — лучшие.
Помню, я его тогда спросил:
— Тебе легко ориентироваться в каждом новом для тебя языке потому, что ты знаешь много других и улавливаешь их схожесть?
— Нет, — с готовностью ответил Майк, он всегда охотно давал разъяснения, — нет! Чтоб ориентироваться в новом, раньше тебе не известном языке, надо как раз уяснить себе, в чем его несхожесть с другими, тебе уже известными…
— А практически?
— Практически так: надо уяснить, чем сербский отличается от украинского, русского, польского, чешского, болгарского и других славянских языков, которые я знаю или представляю себе.
Майк знал латинский, древнегреческий, интересовался санскритом и говорил, что, будь у него "свободная неделька", он непременно занялся бы восточными языками и "в этом году" овладел бы "полдюжинкой".
Но такой "свободной недельки" у Майка, понятно, никак не выпадало: ведь надо было сыграть партию на бильярде с самим Рыбкиным (соперник Майка по первенству на бильярде); надо было готовиться к соревнованиям на звание чемпиона по теннису; надо было починить электрический звонок, который как раз испортился, а тут подходила пора ехать охотиться на дроф в Прикаспии. Главное же — приходилось срочно отрабатывать взятые где-нибудь сто рублей очередного аванса. Такой "очередной" аванс всегда и неизменно висел у Майка над душой, и всегда это были — сто рублей. В денежных делах Майк был первостатейный чудак: он писал сам или по заданию только в том случае, если брал предварительно аванс, — ни за одну работу, под которую не взят аванс, Майк никогда не принимался. И это были всегда сто рублей — другой суммы Майк не признавал. Он приносил в редакцию поэму, которая — по подсчету, согласно действующему авторскому праву, — должна была дать ему тысячу рублей, но, положив ее на стол, говорил редактору или секретарю: "Вот, принес поэму, мне нужно сто рублей". Или ничего не приносил, приходил в издательство и заявлял: "Дайте мне сто рублей аванса". — "Подо что?" — "А что вам нужно?" — "Статья на такую-то тему". — "Ладно". Брал сто рублей и через некоторое время приносил цикл статей, за которые мог бы получить три-четыре сотни.
Но это к слову, между прочим. Может быть, редкая одаренность в языкознании и любовь к лингвистике свидетельствовали, что все остальное для Майка исключено и ничто больше его не интересует?
Нет. Как-то он попросил Левка Ковалева рассказать нам с ним о теории относительности Эйнштейна. Ковалев взял мел, стал к доске (в комнате у Ковалева висела классная доска — он выводил на ней химические формулы, в комнате у Майка тоже висела доска — он записывал стихотворные рифмы) и на протяжении двух или трех часов рассказывал, иллюстрируя свою лекцию выкладками, формулами и чертежами. Я ничего не понял и честно в этом признался. Майк возмутился:
— Ну как ты не понимаешь? — Взял мел, подошел к доске и начал:
— Это же очень просто. Берем, например…
И он повторил все то, что говорил Левко Ковалев, но значительно проще, притом за десять — пятнадцать минут. И я понял.
Педагогические наклонности были у Майка вообще очень развиты: он неизменно объяснял подробно все, что делал или что должен был сделать другой, и охотно прочитывал целую лекцию по любому поводу. Если надо было заменить перегоревшую пробку у электросчетчика, Майк обязательно объяснял, что такое "вольт", "ом" и "ампер"; если спросить его, как перевести какое-нибудь слово с украинского на русский или наоборот, Майк тут же выкладывал все возможные варианты, анализировал происхождение каждого слова, определял его корень и всю корневую систему, подсказывал, как выразить это понятие другим способом — описательно, ассоциативно, синонимически, давал перевод этого слова еще на два-три, а то и пять-шесть языков.
Не стал Майк педагогом только из-за нехватки терпения — Майк был на редкость нетерпеливым человеком. Когда ему надоедало о чем-нибудь говорить, он внезапно прерывал речь и сразу заговаривал совсем о другом, совсем далеком. Когда при нем происходил разговор о чем-то ему неинтересном, он просто вставал и уходил. Ни на одном собрании или заседании Майк ни разу не досидел до конца. Когда учился в университете, никогда не ходил на лекции (тогда это разрешалось) и сдавал экзамены (всегда отлично) только по чужим конспектам или отпечатанным на гектографе рефератам профессуры (и это в те времена практиковалось). В гимназии, будучи всегда первым учеником, Майк частенько получал четыре по поведению — только за то, что сбегал с неинтересных ему уроков.
Нетерпеливость Майка была поразительной и доходила до безрассудства. Майк никогда ничем не болел, и вдруг — в результате чрезмерного увлечения спортом, в частности многолетней игры в футбол, — у него сделалось расширение вены, — и надо было либо носить бандаж, либо делать операцию. Майку, разумеется, некогда было возиться с бандажами, и он немедленно лег на операцию. Боли Майк боялся и потому попросил сделать операцию под общим наркозом. После операции его перенесли в палату и сказали, что придется полежать четыре-пять дней, пока снимут швы. Майк полежал до вечера, наркоз выветрился, и ему захотелось покурить, — он встал и вышел в коридор, чтоб попросить у кого-нибудь папиросу. Перепуганные сестры сразу схватили его, отвели в палату и уложили в постель, грозя трагическими последствиями, если он не будет выдерживать режим. Майк испугался, послушно лег на спину, лежал совершенно неподвижно и читал книжку, едва шевеля рукой, только чтоб перевернуть страничку. Но через два часа книжка была кончена (Майк читал сто — сто двадцать страниц в час), в палате уже все уснули, поговорить было не с кем, Майк заскучал — он снова поднялся и вышел в коридор. Была уже ночь, все спали, куда-то вышла и сестра. Майк спустился в вестибюль, потом вышел на улицу. Час поздний, трамваи уже не ходили — и Майк двинулся домой пешком, в одной больничной пижаме. Ходил Майк всегда очень быстро, порывисто и стремительно, и через каких-нибудь десять минут (до дома было с километр) уже взобрался к себе на четвертый этаж и звонил мне, увидев у меня в окне свет — наши окна в "Слове" были прямо одно против другого.
— Юра, — сказал он, — завтра же ложись и делай операцию (мне футбол оставил такую же памятку, как и ему). Потом не очень больно, только противно нюхать наркоз. Понимаешь, хлороформ с эфиром? Хлороформ это — СНСl3, перегоняется из винного спирта, имеет такой же гнусный привкус, как самогон, только усиленный десятикратно. А эфир…
— Погоди, погоди, — перебил я его, — а ты? Ты ж собирался сегодня ложиться на операцию?
— Да я уже сделал…
— Когда? Сегодня? Да ты откуда звонишь? Из больницы?
— Из дому. Понимаешь, морочили мне голову, что надо лежать еще четыре-пять дней, по я не взял с собой достаточно книг, и в палате нельзя курить. Ты когда пойдешь завтра на операцию, захвати, пожалуйста, у меня их пижаму: а то еще подумают, что я украл…
В тот год Майку стукнуло сорок.
А когда ему было тридцать пять, мы с ним как-то провожали на вокзал его любимую девушку. Мы приехали за полчаса до отхода поезда, и можно было эти полчаса погулять по перрону, погулять вдвоем. Я, разумеется, тактично извинился и исчез. Но Майк, доведя любимую до вагона, сразу же попрощался и быстро зашагал прочь: процедуры прощания Майк не выносил, даже из гостей скрывался, не сказав хозяевам ни слова, а при отъезде тем более — ехать так ехать, чего там еще!.. Майк пошел с перрона, даже не оглянувшись (зачем? Ее дело — ехать, мое — идти и запяться своими делами), а девушка стояла у окна и утирала слезы.
Назавтра я позвонил Майку по телефону. Телефон не отвечал. На следующий день — тоже. Но к вечеру я получил телеграмму с двумя подписями — Майка и его любимой девушки. Оказывается, Майк прожил всего один день без любимой, и терпению его пришел конец: не мог он ждать целый месяц, пока девушка вернется из санатория в Гагре. Он сел на самолет и назавтра уже встречал на перроне в Сочи поезд, который только что привез туда предмет его страсти.
Кстати, началась эта любовь так же внезапно и бурно. Майк проходил по коридору художественной школы (не припомню, зачем его туда черт занес!), как раз шли лекции, и он от нечего делать подпрыгивал и заглядывал сквозь дверное стекло в классы, вспоминая, как это делалось когда-то в гимназии. В одном из классов его взгляд встретился с глазами девушки-ученицы. Озорница девчонка показала ему язык. Это заметил профессор (художник Падалка) и, удивленно оглянувшись на дверь, получил… кукиш, который обиженный Майк показал нахальной девушке, подскочив в третий раз. Майк скорее смылся, потому что художник Падалка хорошо его знал, проживая в одном с ним доме, в соседнем подъезде… На другой день Майк снова явился в художественную школу, направился к швейцару, протянул ему письмо и попросил немедленно передать его ученице (наглядно изобразив, какой именно, ведь он не знал ни имени ее, ни фамилии), у нее, мол, дома случилось несчастье и девушку надо немедленно вызвать.
В письме, на большом листе бумаги, было написано только: "Это — я". "Это" — стояло наверху, "я" — в самом низу.
Девушка вышла только "в переменку" — Майк ожидал ее, меряя шагами расстояние между швейцарской и дверью в коридор. Девушке было семнадцать лет; была она чуть неуклюжа, длиннонога и непрерывно фыркала: все ее смешило. В кино она немедленно — только гасили свет в зале — засыпала. Для первого знакомства Майк повел ее есть мороженое. Мороженого Она съела пять порций.
Ни в тот день, ни в тот учебный год девушка в класс уже не вернулась: вспыхнула любовь и поглотила все.
Финал этой романтической истории был, впрочем, таким же внезапным и неожиданным. Прожив с девушкой в Новом Афоне три недели (Майк "увел" девушку из гагринского санатория), Майк вернулся в Харьков, потому что ему предстояли какие-то неотложные дела или, вероятнее, не хватило денег. Возвращения любимой ом ждал через неделю (она должна была дотянуть свой срок в санатории — чтоб ничего не заметила мама) и договорился, что она сообщит телеграммой о дне приезда. Телеграмма через неделю действительно пришла. Вот ее абсолютно точный, дословный текст: "Майк не жди от меня ничего хорошего никогда".
Внизу на бланке была еще приписка телеграфного контролера: "Проверено: ничего хорошего никогда".
Вернулась девушка только через два месяца: она влюбилась в другого, старшего "собрата" по профессии — художника.
Впрочем, Майк не стал после этого женоненавистником, не стал женоненавистником и после того, как жизнь этой девушки на протяжении двух-трех лет разворачивалась перед его глазами: девушка меняла своих возлюбленных буквально каждый месяц. Женоненавистником Майк стал гораздо позднее — когда его бросила собственная жена (художница), уйдя от него к очень известному художнику Б. Вот тогда Майк стал женоненавистником, правда, люто возненавидев заодно и всех художников.
Отныне ругать художников (за их "ограниченность", оторванность, за их неграмотность и невежество и тому подобное) Майк мог по любому поводу; говорить гадости о женщинах (об их коварстве, несамостоятельности во взглядах, душевной пустоте, мелочности и манерности) Майк мог часами, без устали. И надо признать, что — талантливый, культурный, широко образованный, с оригинальным мировосприятием, чистый душой и простосердечный человек — Майк Йогансен в своем женоненавистничестве оказался совершенно… банальным. Философия его в этом вопросе сводилась в конце концов к тому, что каждая женщина, мол, хороша, если на нее смотреть издали. Женщине не любовь нужна, а красивые слова про любовь; культурному человеку нельзя любить женщину, потому что интеллигент не может позволить себе ее ударить… Что касается женщин, то они влюблялись в Майка с первого знакомства. Женился Майк после окончания университета; первую жену он бросил, вторая бросила его. Только после этою, говорил Майк, он познал радость бытия и, в частности, понял, что такое любовь.
"Любовное одурение" длилось у Майка несколько лет и закончилось так же внезапно и драматически.
В ту пору было у Майка сразу три предмета увлечения: во всех трех он был слегка влюблен и всех трех слегка презирал. Одна — художница, другая — актриса, третья — спортсменка, классная теннисистка. И всех трех звали одинаково — В.
Совпадение было и в обстоятельствах: летом все три, каждая сама по себе, поехали в один и тот же месяц на один и тот же курорт.
Как-то утром Майк прибежал ко мне растерянный.
— Юра, — сказал Майк, — ты не можешь сообразить, которая это?
И показал мне телеграмму из Сочи. В телеграмме было: "Между нами все кончено…" И подпись — В.
Майк умоляюще смотрел на меня:
— Понимаешь, я не знаю, как мне теперь… Ты не можешь догадаться, в чьем это характере?
Я не мог догадаться. Тем паче, что из трех я знал лишь двух, с третьей был едва знаком. Майк ушел от меня совсем опечаленный.
Выход он придумал такой: послал всем трем по телеграмме — "жду подтверждения предыдущей телеграммы". Расчет был на то, что прямо откликнется или промолчит та, которая писала, остальные две, наверное, запросят, в чем дело.
Ответ пришел совершенно неожиданный: одна телеграмма от всех трех вместе: подтверждаем… И три подписи — В. В. В.
Девушки познакомились между собой и… разоткровенничались, как это часто случается с девушками.
Познакомился я с Йогансеном в двадцать третьем году, как только приехал в Харьков. Знакомство это произошло так. В редакции "Вістей" я услышал, что сегодня вечером Хвылевый будет выступать перед читателями на паровозостроительном заводе. Я сел в трамвай и поехал на завод.
Действительно, Хвылевый выступал, читал еще не опубликованный рассказ "Я", имел шумный успех, отвечал на вопросы, метал громы по адресу старого отжившего буржуазного искусства, особенно за то, что оно утратило романтичность, захлебнувшись в натурализме, требовал, чтоб романтиками были все — и художники, и читатели… Выступал Хвылевый не один: вместе с ним был высокий, стройный и широкоплечий молодой человек, спортивной внешности, в рубашке с подвернутыми по-спортивному рукавами; он все время бросал реплики — резкие и остроумные, в ответ на которые вся аудитория взрывалась аплодисментами либо покатывалась со смеху; потом, после Хвылевого, он встал и прочитал поэму — называлась она "Коммуна". Поэма произвела на меня огромное впечатление. Она, и вправду, была хороша, а Хвылевый еще заявил, что вообще признает лучшими в современной поэзии именно эти стихи — поэму "Коммуна" Майка Иогансена.
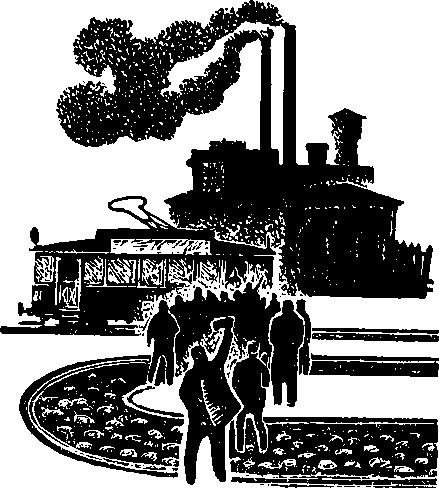
Когда вечер кончился, я вышел вместе со всеми и пошел к трамваю. Толпа слушателей — молодых рабочих паровозостроительного завода — провожала писателен до остановки, но когда трамвай подошел, то выяснилось, что все они — местные, тут и живут, рядом с заводом, и в позднем ночном трамвае оказалось всего три пассажира: Хвылевый, Йогансен и я. Они сели впереди, а я, разумеется, постарался устроиться как можно дальше от них, в самом конце вагона. Трамвай двинулся — за окном приветливо махали руками и кепками молодые читатели, потом промелькнули огни железной дороги и поплыли подслеповатые улицы рабочей Петинки. Я сидел, издалека поглядывал на столь желанных и столь страшных для меня "настоящих" писателей, понимал, что сейчас как раз подходящий случай подойти к так долго разыскиваемому мною, но неуловимому Хвылевому (он сидел насупившись, абсолютная противоположность тому живому и говорливому, который только что выступал на трибуне, и лишь подергивал левой ноздрей и потрагивал пальцем то место на верхней губе, где должны расти усы), и я проклинал и казнил себя за свою робость, за свою детскую застенчивость: ни за что на свете я не решился бы подойти и заговорить с такими великими и недосягаемыми людьми.
Йогансен посидел некоторое время рядом с Хвылевым — такой же молчаливый и погруженный в себя, как и тот, тоже полная противоположность тому Йогансену, который только что блистал перлами остроумия и чаровал чудесными стихами. Потом Йогансен встал и вдруг… двинулся ко мне через весь трамвай.
Усевшись против меня на скамейку и поглядев насмешливыми и добрыми карими глазами, Йогансен спросил:
— Послушайте, вы приехали следом за нами из города, внимательно прослушали всю литературную программу, снова едете с нами — тоже молча. Кто вы такой? Репортер? Или агент уголовного розыска? Так мы ничего не украли и никого не убили. Все, что читал сейчас Хвылевый об убийствах и расстрелах, — это вовсе не признания, это все выдумка, беллетристика. У вас в уголовном розыске знают, что такое беллетристика? Что ж вы молчите? Я вас напугал?
Я в самом деле был испуган, и у меня отнялся язык.
— Э, — сказал Йогансен, — нехорошо! Ай-ай-ай! Вам придется доложить своему начальнику, что вы не справились со своими обязанностями: сыщик не должен себя обнаруживать, сыщик должен быть похож на всех, такая среднеарифметическая посредственность.
— Разве… я… похож на… сыщика? — наконец выдавил я из себя, заикаясь: предположение писателя, в которого я только что "с первого же взгляда" влюбился, меня тяжко потрясло.
— Не похожи, а тютелька в тютельку! — безапелляционно заявил Йогансен. — Взгляните на себя сами: молчите, смотрите волком, прячетесь куда-то в угол! А оделись? Эта фетровая шляпа с огромными, явно преувеличенными полями; эта широченная блуза, как у выдуманного "пролетария" с плакатов Пролеткульта; эти желтые ботинки фасона "вэра"… Боже мой! Действительно надо быть агентом уголовного розыска, чтоб все это нацепить и выдавать себя за… актера провинциального театра!
— Я… я и есть… актер, а вовсе не агент… — наконец пробормотал я, чуть не плача.
— Правда? — Йогансен уставился на меня, потом так и повалился на скамью в припадке хохота. — Микола, Микола, ты слышишь? Он и в самом деле актер, а не прикидывается актером, как мы думали… Вот это здорово! Совсем, как в искусстве: прикидываться правдой! — Йогансен хохотал, Хвылевый с другого конца вагона поглядывал на меня тоже с любопытством: между ними уже, оказывается, был разговор — догадки, кто я такой? — Кто же вы? Из какого театра? — снова обратился ко мне Йогансен, отсмеявшись.
Я только открыл рот, чтобы ответить, но Йогансен замахал на меня руками:
— Не говорите, не говорите, я уже знаю! Вы актер театра Франко, который переехал только что в Харьков и будет здесь столичным "дивадлом", как говорят чехи. Как мы сразу не сообразили, ведь они же все, ваши франковцы, ходят по городу, вырядившись пугалами: один — в такой вот шляпе, другой — в клетчатой кепке из американского кинофильма, третий — в Пальмерстоне и котелке! Вы что — договорились собак пугать или отсутствие юмора и вкуса возмещаете пестрыми перьями?
Но тут он увидел, какое впечатление производят на меня его насмешки, и смутился:
— Ой, простите, я, кажется, доставил вам неприятность? Не сердитесь, я ведь только пошутил, в досаде на самого себя, потому что мы с Григоровичем все угадывали вашу профессию и, как видите, не угадали: думали, вы прикидываетесь, а вы — в самом деле… Послушай, — вдруг перешел он на ты, — так зачем же ты ездил за нами и сидел весь вечер?
— Я хотел вас послушать…
— Правда? — Йогансен был искренно удивлен и, как мне показалось, даже взволнован. — Гляди-ка! Микола, представляешь, он ездил специально, чтоб нас послушать!
Йогансен дружески хлопнул меня по колену:
— Как твоя фамилия?.. Ага! А моя — Йогансен, Майк. Это — все равно, что Михайло — так меня крестили. Но для оригинальности я переделал себя в Майка. Вот как ты нацепил эту ковбойскую шляпу! — Он опять залился смехом. — Все мы — дураки и шуты гороховые.
И как это я сразу не понял, что ты за птица? Слушай! — вдруг догадался Йогансен. — А ты сам, случайно, не пишешь стихов?
Ответ мой он не услышал, а понял по глазам.
— Ай-ай-ай! — совершенно искренне пожалел он меня. — Это страшная вещь — поэтический зуд! Знаю по себе. С этим надо бороться, как с детским онанизмом. Это так же физически выматывает, опустошает душу и делает психопатом. Если уж ты чувствуешь, что не можешь не писать, — пиши прозу, только прозу — ну, рассказы там, повести, романы… Может, из тебя и выйдет какой-нибудь толк. Но стихи — чур, из этого толку никогда не будет! Брось это! Брось! Уверяю тебя! Вот приходи завтра ко мне — я живу на улице Свердлова (номер такой-то, квартира такая — забыл!), и я тебе расскажу относительно стихов и прозы. Своих стихов с собой не приноси, я ни читать, ни слушать не буду. А если есть у тебя уже и проза, то приноси непременно: нам до зарезу нужен современный пролетарский Бальзак или хотя бы Михайло Коцюбинский. Придешь?
Разумеется, я пришел. И с этого дня — с моего первого посещения Йогансена — и начался, считаю я, мой путь в литературе. Пошел я к Йогансену, сменив, конечно, мой осмеянный туалет: вместо широченной "артистической" блузы надел обыкновенную толстовку, какие тогда носили все, а шикарную широкополую шляпу оставил дома. Заменить ее мне было нечем, и я пошел с непокрытой головой, чем обращал на себя удивленное внимание всех встречных и подозрительные настороженные взгляды милиционеров. Дело в том, что тогда все еще непременно ходили в "головных уборах" и на человека без шляпы оглядывались: не из сумасшедшего ли дома, случайно?
Я привел выше наш диалог с Йогансеном в момент первого знакомства в трамвае почти дословно: этот диалог почему-то врезался мне в память и не стерся за сорок лет. А вот вспомнить и пересказать наш первый литературный разговор на другой день у Йогансена дома — не могу: забыл его абсолютно. Забыл, несмотря на то, что он, этот разговор, был первой в моей жизни литературной беседой и был мне безмерно дорог, бесценен, так как открыл глаза на литературный творческий процесс вообще, ввел в курс литературной ситуации на Украине в частности и, я бы сказал, просветил меня и поднял на высшую ступень культуры. Как это обидно и как странно, что я забыл этот разговор начисто. Это, вероятно, потому, что мне уж чуть не сорок лет приходится вести "литературные разговоры", и подавляющее большинство из них — толчение воды в ступе.
Должен заметить, что из этого первого столь существенного для всей моей дальнейшей жизни посещения Майка Йогансена в памяти сохранился лишь обрывок совсем не "литературный". В его большой просторной комнате с двумя широкими окнами на аптеку на противоположной стороне улицы висело на стене единственное "украшение": чудесно вытесанное двустороннее весло для байдарки.
Я спросил:
— Вы — спортсмен?
— Разумеется. Только "вы" говорят лишь незнакомым женщинам, плохим начальникам и вообще людям безразличным. А друзьям и богу надо говорить "ты".
— Какой… вид спорта? — спросил я, все же избегая местоимения.
— На воде? Байдарка. Двойка. Восьмерка. Но ведь в Харькове нет путной реки. Надо ездить либо в Карачевку, либо даже на Донец, на Карповы хутора.
— А… на земле? — Я никак не решался произнести "ты".
— Вело. Коньки. Снаряды. Теннис. Ну и, понятно, футбол.
— О!
— А ты разве тоже?
— Конечно! — Я был невыразимо счастлив: оказывается, можно быть поэтом и играть в футбол!
— Здорово! — обрадовался и Йогансен. — Я так и думал, что ты настоящий человек. Хавбек?
— Нет, левый инсайд.
— Да что ты говоришь? Я тоже левый инсайд. Играл десять лет.
— И я десять.
— Да что ты говоришь! Вот здорово!
С этой минуты мы с Майком стали друзьями навеки.
Из старых товарищей я не припомню человека, которого любил бы сильнее, чем Манка.
В истории литературы (теперь, после реабилитации) Йогансена вспоминают лишь при случае, да и то — когда на до сказать о формалистах. Формалистом Йогансен действительно был. Достаточно вспомнить его книгу "Как строить рассказ" — своего рода евангелие украинских формалистов двадцатых годов. К сожалению, не могу теперь нигде ее найти и перечитать, чтоб посмотреть, каково будет мое отношение к ней сейчас, после стольких лет, после всех пертурбаций в нашей жизни — благодетельных, курьезных и трагических, — сейчас, когда я стал уже "зрелым" литератором, и вообще на склоне лет. А впрочем, может быть, это и лучше — воссоздать по возможности тогдашнее, а не подставить нынешнее свое отношение?
Итак, Йогансен действительно был формалистом — формалистом в своих теоретизированиях, к которым, кстати, сам относился критически, с иронией замечая: "Это же для дураков, потому что умные и сами понимают". Именно "для дураков" — фрондируя, и взял Йогансен ко всем своим литературным теоретизированиям эпиграф из Державина: "Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна, полезна, как летом вкусный лимонад". Это определение поэзии, а с нею и вообще литературы и всех других искусств, как "прохладительного напитка в жару", и привело к тому, что Йогансену слишком часто доставалось от критики. Вуспповская критика не поняла, что это лишь полемический прием, литературная мистификация, вызов. Она приняла лозунг Йогансена всерьез, за чистую монету. А те, которые понимали, что это лишь полемический выпад, — те, будучи лишены чувства юмора либо вырядившись в тогу ханжей-пуритан, что и улыбаются с оглядкой, эти мрачные мизантропы самый перевод тогдашних дискуссий в плоскость иронии принимали как крамолу и немедленно обрушили на голову весельчака, юмориста и оптимиста Йогансена суровую анафему. А надо было ответить такой же иронией, так же резко высмеять йогансеновские теории либо, на худой конец (если уж литературные дискуссии такая неприкосновенная святыня!), просто сказать человеку: послушай, друг, брось дурака валять, видишь, люди серьезно разговаривают?..
А между тем лучшая часть стихов и прозы Йогансена к формализму отношения не имеет. Вспомним хотя бы Йогансена как неутомимого автора очерков: он опубликовал целую серию путевых заметок о заводах, колхозах и новостройках, среди которых весомая книга "Кос-Чагил на Эмбе". Вспомним чудесные, несравненные, именно йогансеновские описания украинской природы. Не забудем, наконец, и того, что именно Йогансену обязана наша литература созданием школы украинских очеркистов.
В художественную литературу из них вошло целое поколение — от Лисового-Свашенко и до Александра Марьямова, любимого ученика Майка. Он перенял у Йогансена и самый жанр путевого очерка, беллетризованного факта. А в украинских газетах и журналах того времени очерк Йогансена стал определенным эталоном; впрочем, немало есть и современных очеркистов, которые не задумываются над тем, кто их отец. А в их появлении повинен живший когда-то литератор, которого считали формалистом, — Йогансен. Хвылевый, правда, и его последователи несколько варьировали формулу проклятья: они считали Йогансена "утилитаристом-циником" и вообще — футуристом (слово "футурист" для "романтиков" того времени было отборной бранью). Что ж, кое с чем тут действительно можно согласиться: "утилитарный" подход к литературе у Йогансена был, было и делячество в его советах "Как строить рассказ". К этому можно прицепить и слово "цинизм". Но — "строил" ли по собственным формалистическим рецептам свои рассказы Майк Йогансен? Разве лучшее из опубликованной нм прозы, его последняя автобиографическая повесть (господи, как она называется?), напечатанная в харьковском "Літературному журналі", формалистична? Разве герой этого строго реалистического повествования, расцвеченного подлинной романтикой, гимназист Югурта Гервасиевич (Майк Гервасиевич Иогансен) — образ формалистический, а не живой?
Если в своей повседневной практике Йогансен и допускал формально-деляческий подход к работе, то… скрывал, что это Йогансен, и прятался за псевдонимом. Так было, к примеру, с приключенческим романом, который выходил еженедельными выпусками (на манер когдатошних "пинкертонов") под громким, но уже забытым, да и трудным для произнесения названием и подписанный: доктор Вецелиус. Йогансен стыдился признаться, что он — автор такой чепуховины, и, весело потирая руки, ехидно на меня поглядывал, когда кто-нибудь называл автором этой белиберды меня, а не его. Майк вообще страшно любил мистификации.
Впрочем, и самое творчески-рабочее отношение к этой литературной "поденщине" было у Майка неприкрыто-циничное.
Как он писал этот детектив? Вот как. Каждую пятницу он обязан был сдавать очередную главу — точно один лист. В четверг под вечер (!) Майк выпивал бутылку пива (вообще Майк не употреблял спиртного: водки не любил, в вине не находил вкуса), потому что пиво действовало на Майка, как снотворное, — ложился поспать часок в предвидении бессонной ночи, потом просыпался, садился к столу и клал справа от себя стопку чистой бумаги. Шнур телефонного аппарата выдергивался из розетки, чтоб никто не мешал. К утру на столе перед Манком — слева — лежало ровно двадцать исписанных листков: Майк писал очень мелким, аккуратным почерком и вгонял в страницу точно две тысячи знаков. На всех двадцати страницах не было ни одной помарки, и написанное Майк не перечитывал. Так и относил — точно в девять часов утра. Корректуры не держал и редакторскими поправками не интересовался. Это была типичная халтура: Йогансен, взыскательнейший мастер, мог и умел халтурить. Однако халтуру никогда не выдавал за литературу. Халтурил либо из-за необходимости срочно заработать нужные ему сто рублей, либо — для какой-нибудь литературной мистификации, которые, повторяю, Майк чрезвычайно любил.
Главными же своими произведениями Йогансен наглядно (и убедительно) опрокидывал свои же формалистические теории.
В этом месте я, конечно, могу ожидать реплики: а "Путешествие доктора Леонарда и прекрасной Альчесты"? Разве это не формалистическое произведение?
Да, это — единственное произведение, где Йогансен выступил и в своей серьезной художественной практике как формалист, хотя и здесь больше шло не от убеждения, а только от издевки над оппонентами, от пристрастия к мистификации, от литературных "деструкций" — пускай и так. Тем не менее и в своей формалистической эквилибристике Йогансен остался верен своему таланту — показал себя… истинным виртуозом.
А впрочем, если оглянуться назад, лет на тридцать — сорок, мы увидим, что чуть ли не все более или менее талантливые литераторы нашего поколения в начале своей творческой деятельности — когда еще не умели искать, но жаждали любой ценой найти что-то "новое", создать "новую" литературу, — проходили какую-то модификацию поисков и экспериментов. И все же, несмотря на такие казусы, формалистами они не стали. Никому же не придет в голову обвинять в формализме, скажем, Андрея Васильевича Головко, а ведь он первое издание своего известного романа "Мать" печатал… разными шрифтами, и каждый шрифт нес свою психологическую нагрузку, имел свое назначение, был своего рода символом.
Еще раз — а впрочем: так, думаю, случается с каждым новым поколением литераторов. Оно приходит, глядя свысока на то, что было до него, отрицая какие-то признанные истины, презирая авторитеты, что-то утверждает как новое, свое, не всегда считаясь с тем, действительно ли оно новое или давно известное, только им неведомое. Подобную ситуацию мы наблюдаем, к примеру, в группе действительно талантливой поэтической молодежи, которая пришла в литературу теперь, в последние годы: они совершают поэтические "открытия" давно открытых и давненько уже отброшенных самим литературным процессом поэтических "новаций", которые с такою же, а иногда большей или меньшей, мерой таланта делали в свое время Михайло Семенко, Валериан Полищук, Леонид Чернов, Маловичко, Стриха, наконец, Влызько и тот же Йогансен. Только сие юношам шестидесятых годов было неизвестно.
И — третье "впрочем": не о том речь. Речь — об Йогансене.
Творческая жизнь Майка Йогансена была совершенно своеобразна. Она не укладывалась ни в какие нормы. Так же трудно уложить ее в рассказ о нем.
В своей творческой деятельности — необычайно многогранной, разнообразной — Йогансен был человек на диво неорганизованный. Он никогда не планировал своей работы наперед, так же как никогда не намечал хотя бы приблизительно плана того произведения, над которым садился работать. Не знал Майк и того, будут ли у него завтра деньги, а если нет, то каким способом их добыть.
Был он поистине "птица небесная", не заботился о завтрашнем дне. Писал, воплощал в произведениях — в поэзии, прозе, драматургии, в других жанрах — лишь незначительную, совершенно ничтожную часть того, что "само собой" "придумывалось" в его голове. Если б за Майком ходила стенографистка и подбирала, записывала все те истинные перлы выдумки, остроумия, своеобразного видения мира и блестящего творческого претворения всего только что увиденного, — после Йогансена осталась бы целая гора книг: поэзия, проза, юмор и сатира; особо — собрания пословиц и поговорок, раскопанных неведомо где (Майк никогда не рылся в каких-либо архивах), удивительных архаизмов, оригинальных метких новых словообразований и вообще бездна всякой информации и сведений из самых различных областей знания — в оригинальной, своеобразной, специфически йогансеновской интерпретации (мягкой иронии с неожиданным, бьющим в цель и неотразимым сарказмом). Как жаль и какая потеря для нашей культуры, что Майк Йогансен был такой неорганизованной, такой безалаберной натурой и ушел от нас так рано, в расцвете творческих сил, в период бурного роста его интеллекта. И хотя ушел от нас Майк, когда было ему уже, если не ошибаюсь, сорок один год, он не успел оставить после себя ни одного капитального труда — все из-за той же своей разбросанности, рассеянности, хаотичности, из-за того, что был воистину "человек момента".
Таким же, впрочем, безалаберным и разбросанным был Майк и в быту. Обедал он то рано, то поздно; мог назначить на определенный час очень важное деловое свидание и накануне вечером вдруг неожиданно уехать на охоту куда-то в Скадовск на Черное море или в закаспийские степи. В комнате у Майка всегда был кавардак: охотничье ружье могло лежать на письменном столе; рукопись — у кровати на полу (ни тумбочки, ни лишнего стула в комнате не было); специальным, заказанным лучшему мастеру (и очень дорогим) бильярдным кием могла быть заложена форточка со сломанным шпингалетом; на кровати порой громоздились разные инструменты, которыми Майк только что работал, — ножовка, клещи, напильник, еще что-нибудь; в карманах у него — как у подростка-гимназиста — всегда можно было найти гвозди, гайки, шурупы, стреляные гильзы, огрызки карандашей и тому подобное — и все это в трухе махорки, которую Майк курил на охоте вместо папирос. Одевался Майк как-то "случайно" — преимущественно в спортивного типа одежду, а если надо было идти в театр (что с Майком случалось чрезвычайно редко, в исключительных обстоятельствах), оказывалось, что нет подходящего костюма — ни пиджака, ни брюк. Впрочем, страстью Майка были сверкающей белизны воротнички, которые он пристегивал к цветной сорочке — голубой, салатной, сиреневой — и носил постоянно, даже на рыбалке. Был он также пылким сторонником штанов "гольф" — со спортивными грубошерстными гетрами и вишневого цвета ботинками. Но зиму, весну и осень ходил в одном демисезонном пальто и летней клетчатой кепке. Цены в лавках Майк знал только на папиросы, колбасу, порох и дробь. Зато разбирался во всех системах охотничьего и спортивного оружия — ружей, винтовок, пистолетов, в качестве теннисных ракеток отечественных и заграничных мастеров, а также во всех марках мотоциклов и автомобилей, выпускаемых мировыми фирмами.
"Любой распорядок или регламент Майк ненавидел всеми фибрами души и, если ему приходилось сталкиваться с какой-нибудь формой организованной деятельности (заседания, собрания или еще что-нибудь), сразу бежал куда глаза глядят.
Словом, Майк отнюдь не был педантом.
Левко Ковалев — ближайший, задушевный друг Майка, человек, редкостно организованный во всей своей тоже весьма разнообразной деятельности, абсолютная и полная противоположность Йогансена, — так характеризовал Майка:
— Майк каждым своим поступком, каждым шагом, каждым своим помыслом, каждой черточкой старается доказать, из кожи вон лезет, что он не немец…
Забавно, что немецкий язык был единственным языком, за которым Майк не желал признать ни одного положительного качества: он считал его неблагозвучным, неуклюжим и вообще — противным.
Любопытная вещь: при всей своей разбросанности, безалаберности и хаотичности Майк не был ни безрассуден, ни опрометчив. "Сдерживающие центры" действовали у него безотказно, даже в мелочах.
Вспоминаю такой курьез. Мы со Слисаренко пили чай у Йогансена, и за столом Майк заспорил с женой — не припомню, по какому поводу. Кровь кинулась Майку в лицо (Майк был страшно вспыльчив), он вскочил с места, схватил чайную чашку, стоявшую на столе, и сгоряча размахнулся. Еще миг — и чашка полетит в стенку или на пол и разобьется вдребезги. Но в этот момент он успел заметить, что это очень дорогая, старинная музейная чашка. Майк поскорей поставил ее осторожненько назад, пошарил на столе, схватил другую чашку — простоликую, дешевую, базарную — и с наслаждением брякнул о пол. После этого взглянул на нас, мы тоже смотрели на него. Чувство юмора уже взяло верх — Майк так и покатился со смеху.
Майк вспыхивал мгновенно и так же мгновенно отходил. И если ссорился с кем-нибудь, то тут же забывал, никогда не таил зла. Особенно взрывался Майк за игрой на бильярде, если ему случалось промазать. Был Майк бильярдист несравненный и непобедимый, несмотря на то, что (престижа ради) никогда ни с кем не играл "на равных" — всегда давая "форы" десять — двадцать очков в пирамидку или два, три, четыре шара в американку. И все равно — выигрывал.
Вспоминаю такой случай.
Мы открыли Дом Блакитного — наш писательский клуб, но комната, отведенная под бильярдную, оказалась мала, чтоб поместить в ней нормальный бильярд — надо было раздобыть кабинетный. Таких, как назло, нигде не было. Но подал голос из Москвы Владимир Владимирович Маяковский. Он как раз сидел "на декохте" и сватал нам свой собственный домашний бильярд. Бильярд Маяковского был хорошо известен в кругах бильярдистов Харькова и Москвы — отличный, высшего класса, кажется лейпцигской марки.
Маяковский привез бильярд лично и сам с ватерпасом в руках наблюдал, как его устанавливали специалисты. Это была забота мастера о качестве инструмента, кроме того — не последний раз играть на этом инструменте и самому Владимиру Владимировичу: Маяковский часто наезжал в Харьков — то для выступлений, то за авансом в ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление) под сценарии, которые он брался написать.
В день открытия бильярдной в подвале клуба было особенно людно. Торжественное "открытие" должно было состоять в том, что первым возьмет кий сам Маяковский и будет разыграна американка на "выкидку". Тот, кто выиграет у Маяковского, будет провозглашен бильярдным королем в украинской литературе, и ему, когда бы он ни пришел, все должны уступать очередь, а денег с него не брать (тогда было такое правило: за пользование бильярдом платит тот, кто проиграл, — деньги клали в лузу, в фонд ремонта бильярда). Никто не сомневался, что "королем" так и останется Маяковский, — разве можно надеяться выиграть у Володи, если он — когда ему выпадало начинать игру — кончал партию американки чаще всего "с кия", то есть клал все восемь шаров, не дав партнеру ни одного удара.
И вот Маяковский взял кий, помелил и стал в позицию у короткого борта:
— Кто первый? Четыре — форы!
К бильярду подошли лучшие игроки — Павло Иванов, Постоловский, Фурер, однако кия не брали: первым начинать не решался никто. Слава Маяковского-бильярдиста была не меньше славы Маяковского-поэта. За ними толпились бильярдисты второго и третьего ранга: Копыленко, Слисаренко, Вражлывый, я… Мы, ясное дело, тоже молчали.
Маяковский надменно улыбнулся:
— Что, и на четыре нет? Ну, о пяти шарах с бильярда я никогда не слыхал…
Тогда и взял кий Йогансен. В лицо ему бросилась краска: Майка задело за живое. Он схватил кий, намелил кончик и стал у другого короткого:
— Так на так, Владимир Владимирович.
По бильярдной прокатился шелест. Это была дерзость! Против Маяковского? С Маяковским — на равных? Ну, знаете… Послышались реплики:
— Брось, Майк, ерепениться!.. Да он шутит… Володя, ты не обращай внимания, он тебя дразнит!..
Но Маяковский уже впал в амбицию:
— Пускай будет "так на так". Но… на пролаз!
"На пролаз" играли тогда, когда хотели обесславить, унизить партнера: "на пролаз" означало, что проигравший должен "по-пластунски" на животе ползком пролезть под бильярдом.
Майк побледнел. Самое предложение было тяжкой обидой: Маяковский, выходит, хотел его "проучить" за дерзкий вызов играть на равных. Майк закусил удила:
— Ладно: на пролаз! Сколько партий — одна или с контрой?
Это уже была дуэль. Тут же нашлись и секунданты. Выработали условия: играть две партии — с чередованием первого кия независимо от выигрыша, если игроки разойдутся, — играть контру.
Маяковский отворил дверь в буфетную и крикнул:
— Николай Михайлович, бутылочку "моего"!
"Мое" было пиво харьковского завода "Новая Бавария", для которого рекламу написал Маяковский: "Какая б ни была авария, пью пиво "Новая Бавария"; на этикетке плескалось бурное море, спасательный круг на воде и в нем матрос с бутылкой пива.
Пирамидку поставили, Маяковкий из горлышка выдул бутылку пива, Майк стоял и похлопывал кием по ладони — он нервничал. Секунданты бросили монету: орел или решка? Начинать выпало Манку. В бильярдной стало тихо, как в церкви.
Майк пустил на пирамидку биток — желтый шар, "зегера", как этот шар у нас назывался, потому что был он одного цвета с волосами Владимира Викторовича Зегера, секретаря журнала "Всесвіт", пожалуй, третьего после Рызкина и Манка харьковского бильярдного короля. Шар металлически щелкнул и — своим — упал в лузу. Пирамидка рассыпалась у короткого борта. "Свой", при разбивке, в лузу — не такая редкая штука, Маяковский стоял спокойно, заедая пиво соленым сухариком. В бильярдной царила тишина — Майк пошел вокруг бильярда. Он подходил к шару, стоявшему под ударом, прицеливался, коротко ударял — и снова металлический звук: опять шар в лузе… Каждый шар бильярдная провожала шумным вздохом. Никто не решался произнести ни слова… Майк обошел восемь раз вокруг стола, восемь раз ударил — восемь шаров упало в лузы: партнеру он не дал ни одного удара.
— Ура! — загремела бильярдная. — Знай наших! Дай ему, Майк, дай! Не в рифму твои стихи, Володя!..
Маяковский покусывал губу — этого он не ожидал. Когда поставили пирамидку, он, присев, проверил на глаз — точно ли. Потом наклонился над бильярдом всем своим длинным и массивным телом и положил кий на стойку пальцев. В бильярдной снова воцарилась мертвая тишина. Удар! Шары брызнули в разные стороны — Маяковский разбил на весь бильярд, — и два крайних лежали в двух угловых лузах. Шумный вздох снова вылетел из груди болельщиков. Маяковский пошел вокруг бильярда. Один за другим — после шести ударов забиты еще шесть шаров: восемь — Маяковский тоже не дал Майку ни разу ударить!
Этого, разумеется, и следовало ожидать: выигрыш должна была решить только контра. И силы партнеров были, пожалуй, равны. Майк имел для контры психологическую фору — он играл "на своем поле"; болельщики были за него. Но и у Володи была "фора" — тактическая: ему принадлежал первый удар, так как он выиграл предыдущую партию.
— Николай Михайлович! — крикнул Маяковский. — Еще одну "моего"!
Он налил пива в стакан, выпил и подвинул бутылку Майку:
— Прошу!
— Спасибо, — даже не взглянул на бутылку Майк, — до выстрела пива не пью.
— Так это ж на охоте!
— Все равно. "Кто ищет силы в "Новой Баварии", тому грозит тяжкая авария", — Майк задирал нос.
Маяковский новел плечом, нахмурился, — экспромт его уколол, — и наклонился над бильярдом. Теперь он послал "зегера" тихо — тот упал в угол, остальные шары рассыпались под коротким бортом. И Маяковский начал… щелкать: удар — второй в лузе, удар — третий, еще удар — четвертый… Майк сердито передернул плечами и положил свои кий на длинный борт — знак, что понимает: ему бить не придется!.. Но руки с кия не снял. Удар в среднюю лузу вызвал шумную реакцию болельщиков: шары упали в обе лузы — биток оттяжкой на себя. Шесть готово! Оставалось еще два. Значит, у Майка шансов… почти не было. Еще один "щелк" — седьмой шар в лузе. Майк снял руку с кия на борту — примета бильярдистов: если боишься, что партнер возьмет шар, положи кий — и тот промажет.
Маяковский выбрал шар у угловой лузы — маленький "клопштосс", — и он сейчас будет там. Майк зажму-рился. Удар!.. И по бильярдной прокатился общий шумный выдох: шар отскочил от борта в поле.
Майк схватил кий. Шанс! Шанс? Один против девяноста девяти из ста. Положить восемь с кия, когда на бильярде осталось девять шаров, невозможно! Шанс — в другом: разогнать шары, прибить их к бортам, раскарамболить — и затянуть игру на отыгрышах. Но один шар у самой лузы — и Майк не устоял. Он легонько коснутся его битком — шар упал в лузу и отколол еще один. Опять легкий удар, как погладил, — и еще один. Затем — третий. Но четвертый ткнулся в лузу и… откатился назад. Майк в сердцах плюнул.
Тут оно и началось: Маяковский отыгрался, отыгрался Майк. Еще раз. И еще раз. Минута, вторая, третья. Теперь расчет только на то, что у партнера сдадут нервы. В бильярдной поднялся гомон: зрители бросали насмешливые реплики.
Майк вскипел:
— Кому не нравится, может убираться! Но прошу не мешать!
— Да, товарищи, — сказал и Маяковский, — давайте… серьезно…
Болельщики потянулись к двери: такая игра могла длиться до утра.
Но вдруг Майк наклонился к шару, от которого только что отыгрался Маяковский: шар отошел на два-три сантиметра от борта. Майк решительно положил руку на сукно, приготовясь бить:
— Дуплет!
Удар. Шар отскочил от борта, покатился через стол и… тихо упал в среднюю лузу. Четвертый! По залу пробежал восторженный гул. А Майк стоял уже над очередным шаром: его биток вышел на середину и остановился против второй средней, а еще один шар, стоявший рядом с только что забитым, откололся от борта и стал… опять-таки перед средней лузой.
Майк прицелился, направив кий в низ шара и несколько вбок, и… повторил удар Маяковского: оба шара упали в средние лузы — один напротив, другой в свою. Шесть! Еще два. А партнеру только один. Маяковский угрюмо усмехался. Майк оглядел поле и пустил шар — отыгрышем.
Но теперь, на радостях, что ли, Майк сыграл неудачно: один шар отошел от борта и стал под удар. Правда, в трудной позиции, через весь бильярд.
Маяковский тщательно прицелился и ударил изо всей силы — своего.
Металлический "щелк": шар — восьмой! — ударился в медную дужку над лузой, подскочил и… упал на пол. По бильярдной прокатился рев. Аут! Выпал "свой". Маяковскому выставить штрафной: теперь у обоих по шести.
Через минуту или две, после нескольких взаимных отыгрышей, Майк положил-таки один за другим два шара — восемь! — и вышел победителем.
И Маяковский… полез под бильярд. Сам на свое публичное позорище поставил это условие. И тут с поверженным "королем" бильярда произошел второй конфуз: кабинетный стол имел очень низкое "брюхо" — и Маяковский застрял под бильярдом: голова — с одной стороны, ноги — с другой. Вот тут и началось! Майк, как мальчишка, выплясывал вокруг индейский танец, издавая что-то вроде боевого клича команчей или ирокезов. Все хлопали в ладоши и кричали "браво-бис". А Маяковский, если б и просунул плечи и живот, все равно не мог бы вылезть, потому что с одной стороны бильярда его тащили за руки, а с другой — за ноги.
— Братцы! — взмолился Владимир Владимирович. — Смилуйтесь! Ведь разорвете же! Чертвертуете?.. Сдаюсь! Больше не буду! Иогансен — король! Буду просить у него форы. Только пощадите! Отпустите душу на покаяние!
Так был повержен бильярдный кумир, и "королем" бильярда в литературе — во всей, как решено было тогда же, многонациональной советской литературе — стал Майк Йогансен.
Необычайно шумно прошел тот вечер. Угощал всех Маяковский. Пил водку даже Майк, хотя от спиртного его воротило.
Вообще в Доме Блакитного пили редко, но на этот раз водка лилась рекой и тарарама было много. Поздно ночью Николай Михайлович взмолился: надо же когда-нибудь закрывать ресторан. Тогда Курбас предложил идти "на могилки" — устроить поминание. Объявив кутьей миску винегрета и прихватив пару бутылок, все вышли во двор, а оттуда через забор — на соседнюю территорию. Тогда за Домом Блакитного еще не высилось четырехэтажное здание, в котором позднее поселилась наркомы, а стояла старинная церковка и расстилалось тихое кладбище с могилками и склепами: На склепах были надписи серьезные: "Приидите ко мне, и аз упокою вы" или "и обрящете жизнь вечную", а на могилках, на покосившихся крестах — лирические, зачастую в стихотворной форме: "Он в жизни был и добр и сердечен, мир праху его пусть будет вечен"… Расположившись на забытых могилах под развесистыми старыми липами, дружно запели": "На нем памятник дубовый, девяносто — сто пудов", выпили водку, закусили винегретом-кутьей и решили идти к Вишне — допивать ту последнюю чарку, которой, как известно, всегда в таких случаях не хватает.
Вишня тогда еще жил в конце Сумской, в большом — стиль модерн — доме на питом этаже. Квартира его состояла из одной огромной комнаты, но мебели было маловато, компания ввалилась изрядная — душ двадцать, сесть было не на что, потому разместились прямо на полу, на ковре. Но взялись не за водку, а за бумагу и карандаш, и приступили к коллективному творчеству. В тот вечер, до бильярдного турнира Маяковский — Йогансен, все мы вместе были в кино "Маяк" на просмотре кинофильма "Сумка дипкурьера" — первого значительного фильма новоиспеченного кинорежиссера, а до того карикатуриста газеты "Вісті" Сашка Довженко. Событие было немаловажное: среди нашего поколения, первого пооктябрьского поколения художников, родился первый кинорежиссер! И вот, лежа животом на ковре, Петро Панч начал писать Сашку приветственное письмо. А мы все помогали ему, подбрасывая каждый и свое словцо — остроту, разумеется, в точности, как запорожцы, когда, писали турецкому султану. И всякую реплику покрывал гомерический хохот — тоже в точности, как на картине Репина. Потом каждый, лежа на ковре, ставил под письмом свою подпись.
Бронек Бучма, пребывая в приподнятом настроении, вышел на балкон проветриться. Уже наступило утро, как раз всходило солнце, ослепительно светя прямо в глаза, — день обещал быть чудесным. Бронек расчувствовался, ощутил в себе бешеный прилив энергии, схватился руками за перила балкона, подпрыгнул, крикнул: "Го-го-го!" — и вдруг… сделал стойку: на перилах балкона на пятом этаже! Все так и онемели от испуга: метров пятнадцать от земли, внизу — асфальт, а Бронек стоит на руках вниз головой, покачиваясь, изгибаясь над бездной. Кто-то хотел крикнуть: "Бронек, что ты делаешь? Опомнись!" — но ему зажали рот: разве можно кричать? Он же испугается и тогда наверняка упадет! Тише, тише, ведь Бронек — лунатик!.. И шепотом заспорили: можно или нельзя окликать лунатиков, когда они в трансе? Упадут они или не упадут в этом случае?.. А Бронек все стоял, еще и ногами размахивал да покрикивал свое "Го-го-го!" И тогда все тихонько, на цыпочках, заторопились назад в комнату, чтоб покорей бежать вниз и устлать асфальт матрасами. А Бронек постоял вверх ногами, сколько ему хотелось, потом спустился и вернулся в комнату.
— Бронек, гы лунатик? — робко спросил кто-то, остальные смотрели на него сочувственно и жалостливо.
— А что такое — лунатик? — не понял Бучма: в галицийском диалекте этого слова не было.
— Ну — расхаживающий во сне…
Бронек упал на пол, захлебываясь от хохота.
Тогда все набросились на него и стали бить.
Веселая это, помню, была ночь…
Впрочем, то была и вообще веселая и бесшабашная пора — годы буйного расцвета литературной богемы — хмельная пора литературного "молодечества", время "Литературной ярмарки".
"Литературной ярмаркой" сначала называли, собственно, отрезок Сумской улины от кафе "Пок" и Театральной площади, где по обе стороны бульвара размещались редакции газет и журналов, до Мироносицкой площади, где находилось ДВОУ ("Державне видавниче об’єднання України"). Здесь, на протяжении этих трех кварталов, всегда можно было встретить кого-нибудь из писателей и редакционных работников: здесь обменивались литературными новостями и редакционными сенсациями. Здесь можно было "продать" и "купить" стихи, поэмы, рассказы, пьесы и романы. Здесь же, забежав в издательство или редакцию, можно было перехватить аванс и сразу же "разменять" — в кафе "Пок", в бильярдной Порфишки, а не то и в ресторане Делового клуба за углом Рымарской.
Редакция альманаха, получившего это звонкое название — "Літературний ярмарок", помещалась в доме ДВОУ, на первом этаже, вход со двора. Была это одна-единственная небольшая комнатка какой-то странной, со срезанным углом, конфигурации, очевидно, в прошлом дворницкая в купеческом особняке. В комнате-редакции стоял один стол и одни стул — на нем восседал один-единственный редакционный работник, секретарь "Літературного ярмарку" Иван Сенченко. На стене над ним большим гвоздем была прибита… галоша — в качестве символа, по-разному, впрочем, толкуемого.
Все стены комнаты были исписаны стихами, афоризмами, лозунгами, разрисованы писательскими профилями. От двух до шести здесь постоянно толклись литераторы всех жанров и направлений, а Анатолий Петрицкий приходил сюда рисовать.
Идея создания журнала-альманаха "Літературний ярмарок" принадлежала Майку Йогансену. Ее подхватил горячий и падкий до всего острого и сенсационного Хвылевый. Однако, чтобы остаться якобы "в стороне" — не компрометировать своей особой новый журнал, Хвылевый пустил вперед Кулиша. Хвылевый сразу загорался, понимал все с полуслова, и Майку достаточно было подкинуть ему одно лишь название "Літературний ярмарок", которое исчерпывающе и чрезвычайно точно определяло и характер будущего журнала, и желанный принцип организации литературной жизни: "безорганизационная организация литературного процесса", вольное казакование, запорожская сечь. И Хвылевый подергал верхнюю губу, потянул носом воздух, словно к чему-то принюхиваясь, — такая у него была привычка — и уже воспарил мыслью.
Майк сперва тоже был чрезвычайно увлечен "Літературним ярмарком" — подбрасывал все новые и новые придумки по оформлению и отредактировал один из первых номеров, а может быть, именно первый: "ЛЯ" постоянного редактора не имел, на каждый номер назначался очередной. Но скоро Майк начал остывать — он вообще не умел долго носиться с какой-нибудь идеей, ему надоедало, а тут еще вместо быстрого и хваткого Хвылевого во главе "Ярмарка" оказался Кулиш — чертовски талантливый, но медлительный и тяжелый на подъем тугодум, с несколько приглушенным чувством юмора, Кулишу, в частности, не нравилось и "беспредметное" фрондерство с "зеленой кобылой" (тоже выдумка Йогансена), претила ему бесшабашность — он даже возражал против оформления Петрицкого, а галошу снял со стены. Охлаждению Майка к "Літературному ярмарку" немало способствовало и то, что он надеялся избегнуть литературной групповщины путем "безорганизационной" литературной жизни, но скоро понял, что "ЛЯ" фактически превращается в новую организацию, да еще завуалированную бывшую "Вапліте". И Майк поспешил из "Ярмарка" бежать, тем паче, что у него уже зародилась новая идея: создать совершенно оригинальный журнал неизвестного еще в украинской журналистике типа английского "Мэгэзин" — "Універсальний журнал" ("УЖ").
"УЖ" придумали Майк с Левком Ковалевым, а на редакторство подбили меня.
Левко Ковалев.
Невозможно говорить о Майке Йогансене и по сказать о Левке Ковалеве, единственном человеке, которого Майк уважал безоговорочно. Это был для него абсолютный авторитет, несмотря на то что Майк не признавал никаких авторитетов. И были они закадычные друзья — Майк и Левко, связанные крепкой мужской дружбой, где всегда один — старший, а другой ему беспрекословно подчиняется. Это были друзья без сантиментов, но неисчерпаемой душевности по отношению друг к другу. Их обоих и еще третьего — Михайлика (тогдашнего наркома юстиции) связывала к тому же любовь к одной женщине и построенные на этом тонкие джентльменские взаимоотношения, — мне жаль, что я не имею права коснуться интимной стороны и подробно рассказать об этих отношениях, удивительных и достойных глубокого уважения.
Майк Йогансен и Левко Ковалев были абсолютными противоположностями, в характерах их не было ни единой сходной черты, так же как и в темпераменте: Майк был сангвиник, Левко — флегматик.
Левко Ковалев — чрезвычайно любопытная фигура в украинской культурной, да и в общественной жизни того периода.
Он стал основателем радиовещания на Украине — первым председателем первого Радиокомитета УССР, однако скоро оставил этот пост и целиком отдался спорту (в особенности — велосипед, теннис и байдарка), практической и теоретической фотографии (составил и издал учебник по фотографии), так же практически и теоретически — шахматам и стоклеточной китайской "го" (издал несколько теоретических брошюр и опубликовал экскурс по истории шахмат), увлекся разнообразной словесной эквилибристикой и штукарством (вел в журналах отделы шахмат, шарад, загадок, виктории, издал книгу "Головоломки"), а также писал фельетоны — каждый в другую газету, не становясь штатным фельетонистом, каждый подписывая другим, новым псевдонимом: их набралось несколько десятков. В такой системе сотрудничества в газетах и журналах Левко видел своего рода "свободу личности". В то же время Левко увлекся химией — поступил (чуть не в сорок лет) на химический факультет, блестяще окончил его в два года и был оставлен при кафедре для научной работы.
"Універсальний журнал" Левко с Майком придумали как-то вечером за шахматами, тут же позвонили мне и Олексе Слисаренко — приходите немедленно, будет чай с вареньем! (Слисаренко больше всего на свете любил чай с вареньем) — и уже втроем, за стаканом крепкого чая с вареньем, уговорили меня взять на себя редакторство. Слисаренко, разумеется, подходил для этого больше, чем я, но он занимал должность главного редактора "Книгоспілки". В редакции "УЖа" Левко стал ответственным секретарем и одновременно оформителем и выпускающим, вообще — душой журнала; в характере Манка было подать идею, но для реализации он не годился, был непоседлив и нетерпелив. Левко же Ковалев был натура "каменная" — характер имел на диво усидчивый, упорный, точный, даже педантичный: никто лучше Левка не умел воплотить в жизнь Майковы идеи.
Как уже говорилось, строился "УЖ" по образцу английских "мэгезинс". Но каждый, кто знает английские "мэгезинс", почувствует, что, оттолкнувшись от них, "УЖ" скоро нашел оригинальную форму, а в своем штукарстве и разных формальных экивоках был парадоксален и нередко даже "заумен" (к примеру, номер, который можно было читать и спереди и сзади, и прямо и вверх ногами). Повинны в этом штукарстве и формализме мы все: Майк, Левко, Олекса, я и Шовкопляс, который как раз тогда прославился своим рассказом "Гений", немедленно был подхвачен Майком и втянут в нашу компанию. В редакции Юрий Юрьевич ведал отделом художественной литературы, и мы с ним вдвоем в "УЖе" положили начало двум литературным жанрам — широко распространенным во всей мировой литературе, однако до тех пор вовсе отсутствовавшим в литературе украинской (на наш взгляд, это пагубно сказывалось на украинской литературе, ограничивая ее традициями сельской тематики и стилистики, и тем самым "загоняло" украинскую литературу в тупик провинциализма): я начал серию научно-фантастических романов ("Хозяйство доктора Гальванеску"), Шовкопляс — уголовный роман, детектив ("Записки доктора Поддубного").
Основание журнала "УЖ" всполошило бывших ваплитовцев, особенно Хвылевого и Кулиша. Хвылевый иронизировал: "Рожденный ползать, летать не сможет". Он считал создание пашей группкой своего журнала дезертирством и изменой — ослаблением рядов "литярмарчан", подрывом идеи "безорганизационной организации" литературного процесса, брешью в противовусиновском фронте. Кулиш к самой программе журнала относился пренебрежительно: он не признавал сюжетной прозы, всякое "хохмачество" решительно осуждал (профессия педагога давала себя знать!). Майк шутя говорил: это из-за того, что Гурович вместо пяти чувств обладает лишь четырьмя (Кулиш в результате контузии на фронте потерял обоняние: для него ландыш, сирень и жареная рыба пахли одинаково). Оба Миколы — и Григорович и Гурович — пророчили "УЖу" быструю и бесславную кончину, он, мол, не оставит по себе никакой памяти, никто не пойдет за "УЖом" из литературной молодежи.
Первое пророчество — быстрый конец! — оказалось справедливым: прошло немного больше года, вышло четырнадцать или пятнадцать ежемесячников "УЖа" — и журнал был закрыт за формализм и "потворствование мещанским вкусам".
Что же до второго пророчества (никто за нами не пойдет, никого мы не вырастим!), то тут прорицатели оказались недальновидны. Из "УЖа" вышла целая плеяда оформителей-графиков: Каплан, Бондарович, Брискин и другие. "УЖ" открыл и направил на стезю журналистики несколько чудесных очеркистов — Александра Марьямова, Бородкина, того же Ковалева под десятком псевдонимов.
Но, главное, "УЖ" — с легкой, чертовски талантливой руки Майка — установил определенный эталон для очерка в украинской журналистике, определил уровень, ниже которого было неприлично писать. Качество очерка, его занимательность стали непременным и первым условием публикации. "УЖ" сделал своим лозунгом фразу: "Нет в мире такой вещи, о которой нельзя было бы рассказать интересно". Этот лозунг печатался не только на первой странице журнала, но и на редакционных бланках, как зачин каждого текста, который выходил из-под пера редакционных работников. Даже письмо к фининспектору, скажем, в ответ на его предложение внести налог, выглядело примерно так:
"Уважаемый товарищ! Нет в мире такой вещи, о которой нельзя было бы рассказать интересно, поэтому Вам необходимо подписаться на "Універсальний журнал", который и рассказывает обо всем на свете самым интересным образом. Что же касается Вашего предложения внести налог за прошедший год, то редакция сообщает, что оплата будет произведена в срок, указанный законом, с использованием всего, предоставленного законом, льготного времени. Желаем Вам здоровья и успеха в делах, сердечно приветствуем Ваших родных и друзей. Редактор…. Ответственный секретарь…".
И тому подобное.
Майк Йогансен выдвинул такой эталон квалификации очеркиста: каждый должен написать захватывающее "Путешествие вокруг собственной комнаты" и книгу о спичечном коробке. Сам Майк, конечно, ленился описывать путешествие по комнате и сочинять книгу о спичечном коробке, но за стаканом чая, в хорошем настроении, и в самом деле увлекательно "водил" нас по своей комнате (география, история, технология, общественная роль каждой вещи: мебели, утвари, одежды, книг и т. п.) и в самом деле мог до поздней ночи неутомимо рассказывать о коробке спичек или о пачке папирос (растительное сырье, производство, социальные взаимоотношения). И молодые авторы "УЖа" охотно прислушивались к его советам, а сам Майк во всех своих многочисленных очерках о путешествиях по колхозам или заводам и новостройкам, а не то и просто об охоте, был вереи себе и своему блестящему таланту.
Кто знает мой роман "Сорок восемь часов", тот догадается, что и эта книга была своеобразным экзаменом, который я сдавал Майку по всем жанрам журналистики.
"Літературний ярмарок" закрыли, должно быть, одновременно с "УЖом": уходила бесшабашная пора "литературного молодечества", хмельная пора "ярмарки искусств". Было это, очевидно, на исходе двадцать девятого года. Существовать вне организации становилось совсем невозможно: удары критики по литературным "единоличникам" были слишком чувствительны, да и издательства фактически не принимали рукописей от "диких", неорганизованных писателей. Надо было либо бросать литературу вовсе (кое-кто так и поступил), либо доказать, кто же ты такой: "свой", "союзник", "попутчик" или, не дай боже, — "враг"?
"Своими" признавались лишь члены ВУСППа и "Молодняка", "союзниками" — только "плужане". Как удержаться хотя бы на уровне "попутчиков"?
В ту пору судьба литературного произведения нередко определялась принадлежностью его творца к той или иной литературной организации. Неудачную, слабую вещь вуспповца, разумеется, критиковали, но доброжелательно: указывали на ошибки и промахи, советовали, как их выправить, — словом, как дотянуть вещь до пристойного, удобочитаемого вида. Произведения невуспповцев изничтожались не прощавшей и малейшей ошибки и не всегда объективной критикой.
"Куда деваться?" спрашивали себя бывшие ваплитовцы, футуристы Семенко, спиралисты Полищука, разные "ланковцы" и "марсовцы", а также молодежь, выраставшая вне организаций, "диким" способом.
Хвылевый и Кулиш снова активизировались и решили создать антагонистическую ВУСППу организацию "Про-літфронт", — туда вошли, в основном, бывшие ваплитовцы, кое-кто из "Молодняка", "дикие" одиночки. Семенко сколотил из "Аспаифута" и "Комункульта" пассивно-антагонистическую ВУСППу "Нову генерацію". Полищук с Черновым и Троянкер основали "Авангард" — антагонистический и ВУСППу, и "Пролітфронту", и "Новій генерації".
Что было делать нам — маленькой кучке бывших ваплитовцев, которые отвергли "Вапліте" и которых ничуть не прельщало снова соваться в драку между Хвылевым и Микитенко, между Кулишом и Куликом?
Вспоминаю, мы сидели в нашем любимом кафе "Пок", пили кофе с гаспаронами и грустили: Майк, Олекса Слисаренко, Левко Ковалев и я. В глубине комнаты, за своим постоянным столиком, сидел Семенко, курил трубку и что-то писал: штаб семенковской организации и редакция журнала "Нова генерація" тут и помещались — в кофейне "Пок", за столиком в глубине комнаты.
Майк сказал:
— О "Пролітфронте" не может быть и речи: я очень люблю и Гуровича и Григоровича — это настоящие писатели, но надо смотреть правде в глаза: Хвилевий носит-таки в кармане националистическую дулю. Зачем это нам нужно? Опять "Вапліте"? Донкихотствовать, а потом снова каяться! Зачем это нам нужно? Сказка про белого бычка…
Олекса презрительно скривил свои пижонские усики.
— Я не стану объясняться в любви к Гуровичу и Григоровичу, но, безусловно, творческая правда именно на их стороне, хотя они и обзывают меня "черным ангелом". Но к идеологической правде все-таки ближе Микитенко и Кириленко, хотя они мне и глубоко несимпатичны.
Мы с Левко молчали. Левко потому, что вообще равнодушно относился к нашим литературным перипетиям. Я вспоминал вчерашний вечер; с него-то и начался наш разговор.
Вчера вечером ко мне приходили Хвылевый с Фельдманом — уговаривали войти в "Пролітфронт". Я сидел и переводил какую-то пьесу Левитиной (Софиевой), кажется, "Эта", — и Хвылевый с этого и начал, возмущенно всплеснув руками: глядите, писатель Смолич, чтоб заработать на хлеб, вынужден переводить халтуру. Софиева работала тогда инспектором Главполитпросвета и прославилась двумя предложениями: в повести Коцюбинского "Фата-моргана" заменить название на "общепонятное" и запретить издание брошюры о внематочной беременности — на том основании, что, во-первых, этого быть не может, а во-вторых, таким образом… подтверждается непорочное зачатие… Говорить же со мной Хвылевый с Фельдманом пришли потому, что Майк уже объявил о своем несогласии идти в "Пролітфронт", и теперь Хвылевый уговаривал меня убедить Майка и всю нашу пятерку, а также и других сгруппировавшихся вокруг "УЖа" писателей вступить в "Пролітфронт": за нами шло все-таки человек двадцать литераторов. Если бы все мы вошли в "Пролітфронт", то и численно и творчески значительно превысили бы ВУСПП. Словом, мы — пятерка бывших ваплитовцев — оказались той гирькой на весах, которая могла склонить чашу на ту или иную сторону: в той ситуации вуспповцы, совершенно очевидно, тоже с радостью приняли бы нас и всех, кто за нами шел, чтоб получить перевес над "Пролітфронтом"… Я ответил Хвылевому отрицательно, по он просил еще подумать и посоветоваться с товарищами. Вот мы сидели и советовались. Наши "ряды" уже потерпели "урон": Вражлывый и Шовкопляс решили идти в "Про-літфропт".
Левко наконец тоже подал голос — иронически:
— Правда творческая, правда идейная! Разве можно их разделять? Сейчас еще заведете о "правде" внеклассовой? О "чистом" искусстве. Нет, не марксисты вы, хлопцы, никак не марксисты!.. Ай-яй-яй!
— Я — агроном и поручик военного времени, — фыркнул в усы Олекса. — Майк — магистр филологии; вы, Левко, — знаменитый химик. Юра… а вы кто такой, Юра?
— Я — гимназист, абитуриент, студент, санитар сыпнотифозного барака, начальник фронтового морга, актер погорелого театра, инспектор Наркомпроса, редактор журналов "Сільський театр" и "УЖ", а также…
— Не много ли титулов для тридцатилетнего человека? — прервал меня Майк. — И потом ты забыл, что прежде всего ты — писатель… Скажи лучше: куда нам податься?
— К Микитенко я не пойду, — сказал Слисаренко. — Хвилевого и Кулиша он критикует правильно, но сам жесток и нетерпим…
— Идите со мной! — крикнул Семенко, не вынимая трубки изо рта и не отрываясь от передовой, которую он писал для своей "Нової генерації": он слышал наш разговор. — Обмундирования не обещаю, но сыты будете.
— Иди ты, Михайль, знаешь куда? — бросил Олекса. — Мало я с тобой глупостей натворил!
Левко иронически улыбался:
— И чего вы ерепенитесь, хлопцы? Ведь вы же — украинцы, хохлы. И отлично понимаете, что хохлы не могут без атаманщины.
— Дурак! — слово "дурак" было у Семенко непременным полемическим аргументом.
— Был бы ты сам умный, так не писал бы стихов, а пошел бы в дворники.
— За рифмы дураки гонорар платят, а дворнику работать надо.
Семенко оставил свой столик и подошел к нашему:
— Я серьезно говорю, хлопцы: идите ко мне. Мы тогда сразу положим на обе лопатки и Хвылевого и Микитенко…
— А мы никого не собираемся класть на лопатки, — сказал Слисаренко, — и в цирке не имеем намерения выступать.
Левко улыбался все так же иронически:
— Я начинаю вас, хлопцы, уважать: узнал наконец нам цену! Вы, оказывается, кое-что значите: каждый вас та шит к себе — к кому вы примкнете, тот и одержит верх! Решающая сила в литературных междоусобицах!
Слисаренко снова фыркнул себе в усы:
— Нам бы самим как-нибудь на ногах удержаться!..
— Дураки вы, как я на вас погляжу, — незлобиво сказал Семенко, — а я думал, вы тоже футуристы. Адью!..
Майк удержал его за руку:
— Ты хороший хлопец, Семенко, хотя ты такой же Михайль, как и я Майк. Оба мы с тобой, когда начинали, были остолопами! Но этим исчерпывается сходство между нами. Я действительно футурист, потому что я — за литературу будущего и верю в будущее литературы. Какая она будет, этого я не знаю, но не такая, как сейчас, это я знаю. Может быть, произойдет этакая, что ли, диффузия с наукой или техникой или с другими искусствами… — Майк говорил все медленнее, и взгляд его становился каким-то отсутствующим, нездешним. Это означало, что какая-то мысль овладевала Майком, пока он машинально кончал начатую фразу. — А ты со своей деструкцией разве футурист? Ведь ты литературу и искусство везешь в катафалке на кладбище!
— Так это ж — для дураков! — пожал плечами Семенко. — Дураков надо смешить и дразнить.
— Вот видишь! А я не дурак. Как и ты не футурист. Не футурист ты, а плюсквамперфектум! Давно прошедшее! Куда ж это "к тебе" идти? На кладбище?
— Ну ладно, я к вам пойду: создайте какую-нибудь организацию. Да вместе мы…
— На что ты нам сдался?
— Дураки! — наконец обиделся Семенко и пошел к своему столику-редакции.
Майк хохотал. Потом хлопнул ладонью по столу.
— А Михайль-таки молодец: подсказал верную мысль! — Майк заволновался и заговорил быстро, захлебываясь, как всегда, когда его захватывала какая-нибудь идея. — Мы, хлопцы, создадим-таки собственную организацию. Вот и не надо будет ломать голову, куда и к кому идти! А? Здорово? Без Михайля, конечно. А? Ха-ха-ха.
Майк довольно потирал руки.
— Что ж это будет за организация? — скептически полюбопытствовал Слисаренко. — Опять двадцать пять…
— Техно-художественная!.. А какая именно, это я тебе завтра скажу, если сегодня вечером Левко будет свободен и мы с ним часок поболтаем за шахматами. Ты свободен вечером, Левко?
— Я никогда не бываю свободен, жизнь человеческая слишком коротка, но ты все равно заходишь и укорачиваешь мой век. Приходи, конечно, от семи до восьми.
Левко был человек пунктуальный. Точный и пунктуальный во всем. Кроме того, он не курил, не пил водки, не подавал никому руки ("Рукопожатие — преступление" висела надпись над его столом в редакции, а напротив на стене — в многократном увеличении — фотография ладони и на ней в кружке микроскопа разные бактерии и микробы). Левко был членом "Лиги времени", общества НОТ (Научная организация труда).
— Вот и чудесно! — сказал Майк. — Значит, от семи до восьми, а потом часиков в девять я зайду к тебе, Олекса, и мы с тобой напишем декларацию и программу нашей техно-художественной организации. Хе-хе-хе!
Майк всегда, когда был чем-нибудь доволен, нарочито потирал руки и смеялся искусственным смехом.
Часов в десять в тот же вечер Майк уже звонил мне:
— Я звоню от Олексы. У него есть вишневое варенье. Сейчас и Ловко сюда придет — будем пить чай, и мы с Олексой прочитаем вам платформу и декларацию нашей "Техно-художественной группы А".
— Как-как?
— "Техно-художественная группа А".
— А почему же "а"?
— Потому что дальше будут "б", "в", "г", "д" — и до конца алфавита: творческие бригады единомышленников — художников и людей науки. — Майк был уже весь захвачен очередной идеей. — Иди же скорей, пока чай и декларация не остыли!..
Я почти со стенографической точностью запомнил и передаю нашу беседу в кафе "Пок" и по телефону, но совершенно не могу сейчас припомнить нашей платформы и декларации, которые тогда же, на следующий день, были опубликованы в печати. Комплектов старых газет тоже нет под рукой — и я воздержусь от подробной передачи содержания утих забытых литературных "документов". Помню только, что и платформа и декларация мне понравились и я присоединился к ним: я тогда как раз писал научно-фантастические романы и "техно-художественный" принцип организации, объединение в ней творческих людей разных профессий, широкое знакомство с людьми науки и техники и самая идея сближения художественной литературы с наукой — все это в первую очередь прокламированное в декларации, — мне сразу пришлись по душе.
Вот так, собственно, и возникла "Техно-художественная группа А".
Ее первые члены-основатели, вспоминаю: Йогансен, Слисаренко, Павло Иванов, Смолич, Марьямов — писатели; Диннерштейн — инженер-электрик; Светник — врач-психиатр; Дубинин — начальник радиостанции; Мизерницкий — нарком труда; Юрий Платонов — географ и литератор; Меллер — театральный художник; Брискин — художник-график; Ковалев — самый "показательный" член техно-художественной организации: химик, полиграфист, литератор, шахматист, затейник — это в настоящее время, а в прошлом — еще полтора десятка профессий по совместительству.
Должны были войти в нашу "Группу А" еще два-три врача разных профилей, два-три инженера тоже разных уклонов, педагог Соколянский, режиссеры Курбас и Довженко, еще кто-то.
Не должно было только быть никого из музыкантов: Майк ненавидел музыку. Собственно, он не мог ее переносить: грустная ли она была или веселая, она вызывала у Майка слезы, — это было странное патологическое явление.
Через два или три дня мы — Ковалев, Майк, Слисаренко и я — пошли на прием к наркому просвещения Скрыппику — получить "благословение" на новую организацию. В Наркомиросе встретили Сашка Довженко, и он тоже пошел с нами.
Скрынник встретил нас приветливо, однако приветливость его сразу пропала, когда он увидел среди нас Левка: оказывается, еще во время гражданской войны по какому-то политическому поводу они рассорились, и Скрыпник этого не забыл. Беседуя с нами, расспрашивая каждого о его творческих планах и всех вместе — о планах новорожденной организации, Скрыпник сразу начинал кашлять (так проявлялось у него неудовольствие), как только заговаривал Ковалев. В конце концов Левко решил лучше вообще молчать, чтоб не испортить нашего знакомства с наркомом.
В "Пролітфронті" неожиданное возникновение "Группы А" вызвало гнев. Особенно разъярится Хвылевый. С издевкой говорил он каждому из нас при встрече:
— Кто сказал "а", тот скажет и "б"…
Понимать это следовало так: создание нашей организации — измена, мы отошли от братства бывших ваплитовцев и теперь, по логике вещей, должны перекинуться в стан противника, вуспповцев, и вообще — отныне мы способны на что угодно.
Впрочем, в жизни наши отношения с бывшими ваплитовцами, а ныне пролитфронтовцами, оставались самыми лучшими. Я с Хвылевым вместе ходил на каток, Майк ездил с Вишней на охоту, а Олекса забегал к Порфишке с Копыленко — сыграть на бильярде и опрокинуть рюмочку.
Собирались члены "Группы А" раз в месяц — чаще всего у меня или у Слисаренко. На стол ставился огромный чайник — пили чай и решали гуртом все наши внутриорганизационные дела. Никакого правления или президиума у нас не было. Для "руководства", как мы говорили, а фактически для ведения разных канцелярских дел, которые возникали сами собой (ВУСПП присылал нам официальные бумажки — кто мы и кого признаем, представителю нашей организации надо было заполнять разные анкеты или еще что-нибудь), мы наняли секретаря, девчонку семнадцати лет, ничего не умевшую, и каждый из нас, по возможности, обучал ее то тому, то другому. Председателя или президента "Группа А" тоже не имела — просто было известно, что существуют, так сказать, "лидеры" организации: Майк, Олекса и Левко. Для выступления с приветствием на пленуме ВУСППа, который как раз проходил в то время, был отряжен я, как фигура наименее "одиозная" среди литераторов "Группы А".
Что делала "Группа А"?
Прежде всего мы решили вместо своего журнала или альманаха, какой непременно начинала выпускать каждая новая литературная организация, издавать произведения членов группы одной серией. У серии было особое полиграфическое оформление — максимально простое: мягкая обложка неяркого тона "кофе с молоком" и на ней синяя доска. На доске (как на табели в учреждении или на заводе) напечатаны бляшки-номерки: А1, А2, А3, А4… и так далее — по количеству членов организации на день выхода книжки. На обороте обложки расшифровка: каждому рабочему номеру соответствует фамилия члена "Группы А". Я, кажется, был А8. Номера разыгрывались, тащили билетики из кепки Майка Йогансена. Один из номерков на доске всегда должен был быть снят — это номерок, отвечающий фамилии автора данной книжки. На доске этот номерок отсутствует, но вывешен на обложке вверху — там, где обычно печатается фамилия автора. Этой абракадаброй мы, так сказать, демонстрировали "производственный", коллективистический принцип организации нашей группы — вроде бригады на производстве. Придумал это, конечно, Майк.
Мы подготовили с полдесятка таких книжек, но "Группа А" просуществовала недолго и выйти, кажется, успели только две: Марьямова — "Право на литературу" и моя (А8) — научно-фантастический роман "Четвертая причина". С этой книгой произошел конфуз: я сам, ее автор, вынужден был подать заявление в Главлит с просьбой книжку "изъять". Дело в том, что в это же время в этом же издательстве (ЛІМ) выходил альманах с отрывками из разных произведений (очень красочно оформленный, помню, Петрицким) к какой-то дате. Составителем альманаха был как раз редактор книги "Четвертая причина" (Клебанов), — он взял из книги одну главу для альманаха, но… забыл ее потом положить обратно в рукопись. Рукопись так и набрали, а затем так и напечатали. А глава была основная, в ней раскрывалась тайна технического открытия, о котором шла речь в романе (ультразвук), и без этой главы повествование становилось просто бессмыслицей. Книжку по моему заявлению изъяли — так по крайней мере было мне сообщено. Но через несколько лет я приобрел эту книжку на базаре: часть тиража все-таки попала в продажу. Очень это было мне обидно: роман был скомпрометирован, и я его, естественно, не переиздавал.
Основным в деятельности "Группы А" была установка на "качество продукции" (idee fixe Майка); наряду с этим — направленность всего творчества на проблемы сегодняшнего дня, на современную тему. Можно теперь иронизировать над наивностью "платформ" тогдашних литературных организаций, и в частности нашей "Группы А", однако же эти две основные установки "Группы А", как видим, совершенно современны, злободневны даже сегодня, через несколько десятков лет. Важным принципом деятельности была непременная связь каждого литератора "Группы А" с кем-нибудь из научных работников творчески близкой для него темы и с производством подходящего профиля. Я был связан с велозаводом: работая внештатным общественным сотрудником заводской многотиражки, два дня в неделю сидел в редакции, писал фельетоны, правил заметки, принимал рабкоров. То было время "призыва ударников в литературу", и по велозаводу "призывались" Нагнибеда и Деменко. В соответствии с тематическими комплексами, которые интересовали меня в период работы над книгами, я частенько заглядывал также на Турбогенераторный завод, на ХПЗ, ХТЗ и в мастерские Технологического института, а кроме того, в Институт переливания крови (проф. Бельц) и клиники Мединститута (проф. Шамов).
Связь с определенным производством и с каким-нибудь из научных учреждений была у каждого из членов "Группы А". Майк увлекся разведкой нефти, уехал на несколько месяцев на Эмбу, и в результате появилась лучшая из очерковых книг Майка Иогансена — "Кос-Чагил на Эмбе". Марьямов пристрастился к аэронавтике и летал куда только было возможно — по стране или за ее границы, каждый раз выступая затем с талантливыми путевыми очерками. Олекса Слисаренко, в соответствии со своей второй профессией (агроном), был самым тесным образом связан с академиком Юрьевым и профессором Соколовским. В результате — роман под названием "Хлеб", если не ошибаюсь.
История создания этого романа курьезна: Олекса написал его "на пари" с Мишком Яловым (Юлиан Шпол), который был тогда главным редактором издательства "ЛІМ". Как-то за чашкой кофе в кафе "Пок" Мишко сказал, что ему, редактору, до зарезу нужен роман о хлеборобах и организации колхозного производства хлеба. Олекса, как всегда иронически кривя губу со своими пижонскими усиками, сказал, что такой роман он может написать за месяц, если издательство заплатит ему двойной гонорар. Мишко поймал его на слове, сразу повел в издательство и подписал договор: роман в десять листов, сдать через месяц, гонорар — двести процентов. Через месяц Олекса принес и торжественно положил на стол главного редактора издательства Мишка Ялового рукопись в десять печатных листов. Мишко немедленно выписал весь гонорар, и мы всем скопом отправились к "Поку" — пить кофе за Олексин счет. За кофе, все так же иронически кривя губу с пижонскими усиками, Олекса признался: роман он уже писал полгода и, заканчивая его, не знал, куда с ним идти, а тут и подвернулся Яловый со своим предложением. И все подняли Мишка на смех: как, мол, Олексе удалось обвести его вокруг пальца.
Мишко тоже посмеивался, а потом сказал:
— Эх вы, дурошлепы! Ну зачем ты это все рассказываешь? Не даешь доброго дела сделать — поддержать писателя в его работе! И же знал, что у тебя роман готов — мне Майк говорил…
— Ух, ты — благодетель, социалистический филантроп! — смутился Олекса.
— Не такой уж филантроп: об интересах своего издательства пекусь. Таким же порядком я уже несколько договоров заключил — и буду иметь книжки. Конечно, с халтурщиком договора не подпишу, с бездарью — тоже. Подписал с тобой потому, что знаю, что ты уважаешь и читателя, и себя, и халтуры мне ис сдашь…
Олекса, пристыженный, умолк. Не возвращать же ему двойной гонорар! Роман был напечатан — один из первых "производственных" романов: тогда этот "жанр" еще только зачинался, был идейной задачей и художественной проблемой и еще не скомпрометировал себя так, как некоторые произведения подобного рода в наши дни.
Вообще, то была пора зарождения "производственного уклона" в литературе и искусстве — как ответ на выдвинутые первой пятилеткой планы индустриализации страны и социалистического переустройства народного хозяйства. Было в этом "уклоне" и кое-что от давнего народнического "хождения в парод". Поэт Квитко и прозаик Сенченко пошли работать слесарями на XП3 (позднее Сенченко работал еще на заводе в Луганске — и появился его роман "Металлисты"). Кость Гордиенко уехал в деревню жить, работать, создавать колхоз; его повести хорошо известны современному читателю. Поэт Иван Шевченко тоже уехал на село, да так и не вернулся в литературу. Что же касается вуспповцев и пролитфронтовцев, их в то время зачастую можно было встретить на самых разных фабриках и заводах: они как раз проводили "призыв ударников в литературу" — в порядке конкуренции, разумеется, каждый в свою организацию. Борьба за первенство, за главенство, а точнее, ссоры и свары были доминирующей чертой этих "господствующих" в то время литературных организаций.
Теперь в истории литературы упоминается иногда в двух словах, а чаще и вовсе не упоминается "Техно-художественная группа А". Игнорируется из самого обыкновенного литературного снобизма: "Группа А", мол, формация "низшего" порядка, поскольку она была не "чисто литературной", а "смешанной", культурнической. А между тем идеи творческого содружества литераторов и художников с людьми науки — эти идеи живы и до сих пор, осуществляются на практике многими литераторами в их творческой работе (авторы научно-фантастических произведений, авторы тех же "производственных" романов и другие), и я бы не сказал, что они себя скомпрометировали. Художественные идеи Майка, кое в чем схожие с идеями русских конструктивистов, не были абстрактны и в этот период ни в коей мере не формалистичны, обвинения в формализме были приклеены механически, "по привычке", и на этот раз совершенно безосновательно, напостовской групповой критикой в пылу междугрупповой борьбы. Идеи Майка, да и его "выдумки" были лишь поисками ответа — живого, конкретного ответа на те вопросы, которые ставила перед литературой сама жизнь. Разумеется, поиски эти соответствовали индивидуальности Майка, шли в его стиле и ключе, своеобразные и оригинальные, и никак не подходили под скучный шаблон средних литературных критериев того времени, а в особенности — под трафареты, которые напостовские догматики признавали безгрешными. Крамолой в них и не пахло.
Другое дело, что к "техно-художественным" идеям привели Майка, а следом за ним и нас всех, не одни творческие искания, но и некая, не слишком похвальная обывательская позиция: желание уклониться от процессов, которые свершались в то время на литературном фронте, отгородиться от войны между ВУСППом и "Пролітфронтом", а тем самым и от обязанности приложить и свои силы к борьбе за чистоту идеологии и идейность художественного творчества.
При всем том был Йогансен по-детски чист и наивен: случается, что крупный талант, большой эрудит остается вместе с тем душевным простаком, вернее — несколько инфантильным. Майку мешало (а иногда, наоборот, украшало его!) не всегда серьезное, даже легкомысленное отношение ко всему — и малому и большому. Он панически боялся боли, но легко переносил ее, когда она приходила, пугался трудностей, но, встречаясь с ними, даже не замечал их, они были для Майка трын-трава. Он много знал, на диво много, по мог быть профаном в какой-нибудь общеизвестной пустяковине — что-то всегда выпадало из его поля зрения. Вопросы идейности он воспринимал тоже своеобразно — беспечно, пожимая плечами: он наивно верил, что у нас, в нашей стране, если уж произошла революция и строится социализм и коммунизм, то идейные стремления и намерения у всех могут быть только хорошие, положительные, направленные на поиски лучших путей к социализму и коммунизму, — путей непременно наилучших, то есть высококачественных, художественно совершенных. Качество — качество! — это была страсть Майка, и отсюда шли его поиски, выдумки, затеи, даже штукарство, а от них — заблуждения, ошибки, промахи.
Недолга была творческая жизнь Майка — каких-нибудь пятнадцать лет, и оставил он после себя не так уж много — из-за своей неусидчивости и разбросанности, но он горел — всегда горел в творческом экстазе.
Я вспоминаю размышления Майка о влюбленности и любви… Высказывал их Майк в период своего "женоненавистничества". Майк говорил: если б женщина была наделена объективным умом и способностью к анализу, она бы понимала, что восторженная влюбленность первых месяцев не может сохраниться на всю жизнь, она бы ценила, что легкое, поверхностное чувство влюбленности перешло в глубокое, сильное, однако более спокойно выражаемое чувство — любовь. А женщинам кажется, что это уже конец любви, потому что для них главное значение имеют волнения влюбленности, любовная игра, а не любовь. В таком волнении творческой влюбленности и прожил Майк пятнадцать лет своей творческой жизни. А спокойная творческая любовь не успела к нему прийти, потому что был Майк еще молод душой, чрезвычайно молод, и по-молодому любил свой литературный дар. А превыше всего — и так же молодо, горячо, нетерпеливо и жадно — любил Майк природу: деревья, травы, цветы, насекомых, птиц, животных. Любил туман над речкой на рассвете, до зари; росные луга в искристом сиянии мириадов капелек-алмазов; замерший в тишине зимний лес; буйный ветер, что гонит паровозным дымом тучи по кебу… Любовь к природе не была, однако, у Майка поповской или вегетарианской, нет — он был охотник и полжизни отдал охоте. Стрелял уток, куропаток, перепелов, вальдшнепов, гусей, даже дроф — в Прикаспии; охотился на зайцев, лис и волков. Мечтал встретиться с медведем. Не успел.
Я бывал с Майком на охоте — то была чистая, полная радость бытия; я играл с Майком на бильярде, вместе "болел" футболом, вместе развлекался и дурил — с Майком это было особенно приятно и весело; я вел с Майком долгие, серьезные беседы — обо всем, и казалось, что пьешь из чистого, прозрачного родника; я носился с ним по просторам географических карт — это было у нас с ним любимое времяпрепровождение; я был вместе с Майком в литературе и горд этим.
Дорога мне память о нем…
Назад: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ "МЕЦЕНАТЫ"
Дальше: Довженко

