Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))
Назад: "Вапліте" и я
Дальше: Йогансен
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ
"МЕЦЕНАТЫ"
Воспоминания о литературной жизни двадцатых и начала тридцатых годов не могут быть полнокровны, если не упомянуть об этой троице: Постоловский — Лифшиц — Фурер.
Чаще всего о них так и говорили — не разделяя, именуя в таких случаях "святой троицей", "триумвиратом" или же "мозговым трестом". А врозь существовали они попросту как Фуся (Фурер), Боба (Лифшиц) и лишь третий — Постоловский — назывался по фамилии.
А говорили о них так потому, что были они, трое, неразлучные друзья, и всюду — на улице, в театре, в Доме Блакитного — появлялись непременно вместе; и еще потому, что в совокупности они составляли как бы представительную триаду: партия — рабочий класс — крестьянство. Потому что Постоловский заведовал сектором литературы и искусства в ЦК партии, Боба (Борис Лифшиц) был редактором "Робітничої газети "Пролетар", а Фуся Фурер редактировал газету "Радянське село" и стоял во главе всех других специальных изданий для деревни, сосредоточенных вокруг этой газеты с астрономическим по тем временам тиражом не то в 500, не то в 600 тысяч.
Прозывали эту "святую троицу" еще "Могучей кучкой". И в самом деле, не было, пожалуй, среди культурных начинаний такого, которое не могли бы осуществить эти трое, собственно, организации, которые они возглавляли и представляли. На идеологическую работу в деревне партия в те годы обращала особенное внимание, а роль культотдела профсоюзов, издававшего "Робітничу газету "Пролетар", в организации культурной жизни страны была тогда огромная. На участке литературы это и персонифицировалось для нас в лице Постоловского, Фурера и Лифшица. Надо было начать издание новой газеты — организовывать ее поручали либо Лифшицу, либо Фуреру, в зависимости от того, для города или для деревни она предназначалась; возникала в какой-нибудь литературной группе идея издавать свой журнал или альманах — это брали на себя Фурер или Лифшиц; готовилась выставка у художников или скульпторов — Лифшиц и Фурер были ее покровителями; создавался где-нибудь новый театр — и тут не могло обойтись без Фурера и Лифшица. Впрочем, у каждого из них был еще и свой, "собственный", так сказать "ведомственный" театр: у культотдела профсоюзов — "Веселый пролетарий", у издательства "Радянське село" — передвижная группа "Веселые книгоноши" (название, кстати, по первому спектаклю-антрэ на мой текст). Постоловский в Центральном Комитете партии объединял эти две области — работу среди пролетариата и среди крестьянства в сфере искусства и связывал воедино оба направления деятельности на культурном фронте.
Слово "меценат" в словарях объясняется так: "по имени римского богача Меценаса, жившего в I в. до нашей эры и прославившегося широким покровительством поэтам и художникам, — так называют богатых покровителей наук и искусств". В наше время в стране социализма это слово почти исчезло, потому что ушли в небытие денежные покровители типа Саввы Морозова в России или Алчевских и Семиренок на Украине. Однако в те — двадцатые и тридцатые — годы слово это еще жило, только, понятное дело, совсем изменив свое содержание: финансовым покровителем науки и искусства стало само государство либо общественность, а к меценатам-одиночкам перешло "духовное покровительство": они стали основателями и организаторами разных культурно-художественных начинаний. Таков был Луначарский в России и, верно, еще десятки других, мне неизвестных; таков был Блакитный на Украине, а потом, после его смерти, в какой-то мере заменил его этот триумвират: Постоловский, Лифшиц, Фурер.
Борис Лифшиц возник в нашей литературной среде еще при жизни Блакитного: он возглавлял киевское отделение "Гарта". Фуся Фурер явился немного позднее — из Черкасс, где он редактировал местную газету. К моменту переезда Лифшица в Харьков и появления на горизонте Фурера и Постоловского из бывшего при Блакитном животворного центра — "Вістей" — литературный парод понемногу разбежался. "Селянська правда", с Сергеем Владимировичем Пилипенко во главе, слишком уж "оплужанилась", превратившись, действительно, в "червону просвіту". И к доброжелательным, компанейским, а главное — по-настоящему передовым в вопросах культуры и уж вовсе не догматикам Фуреру и Лифшицу сразу потянулись все "дикие" или состоявшие в "попутнических" организациях литераторы.
Да и территориально Боба с Фусей помещались чрезвычайно удобно — в пределах так называемой "литературной ярмарки": монументальный особняк "Радянського села" стоял по одну сторону Театральной площади, "Робітнича газета "Пролетар" со всеми своими журналами надстроила два этажа на здании газеты "Вісті" — по другую сторону площади. Тут же, под "Вістями", помещался местком писателей — единственная в то время профессиональная организация, объединявшая всех писателей. Тут же были все ВУСППовские организации, а позднее — с тридцать второго года — Оргкомитет ССПУ.
Кроме того, что греха таить, — под "Вістями" в подвале была бильярдная и забегаловка Порфишки, а по другую сторону — армянский винный погребок, и сразу же за театром "Березіль" — кафе "Пок": места отдохновения литераторских душ.
Но вернемся к триумвирату.
Прежде всего хочется описать эту памятную в истории украинской советской культурной жизни троицу с внешней стороны.
Постоловский был великан, пожалуй, самый высокий человек на всей Украине. Но был он не какая-нибудь там долговязая каланча, а пропорционально сложенный, статный и широкий в плечах. Как все богатыри, люди исключительной физической силы, он отличался на диво мягким и добродушным характером, — как раз о таких и говорят: "мухи не обидит" или "хоть к ране прикладывай". Кротость и добродушие были написаны и на лице — простоватом, с русыми, по-казацки вниз, усами. Он очень стеснялся своего огромного роста и страшной физической силы и потому сутулился, ходил, наклонив голову, словно намереваясь пройти в низенькую дверь: а здороваясь, касался вашей руки самыми кончиками пальцев и поскорее отпускал, боясь ненароком сжать и раздавить вашу кисть. Ботинки Постоловский носил пятьдесят второго номера, а поскольку фабрики таких не выпускали, вынужден был делать их на заказ.
Боба Лифшиц, наоборот, был лишь немногим больше среднего лилипута. Постоловскому он доставал чуть выше пояса. Это, однако, нисколько не мешало им ходить всегда вместе, хотя на улицах за ними бегали мальчишки и дразнили Патом и Паташоном. Внешность у Бобы была очень приятная — тонкое, с изящными чертами, как говорится, "интеллектуальное" лицо, смуглый, всегда чисто выбритый и аккуратно подстриженный, тщательно и элегантно одетый. Двигался он очень быстро — живой, ловкий, порывистый, хотя и несколько меланхолического склада. Всем товарищам и вообще каждому, кто попадался на его пути, Боба жаждал сделать что-нибудь приятное — чем-нибудь порадовать или в чем-нибудь помочь. Поэтому за глаза Бобу прозывали еще и "христосиком".
Фуся Фурер был на редкость красив и мужествен. Высокого роста (конечно, ниже Постоловского на голову!), стройный, сложенный, как Аполлон, с осанкой тренированного спортсмена, с величаво посаженной умной головой, черты лица точно изваяны резцом скульптора: красавец из тех, по которым сохнут горячие женские сердца. Но характером отнюдь не из тех, что гоняются за каждой юбкой. Внешне он был немного похож на Довженко — в пору молодости Сашка. Впрочем, и внутренне, душевно, тоже такого склада: благородный, вдумчивый, с чутким сердцем. Был к тому же Фурер блестящим, инициативным организатором, этим талантом прославил себя всюду, где и кем бы ни работал: редактором центральной крестьянской газеты, руководителем Окружкома в Донбассе, секретарем горкома партии в Москве.
Характерной чертой всех троих было еще и то, что все они по происхождению были не из селян, а горожане (что в те времена среди работников украинского культурного фронта случалось не часто), однако всеми своими корнями они связаны были с украинской и социальной, и культурной почвой — украинская культура была для них органична.
Постоловский был в наших литературно-художественных кругах, так сказать, представителем партии среди по преимуществу беспартийной в те времена художественной интеллигенции, и, что особенно ценно, он постоянно был "со своей массой", жил среди нее. Каждый день его можно было встретить в редакциях и издательствах, как и любого писателя или журналиста; каждый вечер — в каком-нибудь из многочисленных тогда в столице театров; не редкость было его увидеть и в тех местах, где литераторы, да и другие работники искусств, искали отдыха — в Доме Блакитного, в кофейне "Пок", даже в бильярдной у Порфишки. Потому и пользовался он заслуженным уважением и любовью своей "массы".
Меня с Постоловским связывало еще и "гимназическое братство": мы с ним два года учились в одной гимназии в Каменец-Подольске. И крепко подружились. Случилось это так. В Каменец-Подольскую гимназию я перевелся в первый класс из Глухова. Меня сразу стали дразнить из-за очков (очки я начал носить рано, с приготовительного класса). Не простая это гамма чувств — когда попадаешь в круг незнакомых тебе мальчишек, которые уже сплотились в определенную "корпорацию", а ты среди них чужак. И уже вовсе паршиво, когда тебя дразнят все — все против одного, дразнят безжалостно, едко и злобно. Больше всего донимал меня высоченный парень с последней парты — с "Камчатки", как тогда говорили; было ему лет тринадцать-четырнадцать, по и в этом возрасте он уже был выше усатых гимназистов старших классов. Я так разъярился, что — маленький, хилый и плюгавый — бросился на него и стал молотить что было силы. Парень стоял спокойно и ждал — мои кулачки мало его беспокоили. Когда я обессилел и бить его уже был не в состоянии, он размахнулся и ляпнул меня один раз по физиономии. То был удар страшной силы: я отлетел в один угол класса, а мои очки — в другой. Очки разлетелись вздребезги… Я, разумеется, не заплакал: заплакать — это означало бы опозорить себя перед всем классом навеки. Я только собрал осколки, положил их перед собой и сказал моему верзиле-обидчику:
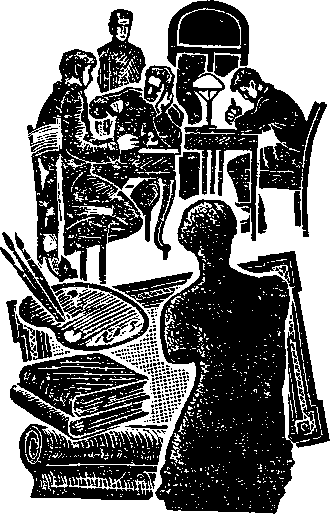
— У меня — астигматизм, ты, конечно, не понимаешь, что это значит, но у нас (то есть в тогдашней царской России) таких очков делать не умеют — их надо специально вытачивать, и отец выписывает мне очки из Германии от фирмы "Цейс". Теперь я долго не смогу ни читать, ни писать.
Что такое "астигматизм" парень, разумеется, не понял, именно поэтому мои слова устыдили и прямо-таки сразили его… С этого дня мы стали друзьями, и уже никто не только в классе, но и во всей гимназии не осмеливался меня дразнить, потому что ему пришлось бы иметь дело с самим Постоловским — самым сильным среди гимназистов. И — не одна и не две "постоловских" оплеухи прозвучали в стенах гимназии, пока всем стало известно, что я — под защитой Постоловского.
И вот встретились мы с Постоловским больше чем через двадцать лет: он успел уже с тех пор пройти большую школу труда и революционной закалки, став членом партии в семнадцать или восемнадцать лет. Я начинал свой путь в литературе.
А за разбитые очки — пусть чуть не через четверть века — Постоловский со мной рассчитался. Как-то вечером он позвонил мне по телефону:
— Слушай, — сказал он, — какой рецепт твоих астигматических очков?
— А что?
Несколько дней тому назад я как раз побывал у знаменитого окулиста — старика Бронштейна, он выписал мне новый рецепт на очки взамен старых, уже слишком слабых для моих глаз. Но в магазинах таких стекол не нашлось, и как-то при случае я рассказал об этом Постоловскому.
— А что? — спросил я его теперь. — Я уже заказал в институте Гиршмана: будут специально вытачивать.
— А мне ты не можешь дать этот рецепт? Завтра встретимся в Доме Блакитного.
— Ладно.
Я дал ему рецепт. И забыл об этом. Потому что через неделю или две мне в институте Гиршмана сделали новые очки, а Постоловского (как и Лифшица с Фурером) что-то долго, месяца два, не было видно.
Через два месяца они появились все трое, и при первой же встрече Постоловский положил передо мной на стол футляр с очками.
— Это твои, — сказал он, — те, что я тогда разбил…
На футляре была марка: "Цейс".
— Откуда ты их взял?
Постоловский только подмигнул.
Потом стало известно, что наша троица исчезала не случайно: они выполняли какое-то партийное задание за границей, должно быть в КПЗУ, случилось им побывать и в Германии.
Но я снова отклонился.
Боба Лифшиц был силен, разумеется, не личным своим "меценатством", сильна была организация, которую он представлял. Культотдел ВУСПСа (во главе его стоял в то время старый большевик Рабичев) тогда осуществлял повседневное и всестороннее руководство художественной самодеятельностью; существенно помогал и Главполитпросвету Наркомпроса управлять профессиональными художественными предприятиями и организациями, финансируя часть из них; принимал активное участие в разных художественных начинаниях — частых тогда диспутах, выставках, конференциях; организовывал выезды писателей на шахты и заводы и т. п.; развивал довольно широкую издательскую деятельность, имея в своем распоряжении два издательства: украинское — при "Робітничій газеті "Пролетар" и русское — "Пролетарий". "Пролетарий" издавал преимущественно книги, "Робітнича газета "Пролетар" — добрый десяток журналов: "Культробітник", "Декада", "УЖ", "Робітниця", "Нове мистецтво", "Музика — масам", "Роман-газета" и др.
Естественно, что такое количество периодических изданий собирало вокруг "Робітничої газета "Пролетар", да и самого Бориса Лифшица, значительные группы литераторов, "диких" и "попутчиков". И было в этом издательстве — в противовес засушенному уже Щупаком и Коряком ДВУ (там, кроме основной массы книг, издавались и "ведущие" толстые журналы, перешедшие из бывшего издательства "Червоний шлях"), — как-то особенно оживленно, даже весело. Это как раз Лившиц первым начал проводить широкие, открытые для нештатных сотрудников, совещания-летучки, а в коридоре у двери его кабинета каждый день появлялся свежий номер стенгазеты, посвященный "ляпам" в газете и журналах, под недвусмысленным заголовком "Только бить!".
У себя в кабинете Лифшиц поставил шахматный столик. Сам Боба в шахматы не играл, но считал, что шахматная доска в кабинете — это тоже один из путей привлечения авторов. И действительно, столик никогда не пустовал: всегда сидели возле него двое шахматистов в окружении трех-четырех болельщиков. Условие было такое: играть молча, своих чувств вслух не выражать, нецензурно не ругаться, — Боба в это время сидел за своим столом и правил столбцы очередного номера газеты. Проигравший обязан был писать передовицу для ближайшего номера: писание передовиц журналисты считают карой небесной.
Приемных дней у Бобы Лифшица не было: как некогда Блакитный, он принимал всегда и всех.
Когда же порой возникало какое-нибудь недоразумение, кого-то из литераторов несправедливо чернила критика, кого-то из "попутчиков" безосновательно обидели, какая-нибудь угроза нависала над одним из журналов или еще что-нибудь в этом роде — Боба надевал свой макинтош, звонил Фусе Фуреру, и они вдвоем отправлялись в редакции или по инстанциям — разбираться и помогать торжеству справедливости.
Были они принципиальные, твердые и смелые товарищи, "щедрые меценаты" — Лифшиц и Фурер.
Впрочем, смелость эта была в решении вопросов общественного порядка, в личной жизни Боба был не так уж храбр: он боялся собак, ночью предпочитал ходить компанией, всегда оглядывался на форточку — как бы не простудиться. Вспоминаю еще такой случай. Встречали мы Новый год, как всегда в Доме Блакитного. За одним из столов сидели Боба, Фуся, Вишня и знаменитый клоун и акробат Виталий Лазаренко — он был завсегдатаем Дома Блакитного, а с Вишней и Йогансеном, которые писали для него украинский репертуар, дружил. Виталий, конечно, не мог изменить своему клоунскому нраву и, когда пробило двенадцать, потихоньку вынул пугач и выстрелил под столом. Боба с перепугу упал в обморок.
Фуся Фурер был ничуть не "слабее" Бобы Лифшица. Газета его издавала не менее десятка разных журналов для села. Был он членом ЦК партии. Всегда выдвигал и проводил в жизнь какие-нибудь новые идеи: то это был выпуск нового журнала, то создание нового театра, то организация систематических постоянных выставок художников, то федерирование на советской платформе всех антагонистических литературных объединений и так далее — без конца. Изобретение чего-нибудь нового и осуществление его — это была Фусина страсть. И среди постоянных выдумок было немало действительно примечательного.
Вспоминаю, что, когда, уже значительно позднее, Фурер стал руководителем партийной организации в Горловке, он увлекся искоренением бывших "Собачеевок" и "Нахаловок". Не знаю, сохранилась ли до сих пор старая шахтерская лачуга-землянка на Собачеевке, оставленная Фурером под стеклянным колпаком?
Постоловский, Фурер, Лифшиц — они яркими метеорами прочертили наш литературный небосвод в конце двадцатых — начале тридцатых годов.
Понятное дело, они были не единственные "меценаты" в тогдашней украинской культурно-художественной жизни. В издательстве "Книгоспілка", которое наряду С ДВУ выпускало, пожалуй, лучшие по тому времени издания современной и классической украинской литературы, а также переводы на украинский с иностранных языков, рядом с главным редактором Слисаренко действовал член правления "меценат" Радлов, покровитель начинающих украинских писателей. В издательстве "Рух", осуществлявшем довольно большую программу театральных (преимущественно драматургических) изданий, где выходило много книг "попутчиков", действовали "меценаты" Березинский, Лызановский и Совз-Правда. А в театральной жизни? Директора банков, Полоцкий и Кудря, которые в помощь государственному бюджету Наркомпроса "выколачивали" значительные суммы из кооперации на содержание украинских театров. Ведь существовало тогда даже товарищество "Укрробсель-театр", которое пеклось о судьбе украинского театра — в помощь государству. Были такие же "меценаты" и целые "меценатские" товарищества и в области музыки, изобразительного искусства. Немало было в те годы людей, которые не в порядке "общественной нагрузки" или партийного "поручения", а исключительно по собственному побуждению, от чистого сердца беззаветно отдавали свое время и энергию, а также и фантазию искусству, литературе, вообще великому делу роста, развития и обогащения украинской советской культуры.
Я не могу понять, почему такое "меценатство" совсем исчезло в нынешнее время?
Почему вокруг редакторов газет группируются только… сотрудники редакций, да и то — лишь "штатные", в нештатных редко увидишь на производственной летучке?..
Почему эти же самые редакторы газет или руководители других культурных учреждений перестали быть "завсегдатаями" театров — не посетителями официальных "просмотров", а именно "завсегдатаями", "своими людьми" и за кулисами театров, приятелями актеров.
Ведь чем меньше казенного в искусстве, тем больше в нем творческого. Это понятно каждому.
Постоловский — Лифшиц — Фурер — хорошо памятные имена, и каждый из них был интересной и сильной личностью, но я говорю о них не только, как о трех, продолжающих жить в памяти, товарищах, но и как о примечательных типах, символе эпохи…
Назад: "Вапліте" и я
Дальше: Йогансен

