Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))
Назад: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ "ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЕ" АНТИКИ
Дальше: Ирчан
Вишня
Воспоминания об Остапе Вишне мне хочется начать не с начала, а с середины, собственно, с начала второй жизни Павла Михайловича.
Шел третий год войны. Украина тонула во мраке гитлеровской оккупации. Украинская "колония" — ЦК партии, Совет Министров, редакции, Партизанский штаб — размещалась в опустелой прифронтовой Москве: "учреждения" — на Тверском бульваре, 18, и на Трубной площади; общежития — на Трубной и Советской; счастливчики жили в гостинице "Москва" — там даже действовало отопление.
В конце сорок второго года Бажан (он как раз должен был занять пост заместителя главы правительства УССР) и Довженко написали просьбу в правительство о возвращении репрессированных украинских писателей, которые дороги народу, особенно сейчас — в грозную годину всенародной отечественной войны. Это письмо должно было быть вручено Сталину. Первым в списке значился Павло Михайлович Губенко — Остап Вишня.
И вот, в конце сорок третьего года у меня в редакции (я редактировал журнал "Україна") затрещал телефон. Звонил Рыльский.
— Юрий Корнеевич, — услышал я радостный голос Максима Фаддеевича, — вы знаете, кто сидит тут у меня?
Рыльский недавно прибыл из Уфы и жил с сотрудниками Академии наук в гостинице "Новомосковская" на Балчуге.
— Нет, Максим Фаддеевич, не знаю. А кто?
— Павло Михайлович.
— Какой Павло Михайлович? — Я подумал, что Рыльский говорит о ком-то из товарищей-фронтовиков, и стал вспоминать: кого же зовут Павлом Михайловичем?
— Остап Вишня!
— Боже мой! Вишня?!
— Даю ему трубку…
В телефонной трубке зашелестело и завыло — и мне почудилось, что это воет пурга и потрескивает снег на морозе где-то на далеком севере. Но сквозь это завывание и потрескивание донесся десять лет не слышанный голос — его можно было узнать и через сто лет среди тысячи других голосов.
— Юрий Корнеевич?
— Павло Михайлович?
Больше мы ничего не сказали. Спазм сжал мне горло, и я почувствовал, что и по щекам Павла Михайловича, там, на Балчуге, в номере гостиницы "Новомосковская", тоже текут слезы…
Через минуту трубку снова взял Рыльский:
— Мы едем сейчас к вам. Вы где будете: в редакции или в столовой?
— Буду ждать в вестибюле главного корпуса.
Я позвонил Яновскому (он редактировал журнал "Українська література"), в нашей редакции работал Зегер, старинный друг Павла Михайловича, и втроем мы перебежали заснеженный двор Партизанского штаба, петляя между машин, на которые грузили длинные тяжелые свертки с парашютным устройством на конце: литература, продукты, рации, оружие — все, что сегодня ночью сбросят с самолетов в тылу врага на партизанские аэродромы.
И вот дверь с улицы отворилась — и вошли двое: Рыльский и щуплый человек в кожушке, ушанке и валенках. Вишня! Павла Михайловича нельзя не узнать, в каком бы неожиданном одеянии он ни появился перед вами.
Яновский снял шапку и поклонился до земли. Потом мы обнимались, глядели друг на друга. И молчали.
Да, это был Вишня. Точно такой, как и десять лет назад, — вот только немного похудел, немного больше стало морщин, и глаза… глаза были немножко не те… Глаза стали словно меньше, а "человечки" в них — темнее… Как будто Павло Михайлович смотрел издалека. Это был настороженный, несколько, может быть, недоверчивый взгляд — взгляд-вопрос: а как вы ко мне отнесетесь? А?..
Этот взгляд резанул ножом по сердцу…
Как можно скорее все сделать, чтоб этот взгляд исчез, чтоб от него не осталось и следа! Только, когда этот взгляд исчезнет, уйдет в небытие, — только тогда можно будет сказать, что Вишня вернулся, что начал жить нормальной человеческой жизнью…
Потом мы пошли к постпреду: надо же было представить начальству нового члена нашей украинской "колонии" — узаконить его, так сказать, в его новом бытии; проделать разные формальности, в частности — получить для Павла Михайловича талоны на обед в столовой Партизанского штаба, карточки на хлеб.
Вишня шел, а потом сидел в глубоком кожаном кресле перед столом постпреда все такой же, все с тем же притушенным взглядом.
Забавно-горестная деталь: постпред выдал ему все надлежащие карточки и талоны, а затем достал из ящика письменного стола большую сотенную коробку папирос "Казбек" и положил ее перед Павлом Михайловичем. Вишня взглянул на коробку — удивленно, потом на постпреда — недоверчиво:
— Это — папиросы?
— Папиросы.
— Сотня?
— Сотня.
— И это все… сразу… мне?
— Вам, Павло Михайлович. Курите на здоровье! По карточкам тоже получите, а это, так сказать, презент для первого знакомства.
Вишня посмотрел на всех нас — на каждого по очереди, в глазах его блеснула смешинка-искорка — и вдруг засмеялся: засмеялся своим настоящим, обычным, десять лет не слыханным, "вишневым" смехом: хе-хе-хе-хе-е-е! Он улыбался до этого уже не раз, но то была улыбка не его — улыбка с чужим взглядом, усмешка горькая и несмелая. А это уже не улыбка — смех, и смеяться так умел один Вишня: то ли смеялся, то ли только фиксировал "наличие смеха" в скобках, так сказать — актерское a parte: и смех и не смех, а насмешка над собой. Но всем, кто был рядом, становилось смешно до смерти.
Милый Вишня! Он уже "возвращался", он уже был почти здесь!
Потом мы пообедали и все вместе отвели Павла Михайловича в выделенную ему временно — до устройства — комнату: здесь же, во втором дворе Партизанского штаба, во втором корпусе флигеля, в том же коридоре, где помещалась редакция "України"; в этом коридоре, кроме комнатки нашей редакции и двух комнат Укриздата, были еще три комнатушки с койками и одеялами: тут ночевали по большей части связные, прибывавшие на несколько дней с территорий, захваченных оккупантом, чтоб, получив необходимые инструкции или материалы, снова лететь на родную землю… В одной из этих комнат спал в эту минуту неизвестный дядя с огромной бородой; в другой — крайней — ютилась прославленный снайпер Людмила Павлюченко — ее вызвал ЦК комсомола; третья — средняя — была в эту ночь свободна.
Был уже вечер. Все — Рыльский, Яновский, Зегер — ушли, задержался еще на некоторое время только я: у меня был ночной пропуск.
В комнате, кроме койки, покрытой одеялом, ничего не было, и мы с Павлом Михайловичем сели на койку. Электропроводки в комнате почему-то тоже не оказалось, и освещением служила коптилка на подоконнике замаскированного черной бумагой окна.
Несколько минут молчали. Тишина стояла в комнатке, во всем опустевшем на ночь корпусе штаба, на Тверском бульваре, казалось, во всей замаскированной, закамуфляженной, притаившейся прифронтовой Москве. Потом мы заговорили.
— Так-то, Юрий Корнеевич, — сказал Вишня.
— Так-то, Павло Михайлович, — ответил я.
Это и был, собственно, весь наш разговор — тогда, в первый вечер, в день возвращения Остапа Вишни.
Но этими скупыми словами мы сказали тогда друг другу очень много: то были и воспоминания о прошлом — хорошем и дурном; был и обмен первыми мыслями и впечатлениями по поводу современного положения вещей; были и раздумья о том, что ждет нас еще впереди. Ведь много можно высказать одним молчанием, а уж фразой из целых трех слов — и тем более.
Мы молчали, потому что я не решался спросить Павла Михайловича о чем-нибудь, что касалось его трагедии, а больше о чем же мне было спрашивать? Мы молчали, потому что Павло Михайлович еще не мог сам заговорить о пережитом, он еще боялся поверить правде, а о чем другом, кроме пережитого, мог он сейчас говорить?..
Потом мы обменялись несколькими фразами о том, что завтра же надо послать телеграмму жене Павла Михайловича и разыскать дочь, которая жила где-то в Москве. И договорились, что завтра вечером пойдем с Павлом Михайловичем ко мне. И пожелали друг другу спокойной ночи.
Я шел в тот зимний морозный вечер домой по звонким, опустелым, темным улицам Москвы — Тверским бульваром, улицей Герцена, Моховой, за Манежем, вдоль Кремля, мимо Боровицких ворот, потом Каменным мостом на ту сторону Москвы-реки, набережной и Лаврушинским переулком — и удивительно было у меня на сердце: и хорошо, и тяжко. Метко сказал об этом Олесь: "С печалью радость обнялась…" Радостно было думать о том, что Павло Михайлович вернулся, ко сколько грустных, болезненных воспоминаний, обидных, горестных раздумий всколыхнула снова память сердца и память ума…
На перекрестках из подворотен — из морозного мрака — возникали фигуры парных ночных патрулей и бренчало оружие.
— Комендантский патруль. Ваши документы…
Я показывал служебный пропуск с красной полоской наперекрест: свободное хождение по улицам Москвы и днем и ночью, и шел дальше, до патруля на следующем перекрестке. Шел серединой улицы: на тротуарах намерзли целые торосы из наледи, вдоль тротуаров громоздились горы сугробов, а посреди улицы сухой снег сдуло ветром и остался лишь тонкий ледок на асфальте или булыжнике. Сапоги гулко отбивали шаг по звонкому насту.
На следующий вечер мы с Павлом Михайловичем собрались ко мне заблаговременно, задолго до комендантского часа, — пока еще работало метро, договорились, что Павло Михайлович ночевать останется у меня. Мы должны были сесть в метро на Арбате, а выйти на только что — во время войны — построенной и открытой станции "Новокузнецкая".
Здесь, в метро, с беднягой Павлом Михайловичем дважды случился конфуз.
Когда мы подошли к ленте эскалатора, Павло Михайлович, как я его ни предупреждал, что надо шагнуть спокойно, остановился, прицелился, даже зажмурился и вдруг… прыгнул. Естественно, что он зашатался, потерял равновесие, упал и загремел по движущимся ступенькам вниз. Я едва догнал его, помог встать и — покрасневшему, смущенному — стал читать лекцию о том, как надо вести себя на эскалаторе и вообще в метро. Лекция не помогла, и, когда лента эскалатора кончилась, Павло Михайлович снова прыгнул — и снова чуть не упал.
Второй конфуз произошел через минуту — когда подкатил поезд. Я первым вошел в вагон, чтоб наглядно продемонстрировать Павлу Михайловичу, как надо входить в двери вагона метро, где входят и выходят, не придерживаясь правого и левого потока. Но Павло Михайлович учтиво кому-то уступил дорогу, потом неизвестно почему замешкался, и когда наконец ступил в вагон, двери как раз "выстрелили" — и пневматика крепко зажала сердечного Павла Михайловича: голова и плечи в вагоне, а ноги — по ту сторону… К счастью, зажало не в талии, не в узком месте, а пониже талии, в широком, и общими усилиями пассажиров беднягу втащили в вагон. Тащить вот так в вагон, не воспользовавшись аварийным стоп-сигналом и не выключив пневматики, трудно и хлопотно — в этом мы убедились на собственном опыте.
Совсем сконфужен и обескуражен был бедный Павло Михайлович, но… не было бы счастья, да несчастье помогло: вдруг засверкал знаменитый "вишневый" юмор. Павло Михайлович стал подтрунивать над собой. И такого наговорил, что, пока мы доехали до своей станции, весь вагон уже катался со смеху.
Вишня! Вишня возрождался на глазах — возрождался от такого маленького, совсем незначительного внешнего толчка…
Выйдя из метро, мы прошли квартал, вскарабкались на девятый этаж (лифт в то время не действовал) и наконец добрались до дверей моей квартиры.
Я жил тогда (выдворенный уже и из гостиницы "Москва" и из гостиницы "Метрополь" за слишком длительное проживание) в Лаврушинском переулке, 17. Милый мой друг Константин Георгиевич Паустовский был еще в эвакуации в Алма-Ате, а мне разрешил воспользоваться его разбомбленной московской квартирой. Но разбомбили квартиру совсем "по-божески": квартира была из трех комнат, бомба попала в одну — угловую, а две другие остались целы, если не считать обвалившейся на потолке штукатурки, трещин в степах и перекоса всех дверей и окон. Битый кирпич, щепки и всякую труху из коридора я вынес, дыры в окнах заткнул — и жилье у меня получилось прямо-таки роскошное! И вообще славно как-то жилось тогда в доме на Лаврушинском, 17. Был он почти пуст: кто — на фронте, кто — в эвакуации, семьи тоже все эвакуированы, и в доброй сотне квартир проживало не больше пятнадцати человек. В нашем подъезде на девяти этажах заняты были, кажется, только пять квартир: я — в квартире Паустовского, драматург Глебов, писатель Вирта, журналист Лежнев и еще один немецкий литератор-антифашист. В группе домовой противовоздушной обороны мы с Глебовым дежурили на крыше ("пост наблюдения за воздухом"), другие — на чердаке и во дворе. Но недавно нашу противовоздушную группу самообороны ликвидировали: крыша в нескольких местах (в том числе и как раз над квартирой Паустовского, над моей головой) была пробита, на чердаке устроены зацементированные площадки и установлены зенитки. Здесь же, возле зениток, на чердаке поселили и новых постояльцев: орудийный расчет девушек-зенитчиц, кажется пятерых. Добрые и хорошие это были девчата, и у нас вскоре с ними установились дружеские отношения: девчата приходили ко мне на кухню греться и мыть голову — потому что на кухне иногда бывал газ, в особенности если стоять на лестнице и ритмически постукивать палкой по газопроводу. Так и делалось: одна девушка стояла на лестнице и стучала, а другая в это время мыла голову теплой водой. Завязались между нами и деловые взаимоотношения: меновая торговля. Девушкам выдавали много сахару, а мне его не хватало. Зато у меня всегда было много папирос (выдавали по карточкам, в Партизанском штабе и в клубе писателен), а каптенармус зенитного батальона считал, что девушкам курить не пристало, и полагающейся солдатской махорки им не выдавал, несмотря на то что все они отчаянно курили… Неудобство было лишь одно: во время воздушных налетов зенитка над моей головой тоже начинала стрелять — каждый выстрел был ударом прямо мне в темя, потому что пушка стояла как раз над моей кроватью, да и густо сыпалась на голову с потолка штукатурка. По это пустяки — налеты случались теперь не часто и вообще — человек не собака, ко всему привыкает.
Однако я отклонился от темы и возвращаюсь к Павлу Михайловичу. Когда мы, пыхтя, взобрались наконец на девятый этаж, на темной, неосвещенной площадке у моей двери мы увидели неясную фигуру.
Я подумал, что это кто-то из девчат-зенитчиц хочет помыть голову, и окликнул:
— Кто там — Валя или Маруся?
Но отозвался мужской голос:
— Это я, Юрий Корнеевич! Уже с полчаса вас поджидаю… Потому что сойти и второй раз взобраться на такую верхотуру нет сил…
Соколянский! Иван Панасович Соколянский, знаменитый ученый, спаситель десятков и сотен слепых, немых и глухих, в прошлом директор колонии слепо-глухонемых в Харькове на улице Тринклера, гениальный новатор, умевший научить слепого различать цвета, глухого — узнавать гамму, немого — передавать свои мысли другим. Сейчас (зима сорок третьего года) — профессор Московского института слепо-глухонемых. Только сегодня утром я позвонил ему, что вечером будет у меня Павло Михайлович…
Соколянский и Вишня были задушевными друзьями добрый десяток лет — до тридцать третьего года. Вишня, "сделав вынужденную посадку", как он говорил, "закончил десятилетку", а Соколянский вышел раньше — о нем особо ходатайствовал перед Сталиным Горький.
И вот они снова встретились.
Мы стояли перед дверью на полутемной лестнице. Они двое — друг перед другом, я — несколько отступя: мне не хотелось им мешать.
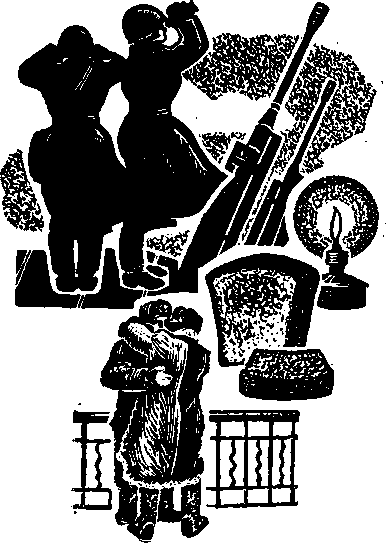
И вдруг Павло Михайлович заплакал, — это в первый да и в последний раз (потому что больше никогда не привелось) я слышал и видел, как плачет Вишня. Он плакал навзрыд и, пошатнувшись, склонился к Соколянскому на грудь. Он обнял его и крепко прижал к себе:
— Ивасик… друже…
И теперь заплакал Соколянский.
Они стояли — двое взрослых, даже пожилых мужчин — крепко обнявшись, у двери в квартиру номер семнадцать, на полутемной лестничной площадке девятого этажа — и плакали горькими и радостными слезами. Муки пережитого, понимание друг друга, боль и горе, боль и радость.
Потом мы вошли в квартиру.
Какое счастье, что в тот вечер газ доходил до девятого этажа! Мы поставили на огонь чайник, я сбегал на чердак — с пачкой папирос "Катюша" — и вернулся с целым богатством — с шестью кусками рафинада и… с той же пачкой "Катюши": девушки-зенитчицы отказались от "меновой торговли", когда услышали, что я собираюсь поить чаем дорогого мне человека.
Пока я хозяйничал, Вишня с Соколянским беседовали…
Странная это была "беседа". Примерно так:
— Ага… А постный день помнишь?
— Еще бы! А куда девался тот бородач?
— Кто его знает…
Пауза.
Вишня вдруг запел себе под нос:
— "Соловей, соловей, пташечка,
Канареюшка жалобно поёть…"
— А ты все такой же, как был.
— Да и ты такой самый.
Пауза.
— "А солдат, а солдат-душечка,
Солдат-душечка на войну идёть…"
— Эх, Павлуша, Павлуша, не повезло нам с тобой… Я кончил хозяйничать и выставил на стол все, что у меня было из пайка и осталось от обеда в столовой штаба: хлеб, тушенку, мандариновый джем.
— Банкет! — сказал Вишня и даже потер руки. — " Вот только… Ты, Ивасик, как теперь — пьешь?
— Пил бы, если б было что, да где ж его теперь взять?
— Я не о том. Там доводилось пить?
— Нет! Из чая, правда, варили этот, как его?
— А я, брат, пил. Редко, правда, но пил: я ж последние годы там фельдшером — фершалом — работал.
Они поглядели друг на друга и захохотали.
И это был уже настоящий "вишневый" смех:
— Хе-хе-хе-хе-е-е-е!
И тогда я вдруг вспомнил:
— Хлопцы, — сказал я, — у меня авитаминоз, и мне в поликлинике прописали глюкозу. И все двадцать ампул выдали. Большущие ампулы — по двадцать пять, верно, граммов. Но — глюкоза на спирту! Может быть, ее… пить можно, черт с ней, что сладкая?
Вишня громко крякнул и с надеждой посмотрел на Соколянского: хотя Соколянский и не доктор, однако же… профессор — должен знать.
— Что ж, — Соколянский пожал плечами, — отравиться, пожалуй, нельзя, раз в кровь делают вливание… Пробу надо взять… поставить эксперимент… — закончил он неуверенно. — Где она у вас, эта глюкоза?
Я достал коробку с ампулами — длинными, большими стеклянными ампулами. Их оставалось еще шестнадцать. Чуть не четыреста граммов спирта.
Соколянский разбил одну, понюхал, капнул на ложечку, взял на язык, посмаковал… Мы взирали на него с надеждой.
— Крепко, разводить надо…
— Ура! — крикнул Вишня.
И вот перед нами стояла и водка — слаще, чем ликер, противная, но крепкая.
Мы сидели, пили глюкозу из ампул, заедали американской тушенкой, потом пили чай с мандариновым джемом — во рту было приторно, в горле першило, тошно было на вкус, но на душе становилось все теплее, легче. И уже как-то само собой вышло, что Павло Михайлович рассказал всю свою историю, вплоть до вызова к коменданту лагеря; потом — отъезд в Москву неизвестно зачем; в Москве вдруг выдача на Лубянке паспорта и… выход на волю. Куда же мне идти? Куда хотите: вы свободны. Но… куда же я денусь? А тут полно ваших товарищей. Вот Максим Фаддеевич Рыльский проживает в "Новомосковской" гостинице: к нему и идите — он председатель вашего Союза писателей, как-нибудь уж устроит вас.
Потом Соколянский заторопился и ушел — приближался комендантский час, и мы с Павлом Михайловичем остались вдвоем.
Спать мы решили здесь же, в кухне, потому что в комнатах стоял смертельный холод, а тут, хоть и слепенько, но горел газ. Мы легли на кровать и укрылись полушубком Павла Михайловича — ему выдали на дорогу недурной-таки кожушок.
Но спать не хотелось. Мы погасили свет, размаскировали окно и, лежа, покуривали, глядя в высокое, холодное, звездное над Москвой небо.
И говорили.
Говорили обо всем. О том, что уже миновало, и о том, что нас ждет. О войне, о людях. Об Украине, которой у нас сейчас не было. И о том, что она непременно будет. И это — скоро, не за горами. Говорили и о литературе.
Я спросил Павла Михаиловича несмело, боясь ранить этим вопросом:
— Там… не писали?
Павло Михайлович помолчал.
— Нет. Не писал.
— Будете писать… теперь?
Павло Михайлович долго молчал — так долго, что я уже стал тяжко казниться, что своим глупым, бестактным вопросом больно ранил его. Но Вишня все-таки ответил:
— Разве я теперь сумею?
Это было сказано так горько, что сердце разрывалось. Я хотел что-то возразить, но Павло Михайлович меня остановил:
— Не надо. Не говорите. Знаю: будете утешать, что отойду и… сумею… Не надо, не говорите.
Я примолк.
Где-то далеко шел воздушный налет — на подступах к Москве: на горизонте вспыхивали молнии далеких, но частых выстрелов зениток. Так бывало каждую ночь. Но Павло Михайлович не знал, что это такое: он еще не видел военного ночного горизонта с девятого этажа в Москве.
— Что это мигает?.. Можно подумать, молния, если б не зима?
Я объяснил: далекие выстрелы зениток. Так далеко, что выстрела не слышно, только отблеск. За третьим или четвертым кольцом противовоздушной обороны.
Мы лежали и беседовали — сон не приходил и не смежал нам веки. А может быть, то играл спирт в голове или сказывалось возбуждение от излишка глюкозы?
Канонада тем временем приблизилась: уже стал слышен далекий гул. Потом и стекла в окнах начали дрожать.
И вдруг нас с Павлом Михайловичем стукнуло прямо в темя и на голову посыпалась штукатурка с потолка.
— Что это? — даже вскочил Павло Михайлович. — Бомба?
— Да нет же — зенитка: забыл вас предупредить — она же как раз над нашей головой…
Зенитка над головой ударила второй раз и третий: враг-таки прорвался сквозь четвертую, третью и вторую линию обороны. Это в последнее время случалось совсем редко.
Павло Михаилович посмотрел на меня настороженно:
— Надо… прятаться? Или как?
— Если хотите… Кажется, под нашим домом нет бомбоубежища — надо бежать до метро.
— А… надо?
Зенитка над нашими головами ударила еще и еще, штукатурка сыпалась густо — на кровать, на стол, на пол.
— В начале войны люди прятались — теперь привыкли.
— А вы?
— Я был постом наблюдения за воздухом: сперва в Харькове, а теперь здесь. Это не под дом надо, а на дом — на крышу. Только теперь у нас зенитки на крыше, и наша служба ликвидирована…
— Гм. Значит, послабление вышло?
— Послабление…
Зенитки ударили еще раз и еще раз. Потом — впервые — стали слышны и разрывы бомб: четыре кряду — гуп-гуп-гуп-гуп.
— А это уже… разрывы?
— Разрывы.
— Далеко?
Разрывы грохнули снова — гуп-гуп-гуп-гуп, но уже значительно ближе, совсем близко, здесь, в Замоскворечье.
— Это уже ближе, — ответил я на вопрос Вишни, когда стало потише.
Но теперь зенитки затрещали истерически, и я не услышал, что сказал Вишня.
Он сказал, должно быть, "раз не надо, так не надо", потому что взгляд его перестал быть настороженным, он снова лег, вытянулся на спине и даже закрыл глаза.
— Знаете, — сказал Вишня, когда стало тише, перестала, собственно, грохотать зенитка над нашей головой, а били только далекие, — знаете, мне что-то спать захотелось…
— Это от канонады. У многих так. Только услышат орудийную стрельбу, сразу ко сну клонит…
Я не успел еще кончить фразу, когда рядом послышалось посапывание. Посмотрел на Вишню, посветив себе огоньком папиросы. Вишня спал…
Когда я проснулся — уже был день, серое утро, — Вишни рядом на кровати не обнаружил: он обходил все краны, откручивая их, и, горестно вздохнув, закручивал снова — воды не было.
— Пить хотите, Павло Михайлович?
— Глюкоза чертова… прямо жжет…
В самом деле, я тоже почувствовал, что все горит — ведь "введено в организм" добрых сто граммов чистого сахара.
— А в чайнике не осталось?.. В кранах вода бывает по большей части только вечером, особенно на девятом этаже.
— Что ж делать? Пропасть ведь можно…
Нет, пропадать нужды не было — я знал, как раздобыть воду, но для этого надо было одеться, а до чего ж не хотелось выбираться из-под теплого кожушка Вишни в холодную комнату.
— Есть два способа добыть воду… — начал я, чтоб оттянуть минуту вставания.
— Целых два? Давайте сразу оба, а то очень пить хочется!
— Надо либо спуститься вниз, в подвал — там всегда вода в кране. Только там очередь и… снова тащиться на девятый этаж.
Вишня крякнул: перспектива мало привлекательная.
— А другой способ?
— Это — наверх. Надо выбраться на крышу через чердак и набрать снега — вчера как раз выпал свеженький.
— О! — Этот способ Вишне понравился. — Одевайтесь!
— Одевайтесь вы.
— Хэ! Я же тут гость!
— А я — хозяин.
Я записываю и этот диалог, незначительный, мелкий, но мне тогда так отрадно было, что Вишня пытался шутить.
— Там же — дамы: зенитчицы, и я не имею чести быть им представленным.
— Вот и представитесь. А девчонки хорошенькие…
— Черт побери!..
Вишня начал натягивать штаны.
— А во что воду набирать?
— Не воду — снег: вон в ту миску…
Вишня кончил одеваться, но и меня не пощадил — сдернул свой кожушок, и мне пришлось-таки встать.
Мы пошли на чердак и на крышу вместе. Зенитчицы уже встали, если они ложились спать, и теперь готовили себе завтрак: разогревали на сухом спирту тушенку. Я познакомил их с Вишней, мы покурили вместе, девчата просили, когда пойдет газ, постучать им в потолок — они вскипятят себе чаю.
Когда мы вернулись домой, Вишня напился воды — мутной, желтой, снеговой воды с крыши, сел на кровать и вдруг заговорил уже совсем "по-вишневому", со свойственными только ему одному интонациями, которые не передать, не изобразить словами:
— А я уже, знаете, дома. Хе-хе-хе-хе-е-е-е-е!.,
Через несколько дней — уже после того как Павло Михайлович нашел дочь и жена приехала в Москву, — как-то утром, когда я только пришел в редакцию, я услышал, как скрипнула дверь в комнатке Вишни: значит, эту ночь он ночевал здесь, а не у жены и дочери. Через минуту дверь моей редакции приотворилась, и в щели показалось лицо Павла Михайловича.
Он ничего не сказал, только как-то заговорщицки подмигнул, а затем поманил меня пальцем.
Я встал и вышел в коридор.
— Что такое, Павло Михайлович? Почему не заходите, а?..
— Потому… секрет!
Вишня отошел еще на несколько шагов и снова поманил меня пальцем.
— Да что такое? Какой секрет?
— Тайна!
В голосе Павла Михайловича звучала шутка, но лицо было совершенно серьезное, даже какое-то испуганное или взволнованное…
— Что случилось?
Вишня дошел до своей двери, открыл ее и снова поманил меня.
Я вошел, не зная, чего ожидать — шутки или чего-нибудь важного?
Павло Михайлович сел и кивнул мне, чтоб я садился рядом.
Я сел.
Тогда Вишня вынул тетрадь, положил ее себе на колени и раскрыл. Рука у него дрожала.
— Что это?
Вишня помолчал. Руку — чтоб не было видно, как пальцы отбивают дробь по бумаге, — он сунул в карман.
— Кажется… сумел…
— А?.. — Я не понял.
Вишня откашлялся:
— "Не знаю, сумею ли"… Помните, говорили мы с вами?..
— Павло Михаилович, дорогой!
Я, наконец, догадался: Вишня испробовал снова взяться за перо!
Отстраняя мою руку от тетрадки, Вишня сказал:
— Вы не разберете… Я сам. А вы послушайте и скажите…
Он был взволнован. Взволнован был и я.
— Ну, ну! Читайте же, Павло Михайлович.
— А вы не нукайте, я вам не конь.
Пробовал Вишня шутить, но казалось, что не шутит он, а вот-вот заплачет.
И Вишня начал читать.
То была "Зенитка". Знаменитая "Зенитка", которая немедленно же пошла по фронтам, которую читали все эстрадники Союза, которая выдержала десятки переизданий и которая вернула Павлу Михайловичу его улыбку — вернула народу его любимого популярного писателя, неповторимого Вишню с его "вишневыми" усмешками…
Только теперь, через два десятка лет, мелькнула у меня мысль: неужто тема "Зенитки" возникла в какой-то мере по ассоциации с теми зенитками, что морозной ночью сорок третьего года рокотали вокруг Москвы, с теми зенитками в Лаврушинском на крыше семнадцатого номера, что каждым выстрелом долбили нам темя и осыпали штукатуркой?
Мне приятно, если это действительно так.
Я познакомился с Вишней в тысяча девятьсот двадцать третьем году — когда был еще актером театра Франко и наш театр только что приехал из Донбасса в Харьков. Мы были приятелями с Костем Кошевским, а Вишня тоже давно с ним дружил, еще с тех пор, как в восемнадцатом году они вместе бежали из гетманского Киева и оказались где-то в Каменец-Подольске. Мы приехали в Харьков под вечер, а уже на другое или третье утро Вишня сидел в актерской гардеробной "Виллы Жаткина", где вповалку на соломе расположились на временное житье актеры. Кость Кошевский отрекомендовал Вишню, но это знакомство мне ничего не сказало. Вишня-фельетонист был мне неизвестен. Да и вообще это еще не был знаменитый Вишня — и Вишней, и знаменитым он станет как раз с двадцать третьего года — так что был это просто симпатичный молодой человек, рыжеватый, смешливый, с очень приятной, воркующей манерой говорить. На первое свидание со старым знакомым Вишня явился с подарком: принес два глечика молока, которые купил по дороге на базаре, и изрядную паляницу. Мы пили молоко с паляницей, а Вишня рассказывал нам всякую всячину, вводя нас, провинциалов, в курс столичной жизни. Он был мастак рассказывать — не припомню, о чем он именно говорил, но мы катались со смеху.
Через несколько дней — когда мы уже познакомились с Блакитным и я начал бывать в "Вістях" ежедневно, я снова встретил Вишню: он работал секретарем газеты "Селянська правда", которая была ближайшим соседом "Вістей" — в том же помещении она занимала целых две комнаты. А выходила тиражом в добрую сотню тысяч, что в те времена было цифрой почти астрономической.
А так как был Вишня одновременно и постоянным фельетонистом "Вістей" — чуть не в каждом номере печатал "маленький фельетон" в верхнем правом углу третьей полосы, — то и стали мы теперь встречаться регулярно: в знаменитом кабинете Василя Блакитного Вишня был завсегдатаем.
Вообще, не было бы Блакитного, не было бы и Вишни. Застряв в свое время в Каменец-Подольске, Вишня силой обстоятельств — когда Каменец оказался столицей петлюровской директории — напечатал несколько фельетонов в тамошних газетах. Не знаю, что это были за газеты, очень ли националистические, но только когда Вишня позднее появился в Харькове, им сразу же заинтересовалась Чека и был Вишня арестован. Неизвестно, какова была бы его дальнейшая участь, если б о кем не позаботился Василь: раздобыв опубликованные Вишней фельетоны, убедившись, что они не были ни националистическими, ни антисоветскими, Блакитный через Центральный Комитет партии, членом которого он был, и через ВУЦИК, депутатом которого он тоже являлся, вызволил Вишню и привел к себе в редакцию. Так стал Вишня постоянным фельетонистом центрального органа прессы УССР, а так как прожить с семьей (у Вишни была тогда его первая жена, сын, сестра и куча братьев) на гонорар за фельетоны было нелегко, то Блакитный устроил Вишню на штатную должность секретаря редакции в газету "Селянська правда", которую редактировал его ближайший коллега и непримиримейший противник в деле организации культурного фронта Сергей Владимирович Пилипенко.

Впрочем, Блакитный готовил против Пилипенко "диверсию": он задумал издание юмористического журнала "Червоний перець" и Вишню прочил в редакторы. Так оно вскоре и получилось.
Жизнь Павла Михайловича в те времена слагалась из нескольких всепоглощающих компонентов — нескольких дел, которым Вишня отдавался весь, с головой. А весь, с головой, он отдавался каждому из этих дел.
Дела были такие.
Фельетоны — не меньше пятнадцати — двадцати в месяц. Переписка с читателями газеты "Селянська правда" — добрых две сотни писем ежемесячно. Мне — во всей моей дальнейшей многолетней практике литератора и редактора — не приходилось встречать журналиста, который был бы до такой степени "газетчиком", принимающим близко к сердцу все земные человеческие дела, активным соучастником всего хода жизни, литератором, который непременно вмешивался во все, что требовало вмешательства. Павло Михайлович был журналистом не только в фельетонах, которые он печатал, но в каждом написанном им письме, в каждом, пускай самом коротеньком, ответе на письмо читателя. А писем Вишня всегда получал без счета…
Кроме фельетонов и переписки, важнейшим делом для Вишни было "меценатство" — неуемное меценатство во всех областях искусства и над всеми людьми искусства. Вишня посещал все премьеры во всех театрах города; не пропускал ни одной программы отечественных фильмов в кино; в цирк заходил каждый вечер, особенно за кулисы — к клоунам и в менажерию; художники и скульпторы ожидали его на каждом вернисаже; ни один диспут по вопросам искусства не начинался до прихода Вишни; если в каком-нибудь театре тяжело заболевал актер, Вишня шел в отдел соцобеспечения или в Красный Крест и раздобывал путевку на курорт; престарелых он устраивал в приют; если имел деньги — одалживал их (без отдачи, конечно) неимущим деятелям всех искусств; актеров и певцов, страдавших запоем, лечил по собственной системе — "словом и делом": словом — уговаривал, де-лом — обливал холодной водой. Павло Михайлович (по первой своей специальности фельдшер) неизменно появлялся у постели писателя, если тот заболевал. Помню, когда в тридцать первом году мне пришлось срочно делать операцию язвы желудка, Павло Михайлович привез ко мне лучших специалистов, он же вызвал машину скорой помощи, он же договорился, чтобы операцию делал сам Адам Адамович Бельц, первый звонок в больницу после операции был его…
Что же касается увлечений, то у Павла Михайловича их было несколько.
Прежде всего собаки. Павло Михайлович лелеял и воспитывал их, получал за них серебряные и золотые медали, был арбитром на всех собачьих выставках и соревнованиях и бескорыстным консультантом всех харьковчан, которые тоже увлекались собаками. Имена своим собакам Павло Михайлович давал чудные: Лялька, Цацка и т. п.
Понятное дело, что любовь к собакам сочеталась у Павла Михайловича с неугасимой страстью к охоте. Вишня был обладателем ружей всех систем и калибров и патроны набивал по собственному способу: один пыж на порох и два на дробь. Готовился к выезду на охоту Павло Михайлович очень заботливо, тщательно и заблаговременно; о трофеях ничего сказать не могу: я ходил с Вишней на охоту всего несколько раз, и он при мне не подстрелил ни одной куропатки, ни одного зайца.
Рыбная ловля тоже входила в круг увлечений Павла Михайловича, рыболов он был заядлый; ловил на поплавок, на донку, на перемет и даже на спиннинг, который в те годы только-только стал у нас известен. Из всех рыб больше всего нравились Павлу Михайловичу миноги, которые у нас, к сожалению, не водятся, и приходилось покупать их маринованными в магазине.
Ну и, разумеется, лошади: конские бега были для Павла Михайловича истинным отдохновением для души и тела. Он неизменно посещал скачки, не брезгуя и тотализатором. Случалось, проигрывал все, кроме собак и ружей, а случалось, вдруг устраивал грандиозный банкет для всех друзей и знакомых — чтоб поскорее избавиться от "чужих", как он говорил, выигранных червонцев…
Кроме всего перечисленного и многих не перечисленных дел, у Павла Михайловича хватало времени и энер-гии и еще кой на что. Незадолго до нашего знакомства Павло Михайлович разошелся с первой женой, а вскоре стал оказывать внимание молоденькой актрисе, которая только что поступила в театр Франко, но уже готовилась стать "примой". Понятно, что это "дело" отнимало у Павла Михайловича уйму времени и днем и вечерами, потому что предмет его воздыханий проживал где-то чуть не на Холодной горе, которая в те годы была почти за чертой города, ведь тогда еще не было ни троллейбусов, ни автобусов, ни такси, а "ванько" драл за один конец полтинник. Девушку после спектакля Павло Михайлович, разумеется, отвозил домой на извозчике, а назад возвращался, как придется: днем — трамваем, если посчастливится дождаться, ночью — "номером одиннадцатым" — то есть на своих двоих. И всегда бедняге Павлу Михайловичу приходилось спешить, потому что был он человек компанейский, любил поболтать с друзьями (особенно если случалась чарка под помидор или к пиву — раки), а ведь не было дня, чтоб какая-нибудь из дружеских компаний не поджидала Павла Михайловича — в подвале под "Вістями", в бильярдной Порфишки, в летнем кафе на крыше гостиницы "Красная" или позднее — в Доме Блакитного, где Павло Михайлович был деловым председателем совета клуба и "шеф-коком гонорис кауза" в писательском ресторане.
Единственное, чему Павло Михайлович — в те поры — не отдал ни минуты своего времени, был… футбол. Павло Михайлович до шестидесяти лет ни разу — ни разу за всю жизнь! — не переступил порога стадиона и не видел, как гоняют мяч по полю… Когда же Павлу Михайловичу стукнуло шестьдесят — как раз назавтра после этого события, — я зашел к нему (это было уже после войны, в Киеве) и сказал:
— Павло Михайлович, ну разрешите мне один раз, один раз только, повести вас на стадион. Ну подарите мне девяносто минут вашей жизни. Можете потом плюнуть мне в глаза…
Вишня тяжело вздохнул — идти смотреть на футбол, которого он никогда не видел, но представлял себе какой-то несусветной чепухой, ему вовсе не хотелось, однако и отказаться было неудобно — я так настаивал.
— А пиво после него будет?
— Будет, Павло Михайлович. Две кружки.
— Ударили…
"Ударили" означало — пошли!
Мы сидели на стадионе, и матч для меня был начисто испорчен. Павло Михайлович ежеминутно задавал вопросы: а зачем он отбивает мяч туда, а не сюда, а почему они все вместе побежали, а отчего тот свистит, а руками разве нельзя и т. п. И еще десятки таких же вопросов абсолютного профана и человека, равнодушного к игре. Для болельщика такие вопросы — погибель.
Когда мы уходили с матча, Павло Михайлович спросил: а когда следующий?..
После этого — и до самой смерти — Павло Михайлович не пропустил ни одного матча на первенство и на кубок, посещая не только соревнования основных составов, но и игры дублеров. Теорией футбола, всеми стилями игры, всеми видами футбольной тактики и стратегии Павло Михайлович овладел досконально, фантазировал в этой области — тоже виртуозно, и вообще, более пылкого и страстного футбольного болельщика мне редко приходилось встречать, а футболистов киевского "Динамо" того времени Павло Михайлович любил нежно и заботливо. Насколько мне известно, и киевские динамовцы были в свою очередь горячими "вишнеанцами".
Впрочем, кто не любил Вишню и вообще знала ли Украина фигуру более популярную, чем Остап Вишня?
Когда-то — еще в двадцатых годах — Майк Йогансен так говорил о Вишне и его удивительной популярности. Все украинцы делятся на две части, но не поровну. Девяносто девять процентов составляют те, кто, только увидев новую "вишневую" усмешку и даже не познакомившись с ее содержанием, уже хватаются за живот, потом падают на землю и катаются в припадке гомерического хохота, через силу моля: "Ох, дайте ж мне скорее прочитать, чтоб я хоть знал, отчего смеюсь!" Ко второй части — всего один процент — можно причислить тех, кто совершенно не признает таланта Вишни, вполне солидно, абсолютно убедительно и даже справедливо аргументируя свое отрицательное отношение: они оценивают творчество Вишни совершенно неодобрительно, считая его носителем отживших традиции, отсталых литератур-пых форм и приемов, эстетизатором вульгаризованных псевдонародных шаблонов. Чтобы наглядно продемонстрировать эту свою позицию перед всеми, они, заранее пренебрежительно улыбаясь, берут какой-нибудь фельетон Остапа Вишни и начинают читать его вам вслух, не в силах — уже со второй фразы — не смеяться. При этом презрительно приговаривают: "Ведь я же вам говорил: это так глупо, что невозможно удержаться от смеха".
Именно в этом главная сила юмористического — пускай и "отживших традиций, отсталого и вульгаризаторского" — таланта Вишни. Читая его, смеются и те, кто влюблены в его смех, и те, кто его смеха не признают; смеются даже те, на кого направлены острия "вишневых" усмешек и, смеясь, чувствуют себя в дураках.
Вишня обладал бесценным качеством писателя — умением заново "открывать" и "изобретать" давным-давно открытые и уже изобретенные вещи. Он умел снова и снова замечать и показывать давно уже замеченные детали — те "мелочишки", за которыми стоит большое: чувства, идеи, деяния. Вишня был и непревзойденным мастером создания характеров, в особенности же индивидуализированной речи. Был несравненным бытописателем и в то же время языком своих персонажей умел тонко выразить свои идеи. Безукоризненно владел условностью искусства. Смех Вишни — веселый, открытый, здоровый, — шел от полнокровного ощущения радости бытия, а самую "глупость глупости" — обычный прием юмористической мистификации — он умел подать тактично, не перебарщивая и без нажима. Бывал ли иной раз Вишня грубоват и непристоен? Бывал. Но грубость и непристойность — такие отвратительные в литературе вообще — в фельетонах и юморесках Вишни становились вполне приемлемыми даже… чистыми. Такова сила его мастерства.
Но не в одном "мастерстве комикования" — секрет сказочной популярности Вишни. Мне кажется, что секрет этот в том, что он смеялся над тем, что смешно всем. Людям совершенно разных характеров, от мала до велика, разным по общественному положению, даже разных социальных категорий, Вишня-юморист умел найти и высмеять то, что смешно даже ипохондрику; Вишня-сатирик умел взять под уничтожающий обстрел факт, явление или процесс, который был в центре внимания общества, который волновал всех и каждого. И бичевал насмешкой Вишня не "от себя одного", а от всех, как сказал бы Вишня, "от имени и по поручению"…
И наконец — уж не главное ли это свойство Вишни — был Вишня по всему складу своего творчества, по языку, образам, метафорам, ассоциациям, по самой системе мышления глубоко национален. Вишня не англичанин и не француз. Вишня не белорус и не русский, Вишня — украинец.
Здесь — в яркой национальной окраске таланта Вишни — и скрывается своеобразный, только к Вишне относящийся парадокс: малая популярность, недоходчивость, даже "неюмористичность" юмористики Вишни вне Украины, для неукраинского читателя.
Общеизвестно и безусловно верно — об этом свидетельствует опыт веков, — что произведение искусства, безупречно выполненное в своем национальном характере и колорите, является таким же драгоценным, волнующим и действенным и для людей всех других национальностей, органически становится интернациональным: шедевры литературы переводятся на языки всех народов, и все народы воспринимают их как свои; шедевры живописи и ваяния входят в сокровищницу всемирной культуры; шедевры музыки звучат одинаково для всех, какой бы нации ни был слушатель.
Произведения Вишни — бесспорный шедевр украинской национальной культуры. Но воссоздать — не просто "перевести", а именно воссоздать их в других языках, чтобы они дали тот же эффект, думается мне, — невозможно.
Не парадокс ли это?
Думаю, причина здесь в том, что весь юмор Вишни построен прежде всего на языковых ресурсах; он делает упор именно на особенность украинской речи, ее неповторимую самобытность, на весь ее оригинальный лад — своеобразную интонацию, свойственную лишь украинскому характеру, своеобразное видение, присущее украинскому глазу.
Думаю, что в свое время — да и значительно позднее, даже теперь, — именно это давало повод кой-кому из критиков обвинять Остапа Вишню в "национальной огра-ниченносги". Ясное дело — безосновательно, от собственной ограниченности и нищеты духа.
Возможно, что это и послужило зацепкой, чтоб обвинить Вишню и в "национализме". Современному читателю теперь уже не трудно судить — были для этого основания или нет.
Как известно, только выйдя на волю и снова обретя свое творческое "я" в знаменитой "Зенитке", Вишня сразу же — первой своей после возвращения книжкой "Самостийная дырка" — выступил против украинских буржуазных националистов. Заграничная националистическая контрреволюция, разумеется, немедленно же пустила слух, что Вишню, мол, "заставили" написать эту книгу, что его, дескать, "для того и выпустили", чтоб на его имени "спекульнуть", и вообще, что все это у Вишни не от души, а по принуждению.
Спорить, конечно, бесцельно, — другого от антисоветчины и ждать нечего, — это понятно каждому. И Вишню, когда ему показывали эту околесицу националистов, она никак не трогала. И он продолжал издеваться над ними. Но смеялся, подшучивал и издевался над националистами Вишня только в фельетонах — то было его оружие борьбы, однако в жизни он говорил о националистах без смеха. Националистов — прежних петлюровцев, а позднее всяких там бандеровцев и тому подобных — Павло Михайлович ненавидел.
Как-то погожим зимним днем по свежей пороше отправились охотиться на зайцев Вишня, Бучма, Йогансен, Слисаренко и я. Я только что приобрел славное ружьецо "Зауэр" — три кольца, пристрелял его со станка на листе бумаги, потом с Йогансеном и Слисаренко попрактиковался на стендовых тарелочках, теперь надо было его обновить и обмыть заячьей кровью. На уток, лысух и нырков я охотился и раньше, еще гимназистом; ходил по перу с Йогансеном и Слисаренко, — ружьишко у меня тогда было плохонькое; но на зайца — да еще с новым ружьем — я шел впервые. Потому-то был я в центре всеобщего внимания, все наперебой поучали меня, как надо вести себя на заячьей охоте, и каждый старался чем-нибудь мне услужить. Кто дарил патроны, каким-то особым способом набитые, — дробь ложится так кучно, что "ни одни заяц не проскочит"! Кто прицеплял мне к поясу специальные крючки, к которым я потом приторочу убитого зайца. Кто просто угощал папиросой своей набивки, из какого-то контрабандного табака. Шли мы за Померки, в яры — там, по сведениям Йогансена, появились целые "отары" зайцев, привлеченных заброшенным капустным полем. Меня уже заранее, еще от Сокольников, трясло как в лихорадке — от сладких предчувствии и страха, как бы не напортить и не оскандалиться.
Но вот наконец и опушка за дачей Петровского — дальше хваленое Майком поле грядущего заячьего побоища. Тут надо было нам расходиться.
План был такой: без номеров, поскольку без собачьего гона, просто — расходимся веером, проходим поле и на опушке небольшой рощицы, что виднелась километрах в двух, сходимся.
Разошлись.
Слева от меня двинулись Вишня и Кучма, справа — Слисаренко и Йогансен.
Я был, так сказать, "центром нападения": позиция наиболее выгодная, потому что все зайцы, которых поднимут и справа и слева, по которым выстрелят, но "промажут", непременно выйдут наперерез моему маршруту, и мне будет удобно стрелять по ним — в профиль, а не в угон.
Пошли.
Каждый, кто хоть раз охотился на зайцев, поймет, как я себя чувствовал, какие эмоции терзали мою душу. А кто на охоте не бывал, тому этого и не расскажешь — все равно не поймет.
Я шел, подхватив ружье под правый локоть, с пальцем на гашетке — в любую секунду готовый подбросить ружье к плечу и бить зайца, не теряя и терции. Патроны я заложил те, от которых не убежать никому, — не проскочить сквозь кучность заряда.
Странное дело — зайцы мне не попадались. Более того, слева — от Вишни и Бучмы — иногда доносился выстрел, справа — у Слисаренко и Йогансена — был даже дуплет и слышались какие-то возгласы: видно, попался и убит-таки заяц. Но и после выстрелов справа и слева шальные зайцы все же не пересекали мой путь.
Никого из партнеров я не видел, потому что мне, в центре, пришлось идти ложком, а Вишне с Бучмой и Йогансену со Слисаренко — за взгорками, собственно, за краями овражка, по которому двигался я.
Так прошел я километр и два — зайцев не было. Шагах в пятидесяти уже виднелись и кусты опушки, к которой мы направлялись и где должны были сойтись. Сердце у меня уже не колотилось в нервном ожидании, а тоскливо ныло — от разочарования и злости.
И вдруг я увидел зайца.
Шагах в тридцати от меня, под кустом — под крайним, первым от поля кустом, на белом чистом снежку сидел серый красивый заяц-большак. Сидел, не двигаясь, как пришитый, только большущие уши свои наставил.
Я сразу понял: видеть меня он не может — зайцы, как известно, близоруки; почуять не мог, потому что ветер дул мне в лицо, то есть от зайца. Услышать — тоже: снег был совсем мягкий и под ногами не скрипел.
Я тихо поднял ружье к плечу: заяц просто "уселся" на мушку — стрелять в него я мог не как на охоте, а как на стрельбище — в цель.
На миг я задержал палец на гашетке. Ведь стыдно? Ведь не спортивно? Бить "в сидку", а не "в лет"…
Но я сразу утешил себя, что это ведь не на птицу охота, а на зайца, и ни к чему тут охотничий снобизм — стрелять только в движущуюся цель. Я нажал гашетку чокового ствола.
Прогремел выстрел — и заяц завалился на спину.
Ну, разумеется, с диким криком победителя я подбежал к зайцу и схватил его за уши, гордо поднимая свой трофей. В ту минуту я не обратил внимания на то, что в ушах у зайца были какие-то щепочки. Я был счастлив, я торжествовал.
Справа вышел из-за кустов Йогансен, следом за ним — Слисаренко, Йогансен был без добычи и чертыхался, а у Слисаренко к поясу приторочена порядочная тушка.
Еще через минуту подошли и Бучма с Вишней. У них трофеев не было, и они несколько завистливо меня поздравили.
Все мы стали разглядывать мою добычу — чудесного большого жирного серяка.
И тут я заметил во рту у моего зайца как будто бы… бумажку.
Да, действительно, бумажка. Что за черт? Я вынул ее. Бумажка была сложена вчетверо, как записка.
Там было написано:
"Ах, Юрий Корнеевич, и за что вы меня убили?"
Бучма подстрелил зайца, и они с Вишней решили подшутить надо мной.
Вот этого я милому Павлу Михайловичу, пока жив, никогда не прощу.
Назад: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ "ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЕ" АНТИКИ
Дальше: Ирчан

