Глава десятая
— В больницу позвонить или сначала твоему отцу? — спросил Дэниел.
Я боролась с банным полотенцем, которое он мне принес, пытаясь вытереться.
— Да не знаю я, боже мой! — огрызнулась я. Мне было очень страшно.
— Ладно, тогда я позвоню в больницу, а ты пока ляг и постарайся расслабиться.
Я вытянулась на диване и стала внушать ребенку, чтобы он еще потерпел и не задохнулся там.
— На тумбочке моя карточка от акушера-гинеколога. Она им может понадобиться.
— Хорошо.
Дэниел вышел в коридор. Я стала молиться.
Вернулся он с совершенно довольным видом.
— Врачи приедут через десять минут. Итак, что ты должна взять с собой?
— Наверху спортивная сумка. Подожди, я с тобой. — Я начала медленно вставать.
— Нет, оставайся лучше в горизонтальном положении. Я все сам соберу.
— Там к ручке прикреплена бумажка, на ней написано, что еще надо! — закричала я ему вслед. — Не забудь мой плеер! И главное — не разбуди бабушку. Только ее сейчас не хватало!
Полежав секунд десять, я все-таки встала.
— Потерпи, крошка-банан, потерпи, — прошептала я. Зажимая между ног полотенце, я прошла к телефону и набрала номер отца. Слава богу, он дома.
— Слушаю, — ответил он с набитым ртом.
— Папа, ты можешь приехать прямо сейчас? Мне надо в больницу.
— Шарлотта? С тобой все в порядке? Что случилось?
— Кажется, роды начались.
Судя по его кряхтению, он подавился и закашлялся.
— Ты же должна была рожать в октябре!
Я заплакала.
— Сейчас приеду. Черт бы побрал твою мать, — сказал он и повесил трубку.
На лестнице показался Дэниел.
— Ну-ка ложись! — прошипел он.
Я хотела, чтобы Дэниел поехал со мной.
— Шарлотта, это неразумно. Я подожду твоего отца, а потом приеду к тебе в больницу. Иначе моя машина останется здесь, а я окажусь без средства передвижения и не смогу даже уехать оттуда.
И тут я зарыдала, не обращая внимания на то, что мы стояли посреди дороги и изо всех окон поглядывали соседи.
— Пожалуйста, не бросай меня. Я не могу одна, мне так страшно! — Я отчаянно вцепилась в его руку.
— У твоего отца есть ключ?
— Да, — ответила я, шмыгнув носом.
— Ну и ладно тогда. Идем.
Он ловко запрыгнул в заднюю дверцу «скорой».
* * *
— Я присоединю эти датчики к твоему животу, чтобы мы могли следить за сердцебиением ребенка, — сообщила мне акушерка-ирландка. — Не двигайся. Схватки начались?
По коридорам больницы меня везли в кресле-коляске. Мне это показалось довольно забавным: они что, думают: ребенок вывалится, если я сама пойду? Везли быстро, рядом рысил Дэниел. А теперь он стоял в ногах кровати. Мне не хотелось упускать его из виду. Мама уже ехала. Он позвонил ей из вестибюля больницы. Она сказала, что раньше, чем через пять часов, не доберется.
Я не знала, начались у меня схватки или нет.
— Там как будто что-то подрагивает, довольно регулярно, но это совсем не больно.
Она кивнула и указала на длинный лист бумаги, свешивающийся, как язык, из-под экрана.
— Тут мы сможем увидеть, когда начнутся схватки, — объяснила она.
По середине бумажки бежала извилистая черная полоса.
— Похоже на детектор лжи, — пошутил Дэниел.
Тук-тук-тук, — стучало сердце моего ребенка.
Акушерка вышла.
Дэниел ухмыльнулся:
— Твоя мама подумала, что я Пол.
— И что же ты ей сказал?
— Что я совершенно точно не он. Тогда она, по-моему, решила, что я врач.
— Это из-за твоего произношения. Она обожает правильную речь, как у ведущих Би-би-си.
— Знаешь, я могу притащить сюда телефон, если хочешь с ней поговорить. Судя по голосу, она, кажется, действительно волнуется. Сказала, что, если бы знала, никуда бы не уехала. Но она думала, что первый ребенок обычно появляется позже. — Он порылся в карманах джинсов. — Вот, у меня есть фунт мелочью.
— Не надо, — упрямо сказала я, и он не стал меня уговаривать.
Через десять минут пришел врач, чтобы сделать внутренний осмотр.
— Я подожду снаружи, — бросил Дэниел и исчез. Бедняга, ведь он совершенный паинька!
— Я доктор Батьяни, — с улыбкой объявил человек в белом халате. — Постараюсь сделать так, чтобы было не больно. А теперь согни ноги, щиколотки держи вместе и разведи колени.
Около минуты он что-то там делал, а я смотрела на вентиляционные отдушины на потолке. Надо сказать, было довольно больно.
— Раскрытие всего два сантиметра, — сказал он и накрыл меня простыней. — Но, судя по показателям, у тебя начались умеренные схватки. Несмотря на то что роды преждевременные, мы не будем их останавливать, иначе есть риск попадания инфекции. Вколем тебе прогестерон, чтобы помочь ребенку дышать.
Мое сердце сжалось от ужаса.
— Мой ребенок может не выжить?
— И ты, и твой ребенок в надежных руках, — успокоил он и вышел.
Примерно полчаса спустя начались настоящие схватки.
— Знаешь, это не так уж больно, — сообщила я Дэниелу, зачитывавшему мне вопросы из кроссворда в «Таймс». — Пока что мне кажется, роды — довольно скучная вещь.
— Я бы на твоем месте не жаловался, — пробормотал он, задумчиво грызя ручку. — Когда по телевизору показывают, как женщины рожают, это всегда выглядит пугающе. Они так жутко вцепляются в кресло и вопят, просто надрываются. Может, у тебя высокий порог чувствительности? Растение семейства бобовых, шесть букв.
Спустя еще час вернулась акушерка. Меня страшно тошнило. Дэниел снова сбежал, когда меня начало рвать в железный лоток.
— Теперь мне и правда больно. Нельзя ли какое-нибудь обезболивающее?
— Ничего, все хорошо. Уже шесть сантиметров.
Она указала на схему на стене, на которой были изображены концентрические круги. Самый большой — размером с целую чертову тарелку! Нет, я никогда не дойду до десяти, это совершенно ясно. Они что, думают, я резиновая?
— А-а-а-ааа-ААААА-аааааа! — взвыла я, накрытая очередной волной боли. Господи, как хорошо-то, когда она отступает. Но тут, как в центре циклона: понятно, что передышка — только временная.
— Можно дать тебе кислород и веселящий газ, но боль все равно придется потерпеть.
Она была такая радостная, деловая. Я ее ненавидела.
— Как это — потерпеть?
Совсем, что ли, идиоты? Не могу я терпеть!
— Делай частые и неглубокие вдохи. Как только подходят схватки — глубокий вдох и медленный выдох. Мычи, если от этого будет легче.
— А как же обезболивающие? Я хочу обезболивающие.
— Петидин тебе нельзя, потому что ты собралась рожать чуть-чуть рановато. Петидин влияет на ребенка, а он нам нужен крепкий и бодренький. Я дам тебе веселящий газ.
— Сделайте местную анестезию. В моем плане родов записано, что мне можно местную анестезию-у-у-у-ууу-УУУУУУУ-у-уууу!.. Господи. Не могу больше. Не могу.
Она сжала мою руку.
— Можешь. Все идет хорошо.
Подлая врунья.
— Анестезию!
— Анестезиолог сейчас занят. Как только освободится, я его позову, — поспешно сказала она.
На мои крики прибежал Дэниел.
— Шарлотта, что происходит?
— На фига надо было писать план родов, если всем на него на фиг наплевать?! — во весь голос завопила я. Пусть слышит эта лживая тварь. Из-за стены доносились еще чьи-то крики.
— Я где-то читал, что в средние века женщины жевали ивовые веточки. В них содержится натуральный аспирин. Прости. Уже заткнулся.
Влажной тряпочкой он вытер мне лоб и шею. Выражение его лица — глаза выпучены, губы сжаты — показалось мне страшно забавным. Треска пытается улыбнуться — вот как это называется. Если бы не было так больно, я бы расхохоталась.
Акушерка миссис Счастье вкатила тележку с баллоном веселящего газа и вручила мне маску.
— Вдыхай сразу же, когда почувствуешь, что подступает боль.
Я сделала глубокий вдох и чуть не потеряла сознание. Тут же снова нахлынула боль.
— Помогает? — беспокоился Дэниел, пытаясь прочитать надписи на баллоне.
— Какого черта?! Конечно нет! — ответила я, когда перестала вопить.
* * *
Поезд казался мне тюрьмой. Наедине со своими мыслями. Жуткие воспоминания накладываются одно на другое. Но сильнее всего — страх. Без просвета. Куда бы я ни смотрела, везде безобразные картины.
Казалось, они отпечатались на сетчатке, как зеленые пятна, когда долго смотришь на лампочку. Вместо равнодушных лиц в вагоне и сельского пейзажа за окном я видела эпизоды из прошлого и иногда будущего. Когда мы подъезжали к Манчестеру, уже темнело. Мое бледное, испуганное лицо смотрело на меня из стекла.
* * *
— Я хочу встать! — кричала я.
— Нельзя, нам надо, чтобы датчики были прикреплены к твоему животу. Лучше старайся правильно дышать. Уже немножко осталось. — Акушерка глянула на часы и что-то записала.
— Можно хотя бы футболку снять?
К этому времени футболка, которую я принесла с собой, вся перекрутилась. Господи, почему тут такая долбаная жарища?
— Э-э… — Краем глаза я видела Дэниела. — Слушай, Шарлотта, может, я пойду? Приехал мой отец, он отвезет меня к твоему дому, чтобы я смог забрать машину. Но если хочешь, я останусь. Потому что я всегда буду с тобой, если я тебе нужен.
Он взял меня за руку, и тут снова подступили схватки.
— Шарлотта? Шарлотта!
— Все в порядке, — ответила я, переводя дыхание. — Ладно, иди.
Мне надо сосредоточиться. Вот теперь я поняла, почему животные уползают рожать куда-нибудь в кусты. Его беспокойство, его забота, его дурацкая мокрая тряпка — вся эта суета мне только мешала.
— Ты точно хочешь, чтобы я ушел?
Я закрыла глаза. Может, подумает, что я потеряла сознание.
— Я бы посоветовала вам уйти, — прошептала акушерка. — Лучше приходите завтра с большим букетом цветов. — Она подмигнула.
— Он не оте-е-е-е-ееец! — простонала я. Но даже это не стерло с ее лица улыбочку.
— Тогда пока, — пробормотал он и слабо махнул.
Когда он ушел, стало легче.
* * *
Над головой замерцало табло:
Поезд до Болтона отправлением в десять часов пять минут… задерживается на тридцать пять минут. Приносим извинения за доставленные неудобства.
— Мне НАДО к моей ДОЧЕРИ! — закричала я.
От железной крыши отразилось легкое эхо.
Никто из людей, стоящих на платформе, не повернулся. В наши дни хватает психов.
* * *
— Шарлотта, слушай внимательно и делай как я говорю. — Голос доносился как будто сквозь толщу воды. — Шарлотта, уже показывается головка ребенка. У него чудесные черные волосики. Тужься как можно сильнее. Поняла? Упрись подбородком в грудь, вот так, и старайся его вытолкнуть.
Я не могла ничего ответить, но постаралась сделать, как она говорила. Нет слов, чтобы описать, что я испытывала. Мне казалось, я превратилась в гору напряженных мышц, в сплошную боль, я совершенно потеряла контроль над собой.
— Дыши чаще, тужься.
Я тужилась как могла, но сил оставалось все меньше.
— Не могу, — простонала я.
— Можешь. Давай постарайся. Ты же хочешь, чтобы ребенок вылез?
Ну что за дурацкий вопрос!
Я тужилась так, что, казалось, глаза вылезут из орбит, но толку никакого. Подумала обо всех рожавших женщинах в истории человечества. Ну почему никто не говорит, как это на самом деле больно? Интересно, они все так мучились? А ведь у некоторых женщин не по одному ребенку. У почтальонши миссис Шэнклэнд — семеро. Это значит, она семь раз вынесла такое?
— Шарлотта. — Это был уже мужской голос. — Это доктор Батьяни. Ну, как ты тут? — У него хватило ума не ждать ответа. — Я тебя осмотрел и пришел к выводу, что придется сделать надрез.
Он не сказал, где именно, но я и так знала. Нам про это рассказывали на предродовых занятиях, и тогда я подумала: «Ни за что не позволю делать себе разрезы. Ни за что!»
— Не бойся. — Он сверился с какими-то бумажками. — Мы сделаем местную анестезию.
«Ага! Теперь, значит, вы можете сделать чертову анестезию!»
— Эхххррррээээ, — выдавила я. Он решил, что я хотела сказать «да». Возможно, так оно и было. Мне уже так хотелось поскорее родить, что даже если бы доктору пришло в голову воспользоваться паяльником, я бы согласилась.
Дальше я не очень внимательно следила затем, что происходит вокруг, потому что ждала, когда сделают надрез.
— Тут к тебе пришли, — сообщил голос с ирландским акцентом. — Идите сюда, можете взять ее за руку.
Меня накрыла волна боли, я снова принялась тужиться.
— Умница, Шарлотта. Все идет хорошо, головка уже почти снаружи.
Кто-то плакал, прижавшись к моей щеке, и, когда я открыла глаза, я увидела, что это мама, моя мама, и она сжимала мою руку. Вылезла голова, а потом, как пробка из бутылки, выскочил ребенок — весь липкий и скользкий. Я рыдала, тяжело дыша. Мама выглядела так, как будто ломилась сквозь колючий кустарник; по щекам ее текли слезы.
Я прижалась к ней. Акушерка осматривала ребенка.
— Время рождения — двадцать три сорок два, — услышала я.
Когда ребенка положили на холодные весы, он закричал.
— Благослови его Бог, — выдохнула мама. — Платка нет. — Она вытерла глаза рукавом плаща, оставляя на бежевой ткани черные пятна туши.
Акушерка принесла мне ребенка. Я прижала его к груди. Он вертелся, несколько раз икнул.
— Мальчик. Два килограмма пятьсот пятьдесят граммов, — просияла она.
— Мальчик? Я думала, будет девочка.
Я с удивлением его разглядывала. Слипшиеся черные волосики, припухшие недовольные глазки. Получилось. Это мой ребенок.
На секунду наступила тишина. Мне казалось, протрубят фанфары, грянет салют, но слышно было только, как акушерка убирает инструменты. Ко мне наклонился доктор Батьяни и взял ребенка своими большими коричневыми руками.
— Мы еще не закончили его осматривать, — пояснил он и отнес ребенка к столу в дальнем углу палаты.
Мама обняла меня, поцеловала в макушку. Появилась медсестра. Стала вытирать меня.
— Сейчас уберем плаценту, и все, — объявила она жизнерадостным тоном, — можно сказать, закончили.
Мама с акушеркой привели меня в порядок, достали из сумки ночную рубашку, переодели меня и причесали.
— А теперь вы можете дать мне моего ребенка? — спросила я, все еще не в силах поверить, что я стала матерью.
— Мы ненадолго его заберем, надо дать ему кислород, — ответил доктор Батьяни. — Чтобы ему лучше дышалось.
Мы с мамой в ужасе переглянулись.
— Он может умереть?
Доктор покачал головой:
— Для тридцати четырех недель он довольно крепкий малыш. Но будет лучше, если в первую ночь мы поможем ему дышать. Вы уже выбрали ему имя? Я спрашиваю, потому что мне надо знать, что написать на бирке.
— Не выбрала. — На секунду я подумала, не назвать ли его в самом деле Файфсом. — О боже, мама, я не придумала ему имя.
— Не переживайте. Можно пока написать ваше имя. Ей нужно хорошенько отдохнуть, — обратился доктор к моей маме. — Но вы можете еще немножко побыть с ней.
От усталости у меня подрагивало все тело. Я закрыла глаза, прижалась к маме, хотя не делала этого с детства.
— Мам, я так рада, что ты приехала.
Она склонилась надо мной, поглаживая мою руку.
— Мы с отцом хотели поздравить тебя, — объявил материализовавшийся из ниоткуда Дэниел.
— У меня начались галлюцинации? — совершенно обоснованно удивилась я.
Он засмеялся.
Из-за его плеча выглядывал мистер Гейл. Мама оглядела их с ног до головы.
— Я думала, ты уже уехал.
— Папа разрешил остаться до полуночи, ты успела как раз вовремя.
— Я тоже, — пробормотала мама.
* * *
Часто ли родители просят прощения? (Увы, для начала большинство из них вообще не слушают своих детей, а потому даже не понимают, что они делают что-то не так.) Когда человек взваливает на себя груз ответственности за свое чадо — а это очень тяжелый груз, весит не меньше тонны, — ему начинает казаться, что он большой и умный. А происходит это так: вы только что вышли из супермаркета, и ваш малыш громко вопит — оказывается, он углядел на полке что-то совершенно ему не подходящее, например коробочку с мятной помадкой, и очень хочет, чтобы ее купили. Само собой, в таких случаях вы должны настоять на своем. Вы должны казаться уверенной в себе, иначе вдруг какой-нибудь проходящий мимо покупатель заметит вашу слабость и неуверенность и доложит кому следует, что вы не годитесь в матери, что вы только притворяетесь. Тогда у вас заберут ребенка, и ваша жизнь рухнет.
А еще надо, чтобы ребенок понял, что вы всегда знаете, как лучше, — ведь считается, что дети любят, когда есть жесткие рамки, и все такое. Но, честно говоря, мне кажется, дети не верят, что мы знаем, как лучше. Они понимают, что мы просто навязываем им свою точку зрения, пользуясь тем, что мы больше, можем ударить посильнее и накричать, а это не имеет никакого отношения к тому, знаем мы, как лучше, или нет. Но вы-то изо всех сил стараетесь быть хорошей матерью, и вот вы уже уверены — о чем бы ни зашла речь, вы всегда правы, а ребенок, если он не согласен с вами, само собой, не прав. Так коробочка с мятной помадкой становится символом твоего исключительного права на понимание мироустройства. И это продолжается до самой смерти. Поэтому и встречаются семидесятилетние старики и старушки, которых постоянно отчитывают их девяностолетние родители за то, что они сорят деньгами, редко приходят в гости, содержат дом в недостаточной чистоте и так далее.
У Ларкина есть даже целое стихотворение о том, как мама с папой достают свое чадо; заметьте, что в нем не говорится: «А потом, когда вы вырастете, они признают свои ошибки и от чистого сердца извинятся за содеянное, когда вы вместе будете попивать вино на изумрудной лужайке».
Но я нарушу эту традицию. Я извинюсь перед Шарлоттой, и пусть небеса разверзнутся, а земля уйдет под воду.
— Кажется, про нас забыли, — пробормотала она, положив голову мне на плечо. — Только что вроде суетились вокруг, а теперь… Ну и ладно. Побудем немного вдвоем, только ты и я. Я нормально выгляжу?
— Ты только что родила ребенка, поэтому без разницы, как ты выглядишь. А тот, с взъерошенными волосами, — это твой новый парень?
— Нет. Это мой друг… из школы.
— Друг, который приехал сюда вместе с тобой и сидел рядом, держа тебя за руку? Да такому другу орден причитается!
Я поерзала на кровати и посмотрела на ее влажные волосы и красные глаза. Шарлотта казалась сейчас маленькой девочкой, как будто ей только что приснился кошмар и она прибежала ко мне, чтоб я ее утешила, — так бывало не раз после того, как от нас ушел Стив.
— Шарлотта…
Она широко зевнула:
— Что, мама?
— Прости меня.
Она посмотрела на меня своими голубыми глазами и нахмурилась:
— За что? Ты ведь все равно приехала, поздновато, но все-таки… Я в порядке. Кстати, врачи сказали, что действие веселящего газа и кислорода быстро пройдет, но, думаю, это не так. Мне кажется, я сейчас могу взлететь под потолок. — Шарлотта уставилась на грязную плитку так, будто красивее ее она никогда ничего не видела.
— Да нет, я прошу прощения не из-за того, что уехала. Хотя мне и правда не следовало этого делать…
— А где ты была?
— В Лайм-Риджисе, — назвала я первый городок, который мне пришел в голову, вероятно, потому, что на прошлой неделе в «Гранаде» показывали «Любовницу французского лейтенанта».
— Откопала какой-нибудь скелет?
— В смысле?
— Я имела в виду ископаемые. Аммониты или еще что. Да ладно, это я так, чепуху болтаю, ты не слушай. — Она снова закрыла глаза.
— А, понятно. Просто там спокойно. А мне нужно было подумать. Но все равно не следовало уезжать, не предупредив заранее. Это нечестно. Иногда мне кажется, что я живу, руководствуясь справочником «Как стать плохой матерью». А временами мне даже кажется, будто я сама могла бы написать такой справочник.
— Ох, мама, есть матери гораздо хуже тебя.
Мне вспомнилось, как передо мной захлопывается дверь, и еще представилась хрупкая фигурка в углу — маленькая женщина, которую некому защитить. По щекам снова побежали слезы.
— Прости меня за то, что я тебе наговорила, когда узнала, что ты беременна, — сказала я, шмыгая носом. — Мне так хотелось, чтобы у тебя все было хорошо.
— Я знаю, мама. Давай больше никогда не будем ругаться. Ненавижу, когда мы ругаемся. Воздух прямо искрить начинает. И бабушка этого тоже не любит. — Шарлотта потянулась и попыталась перевернуться на бок. — Знаешь, когда я была маленькой, то часто ревновала тебя к бабушке, потому что ты проводила с ней все свободное время. Как-то раз ты мне сказала: «Любовь — не пирог, ее нельзя разделить на кусочки». А я ответила: «Да, но время можно. А часы даже похожи на пирог». Помнишь?
— Нет. — Боже мой, я это совсем не так поняла. — Прости меня, прости за то, что не уделяла тебе внимания.
— Нет, ты тут ни при чем, это просто я была эгоистичным подростком. Ты хотела как лучше. Теперь-то я это понимаю. Теперь я многое понимаю. И я очень люблю бабушку. — Шарлотта вздохнула и надолго замолчала.
Я подумала, что она заснула, и решила потихоньку встать и выключить свет.
— Расскажи мне, как у тебя родилась я. Почему-то я об этом никогда не спрашивала, — сказала вдруг Шарлотта.
Я снова облокотилась на спинку кровати.
— О, это я отлично помню. Тот день был, наверно, самым лучшим и самым худшим в моей жизни. Роды длились двадцать семь часов, пришлось использовать щипцы — вот почему у тебя на левой скуле отметина. Акушерка была совершенно ужасная. Когда я ей пожаловалась, она только пожала плечами: «Надо было раньше думать». Так и сказала. Сейчас на таких акушерок можно хотя бы пожаловаться главврачу. Стив не поехал со мной в роддом — сказал, что не в силах смотреть, как я мучаюсь. Жалкое оправдание. А бабушка вся извелась, потому что ужасно боялась потерять и меня, и тебя — ведь у нее не так давно умер муж. К тому времени, как ты все-таки родилась, бабуся уже все глаза выплакала. Она первой взяла тебя на руки — может, даже она сама и перерезала пуповину, надо будет спросить ее об этом. Подержала тебя и передала мне. Все медсестры говорили о твоих голубых глазках. А ты посмотрела на меня таким пронзительным взглядом, будто хотела сказать: «Ты — моя. Даже не думай отдавать меня в приют». И мое сердце оттаяло. Впервые за девять месяцев я поняла: ты — пусть еще маленький, но все-таки настоящий живой человек.
Я глянула на дочь, гордая моей речью, но Шарлотта уже заснула, сунув большой палец в рот.
* * *
Я проснулась с колотящимся сердцем, когда мимо палаты провезли тележку с завтраком. И тут же подумала: «Наверно, мой ребенок умер ночью, и врачи не решаются сообщить мне об этом». Я нажала на звонок, и юная медсестра тут же впорхнула в палату с какими-то листками в руках.
— Как мой малыш?
— Он отлично выспался. Сегодня мы переведем вас в общую палату. Но сначала можете принять душ, привести себя в порядок. Вы наверняка чувствуете себя уставшей, но это пройдет. А сейчас мне нужно вас осмотреть.
Она измерила мне температуру и давление, а я тем временем пыталась свыкнуться с мыслью о том, что у меня родился ребенок, что я стала матерью. Это наверняка какая-то ошибка. У меня не может быть ребенка, это нереально.
В общей палате было много вполне реальных женщин, у каждой рядом с кроватью стоял прозрачный пластиковый ящик с ребенком. Вот они-то наверняка чувствуют себя вполне уютно в роли матери. Возле моей кровати не было ребенка.
Я лежала, чувствуя себя самой большой в мире мошенницей. Женщина напротив достала своего малыша из ящика, запустила руку под ночную рубашку, вытащила грудь, приложила к ней ребенка и стала просматривать какой-то журнал, листая страницы свободной рукой. Меня удивило, с какой уверенностью она все это проделывает. Справа девушка примерно моего возраста меняла ребенку подгузник так ловко, будто всю жизнь только этим и занималась. Я попыталась заглянуть ей через плечо. Этот процесс показался мне невероятно сложным — ко всем прочим трудностям ребенок извивался, как змея. Закончив с подгузником, девушка стала надевать на малыша распашонку. Осторожно согнув крохотные ручки, она просунула свои пальцы в рукава, чтобы вытащить из них маленькие кулачки. В конце концов она подняла ребенка, поддерживая рукой головку, и позвала медсестру. Та принесла ей бутылочку, и малыш принялся пить, закрыв глазки. Я никогда не смогу все это проделать! Наверняка уроню его или сломаю ему руку. Лучше сразу сообщить персоналу, что я не гожусь в матери.
И тут медсестра привезла мне моего сынишку.
— А вот и мы, — сказала она, остановившись у моей кровати и нажав тормоз. — Это твоя мама. — Маленький сверток в тележке ничего не ответил. — Он еще спит. — Медсестра наклонилась над пластиковым ящиком и легонько дотронулась до головки малыша. — Какие у нас волосики!
— А это нормально, что он столько спит? — Я почувствовала, что снова начала паниковать.
— Конечно, нормально. Роды — дело тяжелое, и не только для мамы. Он сам проснется, когда будет нужно. Господи, да ты еще будешь молиться, чтобы он поскорее заснул!
Я наклонилась и посмотрела на его сморщенное личико. Малыш лежал совсем неподвижно. Я пригляделась, пытаясь определить, дышит ли он, но под пеленкой было не разобрать. Осторожно спустив ноги на пол — ой-ой-ой, — я начала разворачивать малыша. Наконец показалось его тельце. Дышит. Слава богу! Я снова забралась в постель и стала наблюдать за тем, как его грудь медленно поднимается и опускается. Мне казалось, что, если я отведу взгляд, он перестанет дышать.
Проснулся он аж после обеда. К тому времени я была уже окончательно уверена, что мой сын помрет с голоду.
— Пожалуйста, помогите мне его накормить, — жалобно попросила я медсестру.
Только я достала свою грудь, как пришла мама..
— О господи, надеюсь, ты одна? Не хватало еще, чтобы папа увидел меня в таком виде или Дэниел!
Мама закатила глаза и задернула занавеску вокруг кровати.
— Как дела?
— Кажется, я никак не могу заставить его как следует открыть ротик. — Я посмотрела на крохотную головку, которая слепо тыкалась в мою грудь. — Видишь, он не может понять, как это делается. Я думала, это инстинкт.
Медсестра помогла малышу найти грудь и подложила мне под локоть еще одну подушку.
— Погладьте его по щеке, тогда он откроет ротик.
Она взяла мою грудь и сунула сосок в рот ребенку. Я вздрогнула, потому что не привыкла, чтобы мою грудь трогал кто-то посторонний, и уж тем более женщина.
— Мне это не нравится. Какое-то странное ощущение.
Малыш потянул за сосок, выпустил его изо рта и завопил так громко и пронзительно, что чуть не оглушил меня.
— Думаю, тебе это не удастся, Шарлотта, это не так-то просто. Может, лучше кормить его из бутылочки? — предложила мама.
Я раздраженно посмотрела на нее:
— Дай мне еще один шанс. Я в первый раз пытаюсь его кормить. И потом, ты сама меня как вскормила?
Похоже, мама смутилась.
— Ну, ты-то сосала грудь до трех месяцев.
Я нахмурилась:
— Вот и он будет. Ну же, малыш! Давай! — Я приложила его к своей груди и снова почувствовала, как он прикасается губами к моей коже.
— Погодите-ка, — сказала медсестра.
Она чуть повернула его голову и, осторожно взяв меня за плечо, наклонила вперед. Он извернулся у меня на руках, присосался и тут же успокоился.
— Вот так, теперь все в порядке. — Она отступила на шаг и окинула нас оценивающим взглядом. — Только убедитесь, что он глотает. Вам надо будет всегда следить за этим. Конечно, это непросто, придется привыкать, но пугаться не стоит. Если еще понадоблюсь, позовите.
Мама подмигнула ей, и я поняла, что мне придется ее звать. Ну и ладно.
Малыш сосал грудь, а я неподвижно сидела на кровати, как королева, как мумия.
— Ну, — нарушила я тишину, воцарившуюся в палате. — Жеребята ведь как-то справляются. И поросята. И мышата тоже.
— И козлята, и телята.
— И щенята, и котята.
И мы обе расхохотались.
* * *
Тогда впервые за девять месяцев я поняла, что ты — пусть еще маленький, но все-таки настоящий, живой человек, и хотя твои голубые глаза были отцовскими, выражение у них — мое. Упрямство. Может, именно поэтому мы так часто ругались — ведь мы так похожи. Уже тогда я знала, что с тобой будет много проблем, но это ничего не могло изменить — ведь я поняла, что очень тебя люблю.
* * *
К младенцу Иисусу пришли трое волхвов, к моему сыну пришли мой папа, Дэниел и бабушка.
Папа оказался первым. Он ворвался в палату так, будто собирался брать ее штурмом.
— Что это с тобой? — спросила я, улыбаясь.
— Ненавижу больницы! Брррр. От этого запаха у меня мурашки по спине бегут.
Он сел на стул у кровати, но все еще держался очень напряженно, будто на него в любую секунду мог напасть неизвестный враг.
— Ну, как у нас дела? А, вот и он. Отличный пацан, правда? Просто классный. Молодчина.
— А сам-то ты как? Научился менять бабушке калоприемник?
Отец широко улыбнулся:
— Я позвонил в Общество помощи престарелым и слезно попросил кого-нибудь прислать, сказал, что позарез надо. Умолял их отправить ко мне хорошенькую молодую медсестру, по возможности блондинку.
— И как, прислали?
— Ага. Его звали Саймон.
Я захихикала:
— Так тебе и надо.
— Наверное. Да, чуть не забыл, я тут книжку тебе принес. Ты ведь без них никуда, верно? — Он вытащил из-под стула пакет и достал из него книгу издательства «Penguin». — Вот, держи. Я посмотрел на обложку и решил — самое то для Шарлотты. Я ее взял у одного парня с работы, у него в фургоне таких навалом.
Я взяла ее в руки.
— «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», — прочитала я. — Боже мой! Папа, ты настоящее сокровище! — Я крепко его обняла.
— А что такое? Ты же такую еще не читала? Понятия не имею, о чем она, но мне показалось, такая тебе должна понравиться.
Я уткнулась ему в плечо, чтобы заглушить смех.
Он скоро ушел, но прежде подарил мне еще кое-что.
— Наклонись-ка, я скажу тебе такое, за что ты будешь благодарить меня следующие пару недель. Лучшего совета тебе никто не даст. Ну же, давай, будет лучше, если я шепну тебе на ушко.
Сгорая от любопытства, я наклонилась к нему.
— Когда твой сынишка станет вопить, ты наверняка сразу помчишься к нему. Что ж, так и надо, наверное. Но будет и так, что ты не сможешь его успокоить, а он будет вопить и вопить без остановки, так громко и пронзительно, что захочется выкинуть его в окошко, лишь бы перестал орать. Ну вот, в таких случаях просто смени ему подгузник, попробуй дать бутылочку, проследи, чтобы он отрыгнул, а потом оставь его в покое. Выйди из комнаты, закрой дверь, спустись вниз и попей чайку в свое удовольствие. Не бойся. Никто не станет вызывать полицию. Небеса не разверзнутся, и Господь не покарает тебя за это. Отдохни минут пять, соберись с силами, а потом возвращайся к своему малышу. И тогда, если тебе очень повезет, ты увидишь, что твой маленький жулик спит сном праведника.
— Спасибо, папа.
— Да не за что.
Потом с огромным букетом цветов и книжкой Мириам Стоппард по уходу за ребенком пришел Дэниел.
— Не знаю, есть у тебя такая или нет, но отец говорит, что это серьезный труд. — Он бросил книгу на койку и сел на стул. — Ты отлично выглядишь, если учесть, что тебе пришлось перенести.
— Да ладно. Я выгляжу просто ужасно. И чувствую себя так же. Как будто меня грузовик переехал. Зато с ним вроде бы все в порядке. — Я кивнула на ребенка.
Дэниел приподнялся и поглядел на моего сына.
— Худенький, правда? Отец говорит, что он просто не успел набрать вес, но для его возраста это нормально. — Он осторожно ткнул пальцем ребенка. Тот не пошевелился. — Уже выучился каким-нибудь трюкам?
— Нет. Обидно, правда? А, нет, есть один трюк. Называется «черные какашки».
— Какая прелесть! — Он снова опустился на стул. — Уже придумала, как его назвать?
— Нет еще. Хочу посоветоваться с мамой. Может, она подскажет, какие имена были у моих дедушек-прадедушек. — Я глянула на ребенка, и меня опять, как электрический разряд, пронзило чувство нереальности происходящего. — Так странно, что он у меня есть.
— Еще бы. — Дэниел снял очки и стал протирать их краем футболки. — Прости, что я так себя повел в самом конце.
Я страшно удивилась.
— Ты что? Ты держался молодцом! И вообще без тебя я бы не выдержала первые часы.
— Ну да… вот только когда начались схватки, я не знал, что делать. Это ужасно — видеть, как ты мучаешься, и ничего не мочь сделать. Вдобавок, как я теперь понял, мне надо было повесить на шею плакат: «Я НЕ ОТЕЦ». Пару раз вышло очень неловко. Одна медсестра, например, спросила меня… — Он коротко хихикнул. — Нет, давай лучше в другой раз расскажу. Кстати, ты в итоге слушала ту кассету, которую для тебя записала Джулия?
— А, нет. Я совсем про нее забыла. Честно говоря, когда ко мне присоединили все эти провода, мне уже было не до плеера.
— Зато ты можешь послушать ее теперь. Вдруг она действительно поможет тебе расслабиться, отдохнуть?
— Хорошая мысль, — согласилась я.
Но когда Дэниел начал рыться в моем чемодане, я поняла, что с наушниками я не буду слышать ребенка. Не скоро же мне удастся походить с плеером.
Вечером пришла бабушка. Нарядная, как будто собралась в церковь, — в красном костюме, с бусами из жемчуга. Было видно: мама сделала все возможное, чтобы она выглядела прилично.
— Где наш малыш? — дрожащим голосом проговорила бабушка. Мама подвела ее к кроватке, она уставилась на ребенка в полном умилении. — У-у-у, ты мой сладкий. Ну, прямо как наш Джимми, такой же славненький. Разве не красавец? Как только люди могут причинять вред таким ангелочкам? Шарлотта, милая, он у тебя просто прелесть!
Она поцеловала меня. Я почувствовала запах ее духов. Мама пододвинула ей стул поудобнее, усадила. Бабушка не отрываясь глядела на ребенка.
— Дети — самое главное в этом мире. Да у него просто копна волос! Почти такой же красавец, как наш Джимми.
— Кто такой Джимми? — прошептала я маме. — И вообще мой ребенок самый-самый красивый!
— Конечно, — тихо ответила она. — Подожди, не говори пока ничего.
Я глядела, как мама смотрит на бабушку, и вдруг поняла, что теперь она стала относиться к ней как-то добрее. Трудно точно выразить, но раздражение исчезло. Хотя, может быть, мне показалось: все-таки гормоны бушуют.
— Можно, я возьму его на руки? — спросила бабуся, вся сияя от счастья.
Я посмотрела на маму.
— Думаешь, можно?
— Она не сделает ему ничего плохого. И я его придержу. Пусть подержит. Для нее это так важно.
Мама взяла ребенка и осторожно положила его бабушке на колени. Та придержала его голову рукой. Он проснулся, заморгал голубыми глазками. Бабушка замерла. Казалось, она старается не дышать.
— Ну как, все еще не придумала имя? — поинтересовалась мама.
— Нет. Я все думаю, на кого он больше похож, и… тут же впадаю в тоску. Ведь он не похож на Пола, правда?
— Если ты помнишь, я видела его всего два раза, и то почти год назад. Но даже если он будет похож на Пола, это еще ничего не значит. Главное не гены, а воспитание. Я в этом абсолютно уверена. — На ее лице появилось какое-то странное выражение.
— Наверное. Но раз ты точно это знаешь, тогда сообщи об этом ученым, чтоб они не тратили зря время. Во всяком случае, я молю Бога, чтобы он не был таким, как Пол. Надеюсь, мой сын не вырастет таким подлецом.
— Мы его воспитаем, — пообещала мама. — Он будет знать, что такое хорошо и что такое плохо.
— А если начнет путать, мы его отшлепаем.
— Ни за что, — тут же возразила мама. — Мы найдем другие методы воспитания. Детей бить нельзя.
На секунду я лишилась дара речи.
— Черт побери, мама! — закричала я. — Когда я была маленькая, ты, кажется, придерживалась другого мнения. Меня-то ты шлепала только так! Один раз даже в обувном магазине…
— Знаю, знаю. Прости меня.
Мне показалось, что она вот-вот заплачет, и я не стала развивать эту тему. Странно, я думала, гормоны бушуют только у меня. Может, это заразно?
Бабушка запела малышу:
Мне не нужно золота —
Есть твои волосики;
Мне не нужно жемчуга —
Зубки есть твои;
Глазки, как алмазики,
Прямо в душу просятся.
Ах, зачем мне золото,
Если есть они!
— Какая чудесная песенка! Бабушка, ты просто умница. Правда, волосики у него совсем не золотые…
— Зубов у него тоже нет. Но думаю, ему все равно понравилось.
— Как мы его назовем, ба?
— Э-э… скоро у тебя вырастут зубки, — проворковала бабушка, обращаясь к малышу. — Скоро вырастут. Прекрасные зубки.
Она качала головой, а ребенок смотрел на нее своими круглыми непонимающими глазами.
Мама достала из сумки ежедневник с золотым обрезом.
— Я тут выписала кое-какие имена наших родственников. — Она полистала страницы, пока не нашла закладку. — А, вот. Ну, во-первых, Билл… Уильям, если хочешь. Бабуся будет в восторге, если ты его так назовешь. — Она улыбнулась бабушке, но та не заметила: все ее внимание было поглощено ребенком. — Есть еще Гарольд, можно звать его Гарри. Так звали бабушкиного отца. И Джимми, конечно же. Это ее брат.
— Я и не знала, что у нее был брат.
— Он рано умер. Кажется, попал под трамваи. Или это был ее отец? Я что-то путаю. У нашей бабуси была нелегкая жизнь. Ее мать умерла, когда бабусе было тридцать, а отец — когда она была еще подростком.
— Прямо как и твой отец…
— Да. Он бы полюбил нашего малыша.
Она перевела взгляд с головы бабуси, где под редкими седыми волосами просвечивала розовая кожа, на покрытую черными волосиками голову моего сына с темными пятнами. У бабушки кожа была бледной, тонкой, с мелкими коричневыми пятнышками.
Мама вздохнула и тут же широко зевнула.
— Извини, я смертельно устала.
— Ты?
— Ладно, ладно. Я помню, каково это. — Она снова заглянула в ежедневник. — Да, есть еще Питер. Так звали ее дедушку или прапрадедушку.
Я поправила лямочку бюстгальтера и поморщилась.
— Семьи — они прямо как айсберги. Столько всего в глубине.
— Только айсберги не скрывают так много тайн, — заметила мама, закрывая ежедневник.
* * *
Мое самое ранее воспоминание — как я сижу у камина, гляжу на красные отсветы углей и качаю колыбельку с Джимми. А бабушка Марш поет ему:
Мы рады тебе, Бонни Брид, Бонни Брид,
Хотя и пришел ты незваным…
Она всегда звала его Бонни Брид. Он был настоящим ангелочком. Но я не завидовала. Мне только хотелось, чтоб он вырос поскорее и мы смогли играть вместе. В восемь лет он уже плевался лучше всех мальчишек с нашей улицы. Сам выпивал заранее лимонаду, а других угощал арахисом. Надо плеваться, а у них у всех рты и пересохли. Он так во всех играх побеждал. А если мне было грустно, он пел мне «Пощекочи меня, Тимоти, пощекочи», пока я не начинала смеяться. Он всегда умел развеселить. Однажды мы играли в пиратов, залезли под стол, он дернул ножку и она отломалась. Маме я сказала, что это я сделала, хотя и разбилась ее любимая чашка. Я должна была лучше за ним присматривать. Если бы в тот день у канала я была с ним…
* * *
Краем глаза я заметила, что что-то не так.
— Ба?
Бабушка медленно сползала со стула, ребенок покатился с ее колен. У меня замерло сердце, но мама успела его поймать. Из угла рта у бабушки потянулась нитка слюны — прямо на ее бордовый жакет.
Мама положила ребенка на место и бросилась к бабушке.
— Шарлотта, скорее! — закричала мама. — Нажми на кнопку, вызови медсестру. — Я отреагировала не сразу, как завороженная глядя на бабушку, которая сдувалась как проколотый воздушный шарик. — Живее! У нее, должно быть, удар!
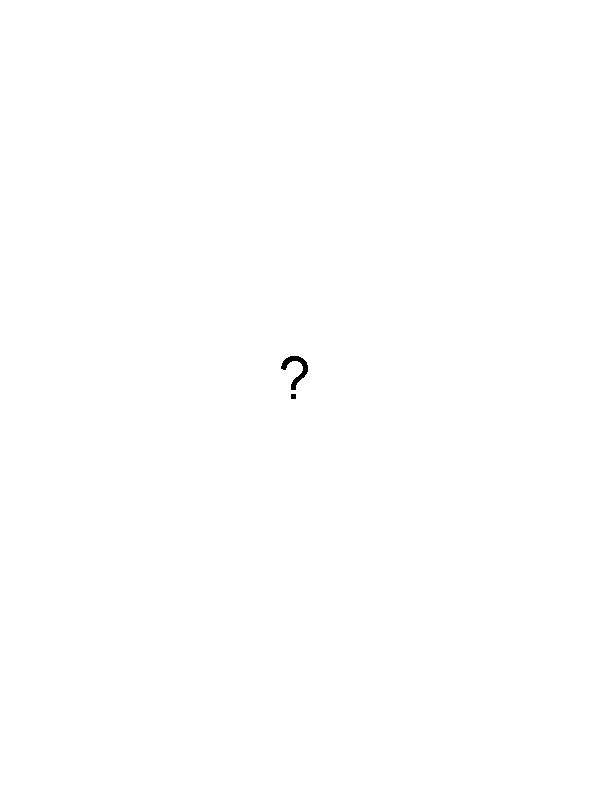
Говорят про туннель со светом в конце. Но я оказалась на берегу реки в Эмбли. А рядом со мной был Джимми.
— Как жизнь? — спросил он, широко улыбаясь.
— Хорошо выглядишь, учитывая, что ты… — начала я, но он только рассмеялся и взял меня под руку.
Он потянул меня в сторону моста. Погода чудесная, в воде отражаются берега. Так тихо. Вскоре я увидела на той стороне людей. Они расположились там на пикник. Расстелили на земле одеяло, поставили бутылки вина и корзину, доверху набитую пирогами, булочками и разными вкусностями. Вокруг возились малыши. Одни лежали и болтали ножками, другие хлопали ладошками по траве, агукали. И, что странно, никто на них не прикрикивал. Один из малышей даже подобрался к корзинке, стащил пирожок и стал его грызть — видимо, зубик резался. Одна девочка в летнем платье и кофточке лежала на траве и выдувала мыльные пузыри с помощью проволочки, скрученной в колечко. Джимми крепче сжал мою руку, а я пожала его. «Я умираю, — подумала я. — Как это прекрасно».
— Гляди. — Джимми махнул туда, где под деревьями сидели бабушка Марш с бабушкой Фентон. Бабушка Марш держала моток красной пряжи, а бабушка Фентон сматывала ее в клубок. Они болтали, и так оживленно, что даже не заметили меня. Джимми ткнул меня пальцем под ребра и скорчил рожу. Я обняла его.
— Ты совсем не изменился.
Он пожал плечами. Я хотела спросить про маму и папу, но что-то подсказывало мне, что еще рано.
До нас донесся звук альтгорна, и я поняла, что это Билл. Он стоял у воды, почти не двигаясь. Не помахал мне, не перестал играть. Но я знала: он для меня играет. «Странник в раю». Музыка летела над рекой. Казалось, каждая нотка — это свет, это слово, которое он говорит мне. И такая любовь разлита в воздухе, что даже голова кружится. Тут никто никуда не торопится. Он подождет меня.
Мы почти дошли до моста.
— Идем, — сказал Джимми. — Уже недалеко.
Он тянул меня за руку. Глаза у него сияли. Мне захотелось побежать со всех ног. У меня вдруг появилось столько сил, что казалось, я могу перепрыгнуть через канал. Я уже коснулась кладки моста, но тут начала сгущаться темнота. Все стало разваливаться. У меня перед глазами появилась точка света. Она все увеличивалась, приближалась. Все быстрее и быстрее.
Назад: Глава девятая
Дальше: Глава одиннадцатая

