В КИЕВЕ. У ЛЕСИ
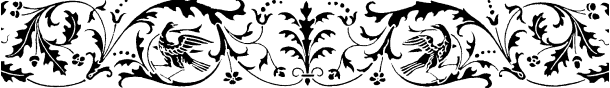
Оставив пожитки в камере хранения, Павел и Инна пешком отправились на улицу Пушкинскую, в Русский драматический театр имени Леси Украинки. Перед этим они с полчаса проторчали на перроне, высматривая Леонида Викторовича, обещавшего встретить лично, если телеграммой сообщат о дне прибытия. Телеграммой сообщили, но Леонида Викторовича на перроне не оказалось. Из многолюдного он превратился в пустынный, а знакомой фигуры не было видно. Наверно, что-то случилось. Какое-то неотложное, внезапно обозначившееся дело помешало обязательному Варпаховскому выполнить свое обещание.
Павла, впрочем, это нисколько не огорчило. Он не любил, когда его опекали, позволял это делать только Инне, да и то потому, что она получала от этого удовольствие. Иногда даже нарочно придумывая себе какую-нибудь немочь, чтобы она повозилась с ним. Не огорчилась и Инна. Радом с Пашей она чувствовала бы себя уверенно в любом городе.
Оба все еще находились под тем впечатлением, которое внезапно обрушилось на них, когда поезд, миновав Дарницу, последний пригород Киева на равнинном левом берегу, вплотную приблизился к Днепру и распахнулся, заставив оцепенеть от восторга, фантастический по красоте вид на вознесенные к небу кручи правого берега, увенчанные ансамблем Киево-Печерской лавры. Часть ее строений опутывали еще восстановительные леса, но ребристые купола церквей и изящные шпили стройных колоколен ликующе сверкали золотом.
Склоны круч, покрытые рыжими деревьями, стремительно сбегали к Днепру. Острым взглядом Павел различил среди деревьев паутину извилистых аллей и тропинок. Над Днепром, значит, был разбит парк. Простор Днепра, сливаясь с синевой Левобережья, казался бесконечным, и Павел как-то сразу поверил Гоголю, что редкая птица долетит до его середины. А в школе, помнится, сомневался в этом, считал, что присочинил Николай Васильевич. Слитность судеб украинцев и русских, спасительную необъятность их совместных пространств имел, очевидно, в виду писатель, когда переносил на бумагу образ, мелькнувший яркой вспышкой в его сознании…
Впечатление, полученное в последние минуты пребывания в вагоне, оказывало сильное воздействие на восприятие Павлом и Инной улиц, площадей и бульваров, которыми они шли. Тронутый позолотой ранней осени город был прекрасен. Невольно Павел сравнивал его с Тбилиси. Столица грузин тоже была прекрасна, но здесь, в Киеве, все было как-то роднее, милее, знакомее и желанней.
Обилие красивых женщин ошеломило. Стоило взгляду Павла обласкать одну, как тут же, словно дразня, возникало несколько других, одна другой краше. Глаза разбегались… Нигде и никогда раньше не видал Павел столько огромных – черных, карих, синих, малахитовых – глаз, столько ярких пухлых губ, столько точеных грудей и бесподобно вылепленных попок, столько свежей и гладкой, цвета молока с кровью, кожи, столько толстых кос и тяжелых грив, столько вкрадчивости в движениях и затаенного, обещающего что-то немыслимое, женского обаяния, сколько увидел в первые часы своего пребывания в Киеве.
А как киевлянки одевались! Темных тонов, к которым тяготели грузинки, здесь не признавали напрочь. Блузки, юбки и платья отличались невообразимым разнообразием. Предела в выдумке покроев для киевлянок, похоже, не существовало. Женщины придавали улицам, и без того по-южному веселым и нарядным, еще более веселый нарядный вид. «Ах, вы мои рыбоньки! – с восторгом думал Павел, предчувствуя, какие захватывающие дух приключения его ожидают, – вот я вам ужо!..»
Инне город нравился тоже. Но очень скоро она перестала воспринимать его красоты. До мозга костей женщина, она быстро почувствовала возбуждение мужа и тут же, осмотревшись, установила его причину. Если в Тбилиси, где просто хорошенькая женщина – заметное явление, а красивая – огромное событие, Павла невозможно было отвлечь от определенного рода увлечений, то что же ожидает его (и ее тоже) здесь, где едва ли не каждая вторая женщина, очутись она в Тбилиси, заставила бы ходить за собой толпы мужчин?.. Тем более что и киевлянки засматривались на Павла. Нет, ее надежде на то, что Паша угомонится, сменив среду обитания, сбыться явно не суждено. В этом смысле среда, в которую они готовы были погрузиться, оказывалась опасней, чем та, из которой вынырнули.
Не суждено было сбыться и второй, не менее пламенной надежде озадаченной женщины – на Крещатике, которым они сейчас шли, заметила она большое количество автоматов, за пару пятнадцатикопеечных жетонов, опущенных в щелку, наполнявших стакан сухим или крепленым вином – смотря какую надавишь кнопку. Павел подходил уже пару раз к этим автоматам, отметил свое прибытие в столицу Украины.
Вокруг людей, стоящих перед автоматами, роилось множество ос и городских пчел. Крылатые алкоголички густо облепляли наполненные стаканы, особенно вермутом или портвейном. Павел безбоязненно отгонял насекомых, не опасаясь раздражить их. Странно, но ни осы, ни пчелы не выказывали враждебности, словно признав в Павле своего. И вообще: с первых же минут своего появления в Киеве он вел себя так, будто здесь родился и вырос. «Чоловичьи капелюхи, – с удовольствием произносил он вслух надписи на вывесках заведений по обслуживанию населения. – Перукарня…»
И все-таки Инна Александровна ни разу не пожалела впоследствии о том, что они без оглядки оставили Тбилиси. Щедро наделенная природной интуицией, она всем своим существом чувствовала, что Театр имени А. С. Грибоедова для Паши – пройденным этап, продлевать который опасно. Как и сам Павел, Инна больше всего на свете не хотела, чтобы он закоснел в профессии, перестал расти как актер. Ради того, чтобы это никогда не случилось, Инна Александровна была готова на любое, даже на ущемление женского самолюбия. Полагая, что ей не дано стать большой актрисой, для этого недостает дарования, все свои помыслы в этом плане она сосредоточила на Павле Борисовиче. Сменить творческую обстановку ей казалось сейчас самым важным, насущно необходимым.
С первого дня своего появления в Тбилиси, к тому же, она и мысли не допускала, чтобы навсегда остаться в этом городе, связать с ним свою судьбу. Да, многое здесь привлекательно, особенно для мужчин. Но женщинам – особенно русским – жить сложновато… Все минувшие пять лет она ощущала себя в Тбилиси как на бивуаке, первом на трудном и длительном переходе. За эти пять лет она так и не сумела ни привыкнуть, ни приспособиться к обычаям жителей Тбилиси, изрядно подустала от них. На постоянные приставания мужчин на улицах она научилась не обращать внимания, сколь бы откровенными они ни были. Но как свыкнуться с обычаем продавцов, в магазинах ли, на рынках ли, не давать сдачи? А за напоминание о ней выслуживать презрительные обвинения в мелочности. И попробуй-ка поинтересоваться, кто мелочный: тот, кто требует свое, или тот, кто присваивает чужое?.. В лучшем случае услышишь совет устанавливать свои порядки в России, в худшем – запустят в лицо горстью монет…
Чего-то и для себя ожидала все-таки Инна Александровна от переезда в Киев. И ожидания не обманули ее: два важнейших события свершились в ее жизни в этом городе. Первое – на сцене Театра имени Леси Украинки ей довелось испытать лучшие мгновения своей творческой судьбы – успех в нескольких ролях сразу, второе – рождение дочери Ларисы…
Описание маршрута от вокзала до Театра имени Леси Украинки, сделанное Леонидом Викторовичем в одном из писем, оказалось настолько понятным и точным, что улицу Пушкинскую удалось отыскать без осложнений. Более того, сразу же очутились перед величественным фасадом здания театра. Парадный вход, через который проходят зрители, в этот час дня, естественно, был наглухо заперт. Следуя указаниям Варпаховского же, отыскали «причинное» место, как он назвал служебный вход, использовав, очевидно, жаргонное словечко местной актерской братии. К входу вело крыльцо настолько просторное, что на нем легко поместилась солидная уличная скамейка.
Любая профессия накладывает свой отпечаток на всякого, кто к ней причастен. В нескольких пожилых и одном молодом мужчинах Павел уверенно определил актеров. Перед ними дрыгался и юлил небритый еврей, норовивший каждого, кто сказал что-то, облобызать в знак одобрения. От него отворачивались, его отталкивали, но он все равно лез. Кажется, и о нем упоминал Леонид Викторович, аттестовав его местной достопримечательностью, слегка чокнутой, но безобидной. Еврей держал под мышкой пачку газет и журналов, снабжая, должно быть, работников театра печатной продукцией. И действительно, несколько газет и журналов перекочевали из пачки в руки стоявших. А еще от еврея вкусно пахло вяленой рыбой…
Прежде чем коллеги обратили на него внимание, Павел успел выловить из их разговора два слова, верней две фамилии: Товстоногов и Лавров. О первом он слышал в Тбилиси. Говорили, что этот грузинский еврей, приняв в Ленинграде захудалый театр, за три или четыре года сделал его лучшим не только в Северной столице, но, может, и во всем Союзе. Фамилия Лавров Павлу ни о чем не говорила…
Актеры с любопытством уставились на Павла и Инну, а небритый еврей с газетами и журналами под мышкой дернулся к Павлу, намереваясь, кажется, облобызать и его, но тут же остановился, вовремя сообразив, что перед ним совершенно незнакомый человек.
Всем своим видом, однако, он как бы уведомлял: ничего, милый, потерпи, никуда и ты от меня не денешься…
Впоследствии выяснилось, что еврея звали Шаей, что он действительно был слегка не в своем уме, что кроме газет и журналов он промышлял еще и продажей таранок, считая на этом основании себя большим другом актеров киевских театров – имени Леси Украинки и имени Ивана Франко.
В просторных коридорах театра было светло и прохладно. Тишина, привычная для любого театра страны в этот час дня, обступила Павла и Инну. Миновали фойе, стены которого были заполнены портретами корифеев Театра имени Леси Украинки. Откуда-то доносились голоса и шумы репетиции. Павел позавидовал участвующим в ней людям.
– А почему в Тбилиси Русский драматический театр назван именем А.С. Грибоедова или, к примеру, Ереванский русский драматический театр именем К.С. Станиславского, а Киевский русский театр драмы носит имя некоей Леси Украинки? – сам не замечая того, бормотал Павел, невольно испытывая робость и неуверенность, хорошо знакомые любому, кому случалось устраиваться на новое место службы и кому предстояло общение с людьми, от решения которых зависело, как сложится судьба дальше. – Не нашли подходящего русского имени? Лермонтов или Толстой их не устроили?..
– Что? – не расслышав, переспросила Инна, но они подошли уже к кабинету художественного руководителя.
– Вообще-то он занят, – ответила секретарша Михаила Федоровича Романова, но, внимательно присмотревшись к Павлу и Инне, добавила: – Ладно, проходите.
Художественного руководителя Русского драматического театра имени Леси Украинки Павел и Инна застали в весьма возбужденном, может быть, даже вдохновенном состоянии: вооружившись авторучкой, он решительно вымарывал текст из какой-то рукописи, лежавшей перед ним на массивном столе.
Справа от Михаила Федоровича, низко наклонившись, стоял пожилой грузный человек, то и дало поскребывавший пухлыми пальцами обширную лысину. С портрета на стене за ними зорко присматривал Никита Сергеевич Хрущев. Совсем недавно это место занимал, разумеется, портрет Сталина. Павел давно заметил, что на всех портретах наши вожди и руководители выглядят писаными красавцами.
– Ну тут-то болтовня зачем? – с недоумением говорил худрук и решительно вычеркивал очередную фразу.
– Может, ее-то пощадить? – заступался за фразу лысый. – Автор очень дорожит ею. Когда читал, голос у него дрожал и срывался от переизбытка чувств.
– Так вот, Владимир Александрович, этот переизбыток сыграть надо, а не словоблудить! – пылко возразил Михаил Федорович и, выбежав из-за стола, показал, что надо сделать вместо того, чтобы говорить. Да так показал, что все присутствующие в кабинете увидели смертельно удрученного человека, только что узнавшего про что-то чудовищное по своей подлости, про что-то такое, во что не поверишь, пока не услышишь собственными ушами. Только что сильный человек был сокрушен, повержен в прах, растоптан и обезличен…
– Сдаюсь, – сказал мужчина, звавшийся Владимиром Александровичем. По лукавству, блеснувшему в его добрых глазах, Павел догадался, что он подсунул худруку текст специально: проверить на нем свои сомнения относительно некоторых моментов этого текста и, ежели они подтвердятся, с его помощью устранить их.
Худрук вернулся за стол, вчитался в текст и вычеркнул еще одну фразу.
– Пусть меня осудят авторы… крр… ритики! – запальчиво воскликнул он и черканул еще раз – решительно, размашисто…
То, что делали эти двое, походило на великолепно сыгранную сцену из спектакля, первыми зрителями которого Павлу и Инне посчастливилось стать. Жалко был прерывать ее. Они бы и не отважились на это, не обрати вдруг Михаил Федорович на них внимание.
– А вы, как я полагаю, Павел Борисович Луспекаев из Тбилиси, – неожиданно огорошил он. – И ваша жена, Инна Александровна Кириллова?
Павел и Инна обомлели, на какое-то время утратив дар речи. А они-то решили, что их и не заметили. Не только заметили, но и рассмотрели как следует, и сообразили, кто они и откуда прибыли. Все, что происходило в этом уютном, старомодном кабинете, пока что Павлу и Инне очень нравилось. Появилась надежда, что и дальше все будет не хуже.
– Очень! Очень жалел Леонид Викторович, что придется разминуться с вами, – продолжал Михаил Федорович приветливо, но изучающе-цепко всматриваясь то в Павла, то в Инну. – Его срочно попросил вернуться в Москву министр культуры. А еще больше жалел, что, возможно, не сбудутся ваши с ним планы. В Киев, надо полагать, он не вернется. Ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться.
Так вот почему Леонида Викторовича не оказалось среди встречающих. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он отбыл из Киева трое суток назад. Это обстоятельство огорчило Павла, но не ослабило его уверенности, что в театр Леси Украинки его примут. Не могло быть такого, чтобы людям, которые так понравились ему с первого взгляда, не понравились они с Инной. Чувствуется же, что все они одного поля ягоды. Да и рекомендация Леонида Викторовича кое-чего стоит.
Предчувствие не подвело Павла. Сбив в стопку урезанные страницы текста пьесы и передав ее Владимиру Александровичу, скромно, но заинтересованно отсевшему в сторонку, Михаил Федорович попросил появившуюся в дверях секретаршу выяснить, в театре ли некий товарищ Мягкий и, если в театре, пригласить его сюда.
– Хорошо, Михаил Федорович, – улыбнулась женщина – было видно, что общение с шефом радует ее, – и вышла, тихонько притворив за собой дверь.
– Товарищ Мягкий – директор нашего театра, – пояснил Павлу и Инне Владимир Александрович. – Но пусть вас не введет в заблуждение фамилия Виктора Ивановича. «Он не мягкий, он не мягкий, он не мягкий, а кремень!» – продекламировал он вдруг каламбур Пушкина о Глинке, переделанный применительно к местным условиям. Воспользовавшись удобным предлогом, Романов представил Павлу и Инне Владимира Александровича. Он оказался штатным режиссером-постановщиком театра Нелли.Знакомство с Виктором Ивановичем Мягким, директором Русского драматического театра имени Леси Украинки, в отличие от знакомства с главным режиссером и художественным руководителем Михаилом Федоровичем Романовым и одним из лучших режиссеров-постановщиков Владимиром Александровичем Нелли произвело на Павла и Инну двойственное впечатление. Все настораживало в нем: и добродушие, не слишком-то сочетавшееся с холодком в зрачках, и то, что, когда он улыбался, глаза опять же оставались холодными, прощупывающими… Даже то, как сообщил он, что когда-то тоже был актером, оставило неприятное ощущение – будто он и Павла винил в том, что перестал заниматься делом, к которому был предрасположен.
Продолжая улыбаться, Виктор Иванович твердо отклонил настоятельное, основанное на рекомендации Варпаховского, предложение Романова утвердить Павлу высшую ставку и согласился на те условия, на которых артист работал в Тбилиси… Леонид Викторович, бесспорно, авторитет, но правила есть правила. Иногда – к тому же – случается, что актер, блиставший в одном театре, тускнеет при переходе в другой.
Главный режиссер помрачнел, но промолчал. С формальной стороны придраться к чему-либо в поведении или к тому, что говорил директор театра, было невозможно. И Павел почувствовал: если у него в театре возникнут проблемы, они, прежде всего, будут связаны именно с этим человеком. Позже в том же самом предчувствии призналась Инна.
Так оно впоследствии и оказалось. Но справедливости ради надо оговориться: Виктор Иванович Мягкий умел – и любил! – создавать проблемы едва ли не каждому творческому работнику театра, особенно тем, кого подозревал в претензиях на его служебное кресло. Он являл собой разновидность культурника Шока из спектакля «В сиреневом саду», только в более масштабном воспроизведении, занимающем более высокий служебный уровень. Недолюбливал он, мягко говоря, и актеров, выдававшихся из ряда вон своим талантом или независимым характером. Тех же, в ком эти качества совмещались, как, например, у Олега Ивановича Борисова, люто ненавидел, тщательно скрывая, однако, свою ненависть. На отношение к ним оказывала, несомненно, влияние его собственная – незадавшаяся – актерская судьба. Что, впрочем, его не оправдывает: история театра хранит немало примеров, когда неважные актеры нашли себя в умелом руководстве труппами и, сумев перешагнуть через свое самолюбие, мнительность и зависть, создали прекрасные театры. Ярчайший пример тому – деятельность Юрия Петровича Любимова, основателя знаменитой «Таганки», в прошлом именно из тех актеров, о которых мы говорим…
За несколько лет своего правления Виктор Иванович приучил творческий и производственный коллективы театра к общим собраниям. Поводом служили разные события – от решения судьбы какого-нибудь осветителя, явившегося на спектакль мертвецки пьяным, и актера, ушедшего от «законной» жены к другой женщине, или актрисы, осмелившейся зажить гражданским браком с кем-нибудь из своих коллег… (и первое, и второе, и третье бескомпромиссный товарищ Мягкий считал моральным и нравственным разложением, тлетворным влиянием упаднической, обреченной на неминуемое поражение идеологии Запада на некоторых неустойчивых граждан, особенно из среды так называемой «творческой интеллигенции»), до предложения художественного руководства осуществить постановку той или иной пьесы. Заправляли на этих собраниях партком, членом которого Виктор Иванович являлся по должности, профком – Виктор Иванович был и его членом, и комитет комсомольской организации, деятельность которой, разумеется, направлялась и контролировалась парткомом и дирекцией. Таким образом, по мнению Мягкого, осуществлялось мудрое руководство партии на одном из ответственных участков культурного строительства в Киеве.
Легко представить, что творилось на таких собраниях, каким унижениям подвергались «провинившиеся» актеры, актрисы и режиссеры, особенно те, чьи имена были прославляемы театральной публикой, со стороны «народа» – активистов парт., проф. и комкомитетов, которым перед каждым собранием строго предписывалось, что, после кого и как говорить.
На одном из таких сборищ Виктор Иванович Мягкий «обессмертил» себя фразой, которую наверняка включат в текст на мемориальной доске, если таковую доску установят наконец в увековечение памяти товарища Мягкого.
Обсуждали предложение Михаила Федоровича Романова поставить спектакль по классической пьесе Алексея Толстого «Царь Федор» с Олегом Ивановичем Борисовым в главной роли. Выступления активистов из «народа», «не понимавших», для чего во время бурного строительства социализма, во время развернувшегося по всей стране соревнования рабочих и колхозников за высокое звание ударников коммунистического труда, во время освоения целины и великих сибирских строек нужно ставить спектакль о каком-то царе Федоре – к тому же и москале, опрометчиво оговорился кто-то, ну ладно бы еще про «большевика на престоле», – следовали одно за другим, как было запланировано.
Подытоживая высказывания своих активистов, стремясь подкрепить «весомость» их доводов уже совершенно неопровержимым, Виктор Иванович – внимание! – произнес: «Что, ради одного артиста всем бороды клеить?..»
Пройдет не более года, и директор Мягкий попытается устроить собрание, на котором пожелает обсудить «моральный облик артиста Луспекаева». Сейчас же Павел доволен был тем, что получил. Все, в общем-то, устроилось так, как они желали. Павла зачислили в основной состав, а Инну во вспомогательный. В качестве жилплощади молодым супругам отвели гримуборную на втором этаже театра. Здание было возведено при царе, гримуборные были удобные и просторные. Вскоре выяснилось, что в таких же условиях и на таких же правах проживают не одни они. Точно в таком же положении находились актеры и актрисы Лев Брянцев, Евгений Конюшков, Валентина Николаева, Олег Борисов и Кирилл Лавров. Впрочем, Олег Борисов, удачно женившись на дочери бывшего директора театра Латынского, уже не жил здесь, перебравшись в апартаменты тестя, а Кирилл Лавров недавно переехал в Питер по приглашению того самого Товстоногова. Так вот о чем судачили актеры на крыльце при служебном входе театра. Столь крутой поворот в судьбе молодого актера они считали, надо думать, огромной и, может быть, не вполне заслуженной удачей.
Догадавшись об этом, Павел ощутил в себе некоторую досаду: для кого-то зачисление в труппу театра Леси Украинки целое событие, а для кого-то – пройденный этап, перевернутая страница биографии…
Печалиться, впрочем, об этом не приходилось. Вхождение в труппу, общение с актерами, как с ютившимися в театре, так и жившими в городских квартирах, знакомство с Киевом и с его достопримечательностями поглощало все время, не оставляя ни минуты свободной. Вечерами, к тому же, Павел читал произведения Леси Украинки, взятые из библиотеки театра…
Особенно близко Павел сошелся с Олегом Борисовым. Ему казалось, что он встречал его в Москве, но где и при каких обстоятельствах, не мог вспомнить. В одно с ним время Олег учился в Школе-студии МХАТ, жил, как рассказывал, с родителями в дряхлом домике у Окружной дороги. Может, навещал иногородних сокурсников, проживавших в общежитии на Трифоновке?.. Но спросить об этом у самого Олега Павел каждый раз забывал. Значит, не очень-то и нужно было…
Олег любил Киев и отлично его знал. С ним Павел и Инна побывали на Владимирской горке, с которой князь-креститель осенял крестом Левобережные дали, в парках, раскинувшихся над Днепром от Подола до самой Лавры и Печерских пещер, на знаменитом киевском рынке Бессарабке… Однажды, спускаясь по Андреевскому спуску, вымощенному булыжником, Олег остановился у странного дома, второй этаж которого упирался тыльной частью в склон холма, получалось, что не только обитатели первого этажа, но и второго могли выйти прямо на улицу. В прежнее время весь дом, наверно, занимала одна семья.
Загадочно улыбаясь, Олег поинтересовался, догадывается ли Павел, что это за дом и кто в нем когда-то жил? Павел, естественно, ответил отрицательно, откуда же ему знать. И тогда Олег торжественно сообщил, что в доме родился и вырос Михаил Афанасьевич Булгаков, автор знаменитой пьесы «Дни Турбиных». В этом же доме он поселил и героев своей пьесы.
Павел с любопытством смотрел на дом. Незримое присутствие людей, когда-то населявших его и не так уж и давно навсегда исчезнувших из него, волновало. Реально существовавшие персонажи перемешались с вымышленными и не отличить, кто же из них реальнее.
В дом входили и из дома выходили нынешние жильцы. Судя по их количеству, в нем устроили коммунальные жилища. Какие драмы, комедии или трагедии уже случились, происходят сейчас или вызревают для будущего в этом небольшом ковчеге, кочующем во времени?..
Разговорились о пьесе, о том, кто какую хотел бы сыграть роль. Выяснилось, что в Школе-студии МХАТ Олег мечтал сыграть Лариосика.
А Павел, конечно, полковника Турбина?.. Павел, оказалось, не прочь был сыграть Мышлаевского или Шервинского – эти роли «личат» ему.
Продолжая разговаривать, они спустились на набережную и направились к Цепному мосту, с которого прыгнул вниз головой затравленный драматург Максудов, автор «Черного снега» из «Театрального романа» Михаила Булгакова. Уведомив Павла, что по свидетельству старых мхатовцев «Дни Турбиных» любил смотреть Сталин, Олег поинтересовался, как в Грузии отреагировали на смерть вождя.
Мысленно вернувшись в первые дни марта 1953 года, Павел вспоминал, как был поражен не только всеобъемлющей скорбью, но и какой-то необъяснимой агрессивностью этой скорби. Словно грузинам неприятно, что право на нее имеют и другие, словно они не верили в искренность скорби других. От многих грузин в те дни можно было услышать, что, подарив России Сталина, Грузия рассчиталась с нею за все свои долги. Еще часто говорили, будто предостерегая от чего-то, что Сакартвело уже беременна еще одним Сталиным. Удивило и опасение грузин, что с уходом вождя отношение к ним изменится к худшему – предчувствовали они, что ли, 1956 год?..
Поделившись с Олегом своими воспоминаниями, Павел вернул разговор к теме, более для него интересной: а от кого Олег узнал про дом на Андреевском спуске и про его обитателей, как существовавших, так и вымышленных?
Не без гордости Олег сообщил о своем знакомстве с коренным киевлянином Виктором Платоновичем Некрасовым, автором знаменитой повести «В окопах Сталинграда», и обещал при случае познакомить с ним Павла. Олег называл писателя то Платонычем, то Викой, то по имени-отчеству.
Поскольку разговор опять коснулся литературы, Павел высказался о творениях дамы, имя которой носил Русский драматический театр. Ничего скучнее этих творений читать не доводилось. Не присвой она себе столь звучный, как бы обязывающий к почтению псевдоним, ее наверняка бы уже забыли. Почему же именно именем этой дамы?.. И именно Русский драматический?..
– Она писала о «страданиях» народа, – сказал Олег, интонационно заключив слово «страдания» в кавычки. – А этого вполне достаточно, чтобы слыть классиком. Еще и сейчас люди, пишущие о «страданиях» народа при проклятом царизме, очень даже недурно зарабатывают и увенчиваются всевозможными лаврами. Удобно пламенно бороться с противником, у которого отнята возможность дать сдачи… Ну а Леся… Ко всему прочему она проходилась иногда вовсе не дамской дланью по назойливым вездесущим москалям.
Чувствовалось, что то, что угадывалось между строк, было испытано им на своей шкуре, выстрадано и хорошо продумано. Довольно-таки прозрачные намеки Олега перекликались с подобными намеками Варпаховского.
В связи с этим разговор коснулся Мягкого, того, какое двойственное впечатление этот человек произвел на Павла при первом знакомстве.Олег усмехнулся.
– Уверен, что при более длительном общении с Виктором Ивановичем ощущение двойственности исчезнет, – сказал он. И вдруг добавил: – Наша вина в том, что мы Борисов и Луспекаев, а нэ Борысэнко и Луспэкаенко…
В течение одного-двух месяцев Павел Борисович убедился, что обстановка в Киевском русском драматическом театре имени Леси Украинки гораздо сложнее, чем в Тбилисском русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова. Двухгодичное пребывание в нем явилось для Павла хорошей подготовкой к жизни в театре с еще более сложной обстановкой – Большом драматическом. Олег Иванович Борисов оказал неоценимую услугу, постепенно помогая чете Луспекаевых освоиться на новом месте. Через несколько лет Павел Борисович ответит ему тем же – когда артист, не вынеся тягостной обстановки в театре, создаваемой «коллегами с украинскими фамилиями», тоже переберется в театр на Фонтанке…
В один из дней в гримуборную Павла и Инны, по совместительству ставшую их домом, постучался Владимир Александрович Нелли. Он принес складную папку из свиной кожи, положив ее себе на колени. Когда сели пить чай, предложенный Инной Александровной, гость сообщил, что заглянул-то, собственно, затем, чтобы предложить Павлу главную роль в своей новой постановке по пьесе Александра Александровича Крона «Второе дыхание». Говоря это, он выудил из папки и протянул Павлу экземпляр пьесы. В минувшие десять-пятнадцать дней Павел начал уж подумывать, не забыли ли про него в руководстве театра. Столь неожиданное и стремительное разрешение его опасений ошеломило его настолько, что он только и нашелся, что спросить, когда начнется читка.
– Да завтра и начнем, если вы не возражаете, – отозвался Владимир Александрович так, будто вопрос удивил его, и, спохватившись, смягчил свое удивление: – Если, конечно, вам одного дня достаточно, чтобы ознакомиться с текстом.
Павел смотрел на гостя, слушал его, улыбался, а пальцы его нетерпеливо загибали уголки страниц. Пьеса жгла его руки, растормошила не утолявшуюся в течение нескольких недель страсть к работе. Заметив это, Владимир Александрович поспешил откланяться, обворожив Инну Александровну ненавязчивой старомодной учтивостью. Павел переместился на диванчик, помнивший своих прежних владельцев, и стал читать.
Чем основательней вгрызался он в текст, тем больше убеждался, что при вивисекции этой именно пьесы ему и Инне довелось случайно присутствовать в первый день своего появления в театре имени Леси Украинки, хотя ее перепечатали заново.
Пьеса разрабатывала не остывшую и спустя более чем десять лет после завершения войны тему возвращения вчерашних солдат и офицеров к мирной жизни, их приспособления к изменившимся условиям – и семейным, и социальным, и производственным… Тема эта актуальна была после окончания Гражданской войны. Далеко не все ее герои, лихие рубаки или пламенные комиссары, находили себя на мирном поприще. Литература и искусство, разумеется, не могли прошмыгнуть мимо этой темы – вспомним хотя бы великолепную «Гадюку» Алексея Толстого. Менее чем через тридцать лет эта тема стала вновь актуальной. Первой, естественно, за ее постижение взялась литература. Прекрасный рассказ Андрея Платонова даже и назывался «Возвращение». Не разминулся с этой темой и великий Шолохов – вспомним о его великом рассказе «Судьба человека» и об одноименном фильме Сергея Бондарчука, снятом по этому рассказу. Тема эта со временем развивалась, усложняясь, обрастая новыми подробностями и поворотами. Театр старался не отставать от более разворотливых литературы и кино. Одним из свидетельств этого была и пьеса Александра Крона «Второе дыхание».
Пьеса основывалась на подлинных событиях. В самом начале шестидесятых годов в Питере вышла любопытнейшая книга С. Киселева «Записки адвоката. Судебные речи». По речам, а вернее, по очеркам, в которые речи были переработаны, жизнь послевоенного общества представлялась не с парадной и даже не с тыльной стороны, а с изнанки, причем с криминальной.
В речи-очерке «Доведение до самоубийства» знаменитый адвокат поведал потрясающую историю о моряке-офицере, ставшем после демобилизации крупным производственником. У него была жена, которую он горячо любил, не позволял, как говорится, и пылинке осесть ни на ее одежду, ни на ее репутацию. А у жены была сестра, исступленно завидовавшая ее счастью. Однажды старшая сестра поведала мужу об измене младшей…
Все его попытки простить измену не привели ни к чему. Он съездил даже в Саратов – там, в эвакуации, и встречалась его жена с актером местного театра, – надеясь, что увидит человека, достоинства которого как-то оправдают поведение женщины, страстно любимой им.
Но он увидел жалкое, трясущееся от страха перед возможным наказанием за совершенную пакость, смазливое существо, лишь физически напоминающее мужчину. И к этому-то ничтожеству прокрадывалась, боясь встретить знакомых, темными улицами прифронтового города его, Ковалева, жена в то время, когда он, может быть, бился с врагами насмерть, находился в двух шагах от гибели?.. На подобных сморчков жалко тратить мужские слова…
Через несколько дней после возвращения Ковалева из Саратова в Петербург его жена выбросилась из окна своей квартиры. А вчерашнего фронтовика приговорили к длительному лишению свободы за доведение ее до самоубийства. Как и в случае с Отелло, крупного мужественного человека погубила заурядненькая человеческая подлость.
Книга вышла в самом начале шестидесятых. На работу с рукописью, с издательством и печать нужно положить года три. А. Крон хорошо знал автора книги, можно сказать, был его другом. Нет сомнений, что С. Киселев познакомил его с трагической историей Ковалева, вдохновив тем самым маститого драматурга на создание пьесы. Разумеется, сюжет пришлось основательно переработать. Принципы социалистического реализма, в рамках которых работало подавляющее количество драматургов того времени, не признавали драматических или трагических развязок. С людьми «нового» мира если и могла произойти трагедия, то непременно оптимистическая, во имя утверждения «всепобеждающих» идей коммунизма. Темному началу обязательно должно противопоставляться светлое и, разумеется, побеждать его. Остроумные люди окрестили этот, с позволения сказать, «творческий принцип» «борьбой хорошего с очень хорошим».
О самоубийстве жены главного героя, естественно, не могло быть и речи. А сам он, с помощью лучших людей общества, как-то очень кстати, постоянно оказывавшихся рядом, должен был воспрянуть, обрести «второе дыхание».
Руководствуясь этими немудреными, но обязательными правилами, опытный драматург написал пьесу довольно быстро. В короткое время она прошла через цензурный контроль, была одобрена и рекомендована Главреперткомом театрам страны. Некоторое время спустя в Питере издали книгу С. Киселева «Записки адвоката. Судебные речи».
С первых страниц Павел Борисович ощутил: пьеса написана добротно, на жизненном, как говорится, материале. То, о чем писал, автор знал хорошо. Как читатель литературного произведения, Павел был на стороне автора. А как актер, немало изведавший и осознавший в своей профессии, удивлялся точности чутья Михаила Федоровича Романова. Он вычеркивал лишь те фразы, где автор начинал объяснять поведение персонажей, причинно-следственную связь их поступков. Дочитав пьесу до того места, которое побудило Михаила Федоровича к показу, так восхитившему его, Павел задумался, а сумеет ли с неменьшим мастерством передать то душевное и физическое состояние персонажа, как это сделал главный режиссер театра имени Леси Украинки?..
Он тут же попытался сделать это. Не получилось. Вернее, получилось, но слишком подражательно и, значит, плохо, неприемлемо. Попробовал еще раз – результат тот же. Из-под влияния Михаила Федоровича избавиться не удалось.
Как часто бывало в прошлом, помогла Инна Александровна, не спускавшая с мужа взыскательного взгляда.
– Паша, не спеши, – посоветовала она. – Дочитай пьесу до конца. Ты же ее не знаешь так же хорошо, как знает ее Михаил Федорович.
Она оказалась права. К концу пьесы у Павла Борисовича как-то само собой сложилось и восприятие того эпизода. Вернувшись к нему, он сыграл состояние Бакланова, которое, несомненно, и было описано автором словами, вымаранными Романовым и Нелли, так, что Инна только и выдохнула: «Браво!..»
Затем неожиданно прильнула к нему, пряча глаза. Все ее существо излучало нежность. Подобное случалось нередко, и, казалось бы, пора к этому привыкнуть. Но Павел Борисович всякий раз чувствовал себя растерянным. В такие мгновения он как никогда понимал, что любит-то одну-единственную женщину на свете, а во всех остальных ищет лишь что-нибудь похожее на нее. В этот раз, однако, нежность излучалась прямо-таки необыкновенная, ощущалась почти явственно. И Павел Борисович не только растерялся, но и растрогался до жжения в уголках глаз. И… немного испугался…
Он спросил жену, что с нею.
– Ни-че-го, – сдержанно кокетничая, по слогам ответила она и добавила: – Какой молодец Леонид Викторович, что перетащил нас сюда.
Она чуть не призналась, что хочет – и решила! – родить, да вовремя заметила, что это будет некстати. Он весь уже был в читке – в завтрашней, в первой в новом для него театре. В таком состоянии время для него останавливается, и он способен думать только об одном – чтобы завтра наступило скорей, и жизнь опять наполнилась смыслом…О том, как работал Павел Борисович над ролью военмора Бакланова, «благодаря самобытному уму и отваге, – как писал А. Крон в письме Л. Варпаховскому, – сделавшему за четыре года войны головокружительную карьеру и споткнувшемуся в любовной коллизии», свидетельств никаких не осталось. Судить можно лишь отраженно – по сценическому результату. Об этом свидетельства сохранились. Начнем с первого из них, принадлежащего перу Леонида Викторовича Варпаховского: «К сожалению, в Киеве мы с ним разминулись: я переехал в Москву. Несмотря на это, я был свидетелем его первого киевского триумфа. Он получил роль Бакланова в пьесе Крона «Второе дыхание». Еще накануне премьеры никто в Киеве не знал артиста Луспекаева. Наутро после премьеры он, как в свое время Москвин после исполнения роли царя Федора, проснулся знаменитостью. Все в городе только и говорили о нем. Газеты и радио восхваляли его, а дирекция театра, сразу поняв, с кем она имеет дело, перешагнув через все тарификации, утвердила ему высшую ставку».
Четыре момента в этом абзаце приковывают к себе наше внимание.
Первый: творчество Луспекаева так интересовало Леонида Викторовича, что он специально приехал в Киев на премьеру спектакля с его участием.
Его ожидания – второй момент – оправдались настолько, что впервые при оценке работы актера мы слышим из уст сдержанного режиссера слово «триумф». Хорошую или даже отличную работу таким словом не удостаивают.
Третье: второй раз за короткое время Варпаховский ставит имя Луспекаева в один ряд с именами великих русских актеров – в Тбилиси с Михаилом Чеховым и Николаем Радиным, здесь, в Киеве, – с Иваном Москвиным.
Свершилось, наконец, то, четвертый момент, чего не смог добиться Михаил Федорович Романов, принимая актера в свою труппу – «перешагнув через все тарификации», Павлу «утвердили высшую ставку». Осталось невыясненным, кого больше это обрадовало – самого Павла или Михаила Федоровича. Радовались и торжествовали оба, но больше Инна Александровна. Для нее, имея в виду обстоятельства, известные теперь и мужу, и всему театру, скорое и существенное упрочение материального положения явилось как нельзя более кстати. Она восприняла это как благословение свыше на тот подвиг, к которому готовилась.
Лишь один человек нуждался в сочувствии. Легко представить те чувства, которые испытывал директор Театра имени Леси Украинки, подписывая приказ об утверждении высшей ставки Луспекаеву, а не Луспекаенко. Но ослушаться гласа газет и радио, который воспринимался Виктором Ивановичем непререкаемым гласом «руководящей и направляющей», он не осмелился. Оставалось лишь тешиться тем, чтобы «нарисовать зуб» против удачливого выскочки, посягнувшего на авторитет директора театра, и ждать удобного момента для нанесения ответного удара. А что такой момент непременно наступит, товарищ Мягкий нисколько не сомневался. Поприсутствовав на нескольких репетициях, он вывел заключение, что новый актер отличается взрывным, непредсказуемым, легко провоцируемым характером. Испытание славой для таких людей – самое трудное, самое уязвимое. А, посчитавшись с Луспекаевым за допущенную провинность, можно посчитаться и с его покровителями – Романовым и Нелли. Заодно удастся, может, зацепить и Борисова, на которого Виктор Иванович «нарисовал зуб» давно и за его талант, и за независимый смелый характер. Эти двое, как доносят со всех сторон услужливые люди, спелись – водой не разольешь.
Виктор Иванович Мягкий мечтал о театре, в котором не будет громких триумфов и сокрушительных неудач. Все спектакли должны быть одинаково хороши, но только не более того. И труппу сколотить такую, чтобы можно было в любое время организовать коллективный чай, на котором он бы сидел у самовара, держа руку на кранчике. Услужливые люди, которых он, поощряя к рвению, помогая им получать роли через партком театра, а иногда и через райком, способствовали, как ему казалось, осуществлению этой мечты. И наоборот: Романов, Борисов, Луспекаев и даже кроткий Нелли препятствовали этому.А теперь обратимся к оценке работы Павла Борисовича, данной не кем иным, как самим автором пьесы. Посетовав своему респонденту, каковым был все тот же Л.В. Варпаховский, о том, как не везло ему с постановками пьесы, Александр Александрович продолжает: «Второе дыхание» в Киевском театре имени Леси Украинки принадлежит к числу наименее удачных постановок этой пьесы. Но при всей недоработанное™ спектакля, при том, что текст пьесы был изуродован неумелыми, нарушающими логику характеров купюрами, Луспекаеву силой своей актерской интуиции и благодаря исключительному чувству жизненной правды удалось пробиться через неверное режиссерское решение и создать характер большого сценического обаяния».
Безусловно соглашаясь со всем, что сказано здесь об игре Павла Луспекаева, следует осмотрительно отнестись ко всему остальному, особенно к убеждению автора пьесы в том, будто текст ее «был изуродован неумелыми, нарушающими логику характеров купюрами» и что имело место «неверное режиссерское решение».
Изъятия в тексте производилось только тогда, когда, как уже говорилось, автор заставлял своих персонажей объяснять их действия и поступки. Романов и Нелли хотели, чтобы актеры не декларировали , а играли, существовали в образе естественно и органично. Там, где Крон усмотрел неумелые купюры, появилось пространство для игры, насыщенное эмоциями, говорившими о персонажах куда больше и сильней каких бы то ни было слов. Актеры получили возможность играть, а не прочитывать многословный текст, что уместно в радиопостановках и совершенно недопустимо на сцене.
Высказываясь о спектакле, не имевшем верного режиссерского решения, вряд ли столь искушенный в театральных делах зритель, каким, вне всяких сомнений, был Варпаховский, прибег бы к таким превосходным степеням, использовав для выражения своего восхищения даже наивысшую похвалу – триумф. Он ни слова не говорит о том, о чем сокрушался автор пьесы. А ему ли не дано было знать, что игрой, даже выдающейся, одного актера такое сложное и громоздкое творение, как спектакль, спасти практически невозможно. Сгладить, смягчить неудачу – да. Спасти полностью – невозможно.
Газеты и радио (а также и зрители!) отмечали игру не одного Павла Борисовича, но и других исполнителей, ставя в заслугу режиссеру, что ему удалось сплотить на редкость слаженный ансамбль. И хорошо, что главным «запевалой» в нем оказался Луспекаев – он ведь и вел главную партию.
Спектакль, следовательно, был неплох и с постановочной точки зрения, имел режиссерское решение, судя по отзывам, верное.
И, наконец, уместен вопрос: а что, если «неверное решение» допущено в самой пьесе, если автор слишком увлекся воплощением тех принципов соцреализма, о которых упоминалось выше?..
Ну да оставим упреки Александра Александровича Крона режиссеру Нелли на его совести. Сыщется ли когда на свете такой автор, который бы не страдал только лишь от того, что его обожаемое произведение попало в чужие руки? Ведь его отношение к своему детищу сходно с отношением матери к своему новорожденному. Ей кажется, что всякий, кто примет на свои руки ее дитя, непременно уронит и разобьет его.А вот более поздняя оценка исполнения Павлом Борисовичем роли Бакланова, принадлежащая Кириллу Лаврову.
«Это было в 1959 году, – вспоминал Кирилл Юрьевич. – Я уже работал в Ленинграде, в Большом драматическом театре имени М. Горького. Как-то в Киеве случилось мне посмотреть пьесу А. Крона «Второе дыхание» в Театре имени Леси Украинки. Главную роль играл Луспекаев. Он произвел на меня огромное впечатление. Такое проникновение в суть характера своего героя, такое поразительно органичное существование на сцене мне редко приходилось видеть, хотя я знал многих прекрасных актеров. Впечатление было столь велико, что я после спектакля пошел к нему за кулисы…»
Стоп! Остановись мгновенье! Для чего Кирилл Лавров пошел за кулисы, мы узнаем несколько позже.
Впечатление Кирилла Юрьевича оказалось настолько сильным и устойчивым, что, вернувшись через несколько дней в Питер, он сразу же пришел к Товстоногову. И вот что пишет об этом сам мэтр: «Впервые я услышал о Павле Луспекаеве от Кирилла Лаврова. Обычно сдержанный, не слишком щедрый на похвалу, Кирилл Лавров привез из Киева восторженные впечатления от артиста Театра имени Леси Украинки Луспекаева. Он видел его во «Втором дыхании» А. Крона и горячо, решительно рекомендовал мне…»
Но о том, что рекомендовал молодой актер признанному мэтру, мы тоже узнаем позже…Владимир Александрович Нелли не принадлежал к числу режиссеров – реформаторов театра. Придумывать новые формы сценической подачи драматургического материала ему не было дано. Но, чутко и здраво воспринимая новое, он обладал редким качеством – умением выделить в новом то, что не умрет, едва родившись, что заменит устаревшие сценические приемы новыми, созвучными времени, что обогатит режиссерскую палитру. Иными словами, он умел отделить зерна от плевел.
Это был типичный актерский режиссер, обладавший способностью на деле, а не на словах «умереть в актере». Что бы ни почерпнул у реформаторов НеллиВлад, как прозвали его в театральной среде Киева, все делалось ради актеров, направлено к одному – помочь им достичь наилучшего исполнения порученных им ролей.
Надо ли упоминать, что при таком отношении к актерам многие из них становились его закадычными друзьями. Так было, например, с Олегом Ивановичем Борисовым. Не избежал этой «участи» и Павел Борисович. Работа с Нелли в спектакле «Второе дыхание» доставила актеру подлинное удовольствие и неподдельное удовлетворение.
Старый холостяк, одинокий, но общительный человек, НеллиВлад все свое время, свободное от занятий в театре, проводил в семьях друзей. Очень скоро Павел и Инна узнали, что он еще до революции окончил медицинский факультет Киевского императорского университета, тот самый, который закончил и автор «Дней Турбиных». Был ли он с ним знаком? Нет, не был (а многие ли устояли бы перед искушением ответить утвердительно?), хотя что-то слышал о его взбалмошных выходках…
Владимир Александрович не скрывал своей склонности к мистическому восприятию действительности, во многих вещах усматривал Божественное предопределение. Особенно увлекала его теория совершенных чисел. Его, например, неподдельно огорчило то обстоятельство, что в дате рождения Павла Борисовича не удалось обнаружить ни одного совершенного числа. Таковым числом, по убеждению НеллиВлада, являлось число шесть.
Можно только удивляться, что при таких наклонностях штатного режиссера своего театра директор Мягкий ни разу не собрал общего собрания для того, чтобы «разоблачить и заклеймить гнилую сущность» этих наклонностей, несовместимых с морально-нравственным кодексом строителей коммунизма. НеллиВлад дружил с порядочными и верными людьми. Прихлебателям, наушникам и подхалимам Мягкого места рядом с ним не находилось.
Когда Владимир Александрович подолгу не появлялся в той или иной семье, «опальная» семья ловила себя на том, что скучает без его присутствия, что и обед как бы становится не таким вкусным, как при нем, и чай не столь ароматным… Производя впечатление рассеянного человека, НеллиВлад на самом деле обладал острой наблюдательностью. Именно от него Павел узнал о беременности Инны Александровны.
Произошло это достаточно курьезным образом. Перед Новым, 1958 годом Павла Борисовича неожиданно вызвал Романов и предложил переселиться в другое помещение. На физиономии Павла появилось, наверно, такое недоумение, что, предваряя его вопросы, Михаил Федорович поспешил объяснить свое решение: другая комната более просторна и удобна. Инне Александровне легче будет перенести ее «интересное положение».
Физиономия Павла выразила еще большее недоумение. Тогда и засомневавшийся Михаил Федорович кивнул на присутствовавшего в кабинете НеллиВлада. Павел вопросительно уставился на Владимира Александровича. «А вы, Павел Борисович, не заметили разве, сколь совершенной умиротворенностью наполнено поведение Инны Александровны, сколько певучести в ее облике? – возвышенно осведомился НеллиВлад и, увидев, что Павел его не понимает, добавил: – Но если вас это не убеждает, понаблюдайте за ее реакцией на острое и алкоголь. Вчера, когда мы пили у вас шампанское, на ее щеках выступили алые, как бы даже слегка ржавые, пятна….
– Ведь Владимир Александрович бывший врач, – присовокупил от себя смущенный Михаил Федорович. – Окончил медицинский факультет…Одной из самых дорогих радостей из тех, что пролились на Павла в день премьеры спектакля «Второе дыхание», было неожиданное (и потому вдвойне радостное!) появление Али Колесовой и Сережи Харченко. Они приехали из Львова в Киев без предупреждения. Не ведал Павел и о том, что они присутствуют на спектакле. Когда опустошенный спектаклем, усталый, но счастливый от бесчисленных вызовов на «бис», которыми благодарная публика удостоила первую его работу в своем городе, Павел вернулся к себе, чтобы разгримироваться и отдохнуть перед послепрьемьерным банкетом, он застал Инну Александровну еще более умиротворенной, чем, с легкой руки НеллиВлада, наблюдал ее до этого. На столе, погруженный стеблями в ведро с водой, светился роскошный букет багровых роз. Рядом стояли две бутылки «Советского шампанского» и бокалы – почему не два, а четыре?.. Обостренным после успеха чутьем Павел почувствовал подвох и осмотрелся. Затем шагнул к ширме, отгораживавшей кровать от остальной комнаты. Сейчас же ему на шею бросилась визжащая и брыкающаяся от радости Аля Колесова. За нею широко улыбался Сережка Харченко, дожидаясь своей очереди обнять Павла. Милые, долгожданные друзья!..
Сразу же повеяло незабываемым ароматом «Щепки», общежития на Трифоновке, Москвой, нахлынули воспоминания о Зубе и Мите, то бишь, профессоре Зубове и ассистенте-педагоге Дмитриеве…
На банкете Павел познакомил Алю и Сергея с Михаилом Федоровичем Романовым, а назавтра они встретились в его кабинете на предмет перехода Али и Сергея из Театра Советской Армии в Театр имени Леси Украинки и переезде из Львова в Киев.
«Мы понравились друг другу, – вспоминала Аля после безвременного ухода Павла Борисовича из жизни, – и Михаил Федорович пригласил нас в труппу, но наш театр нас не отпустил».
Чем внимательней вчитываешься в эти строки, тем уверенней приходишь к выводу, что Аля и Сергей не очень-то и хотели сменить труппу, что они пришли на встречу с Романовым под напором истового желания Павла видеть своих друзей по незабываемой студенческой молодости рядом, опираться на их поддержку. До возвращения Театра Советской Армии из затянувшихся скитаний по городам Украины на место своей постоянной дислокации оставались считаные месяцы. Не знать об этом Аля и Сергей не могли. Кто же променяет Москву, столицу театрального мира одной шестой части планеты, на прекрасный, но все-таки провинциальный Киев?..
Лукавство Али и Сергея понятно и простительно. Откажись они даже самым деликатным образом от встречи с Михаилом Федоровичем, – как бы это огорчило их друга, особенно в том состоянии, в каком он в тот момент пребывал?..Вскоре подоспела и еще одна радость – из Тбилиси, откликнувшись на телеграмму Павла и Инны, нагрянул Коля Троянов. Он привез бочонок кахетинского вина и канистру чачи. Посмотрев спектакль «Второе дыхание», Коля прослезился и, полный искреннего восхищения игрой Павла, нежно облобызал его. Потом друзья сели за стол.
Заглянул и, разумеется, остался НеллиВлад. Вслед ему пришли Олег Борисов с очаровательной стройной женой Аллой, с открытого лица которой не сходила легкая доброжелательная улыбка, а за ними к Луспекаевым, как это давно установилось, потянулись другие коллеги, предвкушая приятную пирушку, которая наверняка затянется до рассвета.
Забренчала гитара, зазвучали песни. Под утро канистра и бочонок опустели. Гости, кто раньше, кто позже, разошлись. В Москве в подобном случае отправились бы к Вазгену, на Рижскую-Сортировочную. Здесь, в Киеве, Павел повел Колю на Бессарабку. Там на него – на Павла, а не на Колю, – неожиданно набросился какой-то растрепанный вихляющийся тип, пытаясь обнять его и облобызать. Не сразу и узнал Павел в нападавшем Шаю. Непривычно было видеть его вдали от театра, от «причинного места» Леси.
Попытка облобызать, к отчаянию Шаи, была решительно отбита. Услужливость, однако, не покинула его. Вызнав, зачем друзья очутились на рынке в столь ранний час, Шая куда-то пропал, словно сквозь землю провалившись, чтобы через несколько минут вынырнуть откуда-то со связкой свежей, благоухающей дивным ароматом таранки. Вскоре он проводил друзей в какое-то строение, неказистое снаружи, но уютное внутри, где к таранке подали вкусное, свежайшее пиво.
Несмотря на это, Шае и в тот день, вернее, в то утро не удалось облобызать Павла. Сделать это стало заветной мечтой Шаи. Одинокий, несмотря на многочисленные знакомства, этот недотепистый добрый человек тянулся к актерам. Не потому ли, что чувствовал их в чем-то подобными себе?..
Пережевывая душистую мякоть и запивая ее холодным, освежающим похмельную головушку пивом, Коля с гордостью думал, какой у него знаменитый друг – даже на базаре узнают его и готовы угостить в любое время суток. В тот день Шая отыгрался на Коле. К тому времени, однако, когда это случилось, Коле было уже все равно…Виктор Иванович Мягкий на банкете по случаю премьеры спектакля «Второе дыхание» предусмотрительно не присутствовал. Ему ли не знать, чем иногда заканчивались такие банкеты. Актеры – люди самолюбивые, вспыльчивые, одно не так, не тем и не тогда, когда можно, произнесенное слово, чревато обернуться скандалом, молва о котором непременно докатится до вышестоящих инстанций. «А вы-то, товарищ директор, почему допустили это? Вашего присутствия разве недостаточно, чтобы предотвратить превращение мероприятия в скандал?..»
Но услужливые люди доложили Виктору Ивановичу со всеми подробностями обо всем, что случилось на банкете. Собственно, не случилось ничего особенного, что можно бы при удобном случае поставить в строку Романову, Нелли и Луспекаеву. Чрезвычайно удивило товарища Мягкого то, что молодой артист, имевший столь оглушительный успех, вел себя скромно, не выпячивал свои личные заслуги, а ссылался на коллектив, не задирал нос.
«Ничего, одно дело свой брат актер и совсем другое, когда начнет осаждать публика, особенно когда начнут вешаться на шею бабы, – утешал себя Виктор Иванович. – А он, слыхать, по этой части большой ходок. Жена на сносях, а он ни одной смазливой мордашки, говорят, не пропустит, каждую сдобную попку норовит ущипнуть…»
Не присутствовал на банкете и автор пьесы, Александр Александрович Крон. Раздосадованный низким, как он счел, уровнем постановки, драматург в тот же день уехал в Москву, даже не познакомившись с Луспекаевым, работу которого считал единственным «лучом света в темном царстве» крайне неудачного спектакля. О своем опрометчивом решении Александр Александрович впоследствии не раз пожалел. Мог ли он, матерый театральный волчище, не знать, насколько важно артисту, особенно молодому, услышать ободряющее слово автора?..
О необъяснимом для себя поступке А. Крона Павел неизменно вспоминал с недоумением…Такие вот события предшествовали появлению в семействе Луспекаевых дочери Ларисы. Это случилось 22 сентября 1958 года. Никогда раньше Инна Александровна не испытывала такого счастья.
Спектакль «Второе дыхание» успешно продержался в репертуаре Русского драматического театра имени Леси Украинки более полутора лет, вплоть до отъезда Павла Борисовича из Киева в Петербург.
Играя Бакланова в этом спектакле, Луспекаев одновременно был занят и в других спектаклях – «Огненный мост», «В поисках радости», поставленных М. Романовым по пьесам Б. Ромашова и В. Розова, и в «Рассвете над морем», поставленном В. Нелли по роману «классика» советской украинской литературы Юрия Смолича.
В спектакле «В поисках радости» по очень хорошей для своего времени пьесе Павел Борисович, исполняя роль Леонида Павловича, встретился в репетиционном зале и на сцене со своим новым другом Олегом Ивановичем Борисовым. Оба работали с упоением. Сам великолепный актер, один из лучших исполнителей роли царя Федора в одноименной пьесе, Михаил Федорович Романов предоставлял молодым актерам полную свободу для фантазии, незаметно направлял ее, однако, в нужное ему русло.
Спектакль получился ярким, стал заметным событием, как в театральной жизни Киева, так и в личной жизни Луспекаева, Борисова, других актеров, занятых в спектакле, и Романова. Известность Павла еще больше возросла, его узнавали на улицах и в общественных местах. Шая постоянно ошиваясь в «причинном месте» театра Леси, прямо-таки извелся от невозможности облобызать знаменитого человека. В отличие от невысокого, щуплого Борисова, при каждой встрече становившегося легкой добычей, почти двухметровый Павел был недосягаем для любвеобильного Шаи…
В спектакле «Рассвет над морем» Павел играл роль «видного деятеля партии большевиков», как тогда принято было выражаться, Григория Котовского.
Интересно, что Михаил Федорович Романов, являясь главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Леси Украинки, долго противился постановке сценической редакции одноименного романа Юрия Смолича. Ничто, казалось, не могло сломить тихого, но упорного сопротивления мэтра: ни то, что на сцену выводился прославленный герой Гражданской войны, сын «братского» молдавского народа, ни то, что «массы» соскучились по масштабным историческим полотнам, ни то, наконец, что громоздкое творение Смолича было увенчано Государственной премией Украины.«Знаем мы, за что дают эти премии!» – услышал однажды Павел от Михаила Федоровича. В другой раз он произнес еще более жуткое: «Возводить уголовника в национальные герои!..»
С подобным отношением к прославленным и прославляемым на всех перекрестках героям Павлу раньше сталкиваться не доводилось.
Наконец, строптивому художественному руководителю было заявлено без обиняков: или он поставит спектакль о Котовском, или расстанется не только со своей должностью, но, может быть, и с театром. Более того, ему весьма прозрачно намекнули, что будет неплохо, если Котовского сыграет он сам. Он же осуществит и постановку спектакля. Хоть и предвидел тертый-перетертый Михаил Федорович возможность такого поворота и готовился к нему, противостоять столь бесцеремонному и мощному натиску не смог.
Поставить спектакль было поручено безропотному НеллиВладу, а роль Котовского сыграть Луспекаеву – последнее, на что решился Романов в заведомо проигрышном сопротивлении партийному диктату в формировании репертуара театра, назначению постановщиков и утверждению исполнителей главных ролей.
Уже первое ознакомление с текстом инсценировки открыло перед Павлом правоту Михаила Федоровича. Текст состоял из набора эпизодов, иллюстрирующих тот или иной момент из жизни Котовского. И каждый эпизод прямо-таки вымогал восхищение этим «пламенным ленинцем». Чем настойчивей становилось это «вымогательство», тем упрямей Павел сопротивлялся ему. С каждой читкой, с каждой репетицией роль Котовского нравилась ему все меньше, пока, наконец, не сделалась ненавистной.
Может быть, это потому, что, кроме того, что сообщает автор и что можно вычитать из учебника по Гражданской войне, больше ничего не известно об этом человеке?..
Памятуя о работе над ролью Тригорина под руководством Леонида Викторовича Варпаховского в спектакле «Чайка», Павел и НеллиВлад засели за дотошное изучение биографии «легендарного борца за победу советской власти в Молдавии». Результат, верней – разочарование, оказался ошеломляющий: в биографии не за что было зацепиться. Точней, было за что. Но это лишь в том случае, если действительно играть уголовника, а не человека, на деяниях которого должны воспитываться миллионы, который как бы призван служить примером в коммунистическом воспитании подрастающих поколений. Случилось почти неправдоподобное: биографию вымышленного персонажа, каковым был писатель Тригорин, оказалось, изучать куда интересней, а главное результативней, чем биографию действительно существовавшего человека. Подлинная – весьма неприглядная! – биография Котовского оказалась подменена придуманной. И это надо было сыграть.
При одобрении Владимира Александровича Павел решил играть фанатизм в чистом виде. Фанатизм человека безоговорочно доверившегося пригревшим его, более сильным, коварным и опасным, чем он сам, хищникам. Трактовка была опасной, сулила в будущем идеологические неприятности, но иначе роль «не шла», не «личила». Через несколько лет, уже работая в БДТ, Павел Борисович использует опыт создания «образа» Котовского при создании образа «фанатика мировой революции» Макара Нагульнова в спектакле Георгия Товстоногова «Поднятая целина», но об этом в свое время…
Роль начала складываться, хотя неприязнь к ней не угасала. Вопреки расхожему утверждению, что всему основа любовь, успех Павла в этой роли определило чувство, скорее противоположное любви. Случилось, быть может, не осознанное ни им, ни НеллиВладом: работа в атмосфере антилюбви породила впечатляющий образ антигероя, изо всех сил пытающегося стать тем, кем его назначили быть. Но, если откровенно, Павел, при всем своем «зверином чутье на правду», так и не разобрался, был ли то подлинный успех или всего лишь подобие успеха, созданное какой-то натужной, словно бы испуганной шумихой вокруг спектакля прессой и радио. Шумиха действительно выглядела и натужной, и как бы испуганной, будто те, кто творил ее, раскусили подлинные намерения авторов спектакля, и роли, и полученный результат, но, подпав под влияние какого-то наваждения, боялись сказать об этом – все-таки Котовский, неприкосновенная личность. Тогда начала уже складываться традиция: неприкосновенность переносилась с вождей на актеров, играющих их в театре или в кино. О них, живых, как о мертвых – или хорошо или ничего.
Повторялась история, происшедшая в Тбилиси со спектаклем «Битва за жизнь» – превозносили то, что не нравилось ни зрителям, ни самим творцам. Так или иначе, Павел Борисович не любил вспоминать ни о спектакле, ни о своем участии в нем. Уважение же к Владимиру Александровичу Нелли сохранил до конца своих дней, скупо отсчитанных ему судьбой…
Жизнь в Киеве оказалась более дорогой, чем жизнь в Тбилиси. И цены на рынках были повыше, и общепит подороже. Не наличествовало и то, к чему Павел успел привыкнуть, живя среди грузин: с похмелья, ежели не на что было похмелиться, забрести в любое питейное заведение, будучи твердо уверенным, что не та, так другая компания непременно затащит за свой стол одинокого и явно страдающего человека. В подобных заведениях Киева о такой привычке не ведали. Надо было похмеляться на свои кровные или катиться куда подальше не солоно хлебавши, то есть не похмелившись. Не однажды случалось Павлу позавидовать в этом смысле Николаю Троянову, оставшемуся в Тбилиси.
Не следует, однако, на основании вышеизреченного делать скоропалительный вывод, будто Павел Борисович мало-помалу становился алкоголиком. Выпить, посидеть в дружеской компании – это он любил, скрывать незачем. Но ни один человек, писавший о нем, и ни один, с кем автору этой книги пришлось общаться, не вспомнил ни одного случая, когда бы Павел Борисович опоздал или не явился на репетицию или спектакль по пьяной, как говорится, лавочке. Театр для него всегда оставался святилищем, в которое нельзя входить нечистым, а участие в спектакле – священнодействием. Поступиться этим ради чего бы то ни было другого он никогда не позволял себе.
Проблемы все-таки, видимо, были, о чем свидетельствует выражение, ранее не наблюдавшееся в его лексиконе: «И сегодня уж я разрешу себе». Своевременно осознав, значит, грозившую ему опасность, Павел Борисович принял против нее своевременные меры. То есть не набрасывался на водку по поводу и без повода, а лишь по уважительной причине – творческому успеху, например, или приезду дорогого гостя…
Примерно в то время, когда Павел Борисович перебрался из Тбилиси в Киев, была опубликована и получила всесоюзную известность симпатичная повесть Владимира Солоухина «Капля росы», любовно, сочно и поэтично поведавшая о жизни до и после войны обычного сельца Олепино, что на Владимирщине. В одной из главок повести рассказывалось о сельском кузнеце-богатыре Никите Кузове, мастере с золотыми руками. Всем был хорош кузнец. Кроме одного – невоздержанности на выпивку. С возрастом, однако, он установил «правильные» отношения со своим коварным другом-врагом – «разрешал себе» только после длительных, по шесть-восемь месяцев, воздержаний…
Павел Борисович наверняка прочитал повесть «Капля росы», позаимствовав из нее не только излюбленное изречение деревенского кузнеца Никиты Кузова, но и воспользовавшись его выстраданным опытом установления «правильных» отношений с алкоголем… Замечу в скобках, что в кругах тогдашней «передовой» интеллигенции увлечение прозой таких писателей, как Солоухин, мягко говоря, не приветствовалось, считалось признаком культурной «отсталости». Не по этой ли причине Павел Борисович скрывал от некоторых своих «продвинутых», как говорят нынче, коллег про свои читательские пристрастия, предпочитая слыть в их мнении вообще не читающим человеком?..
Несмотря на сознательные, добровольные ограничения, средств на нормальное существование не хватало. Особенно после рождения дочери Ларисы. Павел не гнушался любой возможностью подработать. Если бы не известность и не участившиеся приступы невыносимых, как самая лютая зубная боль, болей в стопах, он пошел бы даже разгружать вагоны, чем случалось заниматься в студенческие годы.
Самым простым, доступным, быстрым и надежным способом подработать был так называемый выезд на халтурку, то есть участие в выездных концертах. Самым приятным в этих халтурках было то, что деньги выплачивали сразу по окончании концерта, и устроители часто закатывали для артистов «хлеб-соль» – самые настоящие банкеты. Как говорится: и сыт, и пьян, и нос в табаке…
Заявки на проведение концертов поступали из самых неожиданных учреждений. Чаще зазывали на процветающие большие заводы и фабрики, реже в колхозы и совхозы, хотя артисты любили выезжать на село.
Там и народ радушней, и стол обильней, и свежий воздух…
Однажды Павла Борисовича пригласили поучаствовать в концерте для заключенных одной из женских исправительных колоний, расположенной в пригороде Киева. Если бы знал Павел, чем обернется его участие, руками и ногами отмахался бы. Но он не знал – к тому же, ему пообещали весьма приличную для рядового выступления сумму – и потому не отказался.
Поначалу ничто не предвещало казуса. Мужчину-конферансье женщины встретили доброжелательно. Затем начались выступления артисток: одной, второй… На выступлении третьей из зала донеслось возмущенное: «Что вы нам сучек показываете? Не видали мы их ж..! Вы нам кобельков побугристей выпустите!..»
Сконфуженные артистки поспешили завершить свои номера. Наступила очередь мужчин. Первым на сцену вышел Павел – высокий, широкоплечий, красивый. В зале воцарилась такая тишина, что стало слышно, как об оконные стекла бьются мухи. Зашелестело мечтательное учащенное дыхание нескольких десятков, если не сотен, молодых – в зале сидели, как сразу же заметил Павел молодые, от двадцати до сорока лет женщины, – женских грудей. Еще заметил Павел, что строгий, тюремный режим большинству его случайных слушательниц явно пошел на пользу и в смысле здоровья вообще, и в смысле улучшения внешности в частности. Дурнушек почти не было. А одна так оказалась просто красавицей, хоть картину с нее пиши, а еще лучше – икону. Несколько портили впечатление свежие царапины на ее голубоглазом лице и как бы не совсем нормальная припухлость губ. Словно магнитом притягивался взгляд Павла к этому необычайно красивому лицу. Он, как говорится в подобных случаях, положил на женщину глаз.
Павел решил тряхнуть стариной – читал басни. Естественно, изображая их персонажей. Успех превзошел самые дерзкие ожидания. Такого соучастия в процессе чтения, можно даже сказать, сотворчества, Павлу никогда не доводилось наблюдать. Женщины буквально облепили его взглядами… А он не сводил своего с той, с голубыми глазами, с пунцовыми губками и поцарапанными, что, впрочем, делало ее красоту еще пикантней, щечками. Его удивляло только, что она не только не рада оказываемому ей вниманию, но даже как бы тяготится им.
Загадка разрешилась очень неожиданным для увлекшегося Павла Борисовича образом. По окончании концерта он, воспользовавшись возникшей в зале суматохой и забыв про свою способность оказываться в центре внимания, где бы ни находился, бочком-бочком и тишком-тишком, как ему казалось, пробрался к объекту своего внезапного увлечения. С сердечной похвалой отозвавшись о ее необыкновенной красоте, он сочувственно поинтересовался, как же ее, рыбоньку, угораздило повредить такие хорошенькие щечки – да и губки, кажется, тоже? – вытянув при этом руку, чтобы ободряюще потрепать щечки, и не заметив при этом ни еще большего испуга в выражении лица юной женщины, ни наступившей в зале гробовой тишины, ни того, что взгляды всех присутствующих с интересом устремлены на него.
Все неодолимей очаровываясь прелестью женщины, он повторно потянулся рукой к ее лицу и… получил сильнейший удар. Между ними неожиданно вклинилось какое-то фуриеподобное злобно шипящее существо, отдаленно напоминающее женщину, со свежим синяком под правым глазом.
«Ты чего, кобелина вонючая, на чужих жен вскидываешься! – вспорол тишину возмущенный до крайнего предела визг. – Мало тебе марух на воле?!.»
В ответ на озадаченно вытянувшуюся физиономию Павла Борисовича грянул оглушительный хохот сотен здоровых глоток. Смеялись и узницы, и те, кто их стерег…
На скромном ужине, устроенном для артистов начальником колонии, Павел узнал, что действительно посягнул на честь «замужней» женщины: минувшей ночью ее «мужем» стала фуриеподобная особа. Первая «супружеская» ночь не прошла гладко, о чем свидетельствовали царапины на нежном лице молодой «супруги» и фингал под правым глазом свежеиспеченного «супруга».
– Надо бы вам, товарищ Луспекаев, заплатить вдвойне за понесенный моральный ущерб, – посочувствовал при общем хихиканье начальник колонии и тут же посетовал: – Да вот смета проведения культурных мероприятий не позволяет».
В ответ послышалось смущенное посапывание Павла Борисовича. Когда бы впоследствии ни вспомнил он о происшествии в женском исправительном заведении, реакция его была та же самая, неизменная…
В тот же день о происшествии с Павлом Борисовичем на концерте в женской исправительной колонии стало известно Виктору Ивановичу Мягкому. И не только ему. Завистники и недоброжелатели, нажитые Павлом после успеха «Второго дыхания», потирали руки, предвкушая дальнейшее развитие событий. А что оно последует, никто из них не сомневался. Надо было лишь набраться терпения…Удавалось иногда подработать и на местных киностудиях. В фильме «Голубая стрела», поставленном на киностудии имени А.П. Довженко режиссером Леонидом Эстриным, Павел сыграл эпизодическую роль начальника штаба – роль, о которой, как и о фильме в целом, не стоит и говорить, настолько хилым оказался конечный результат. Но заработанный гонорар оказался внушительным и весьма своевременным для семьи Луспекаевых, увеличившейся на одного человека. Человечка…
В просветительском короткометражном фильме «Это должен помнить каждый!» «Киевнаучфильма» Павел Борисович, желая подработать, сыграл главную роль. Ну ролью, пожалуй, назвать то, что он делал, можно было, лишь сконцентрировав все свое воображение. Фильм снимался по заказу пожарных. Подобные фильмы сами кинематографисты документального и научно-популярного кино непочтительно именуют «заказухой» или еще хлеще – «болтами в томате». На протяжении всего фильма показывая, чего нельзя делать, чтобы не вызвать непреднамеренного пожара, в конце Павел обращался прямо в камеру, то есть к зрителю: «Это должен помнить каждый!» Считалось, что такой прием усиливает воспитательное воздействие подобных «болтов в томате».
Шепнул бы ангел-хранитель, каким боком очень скоро выйдет Павлу Борисовичу эта халтурка на «Киевнаучфильме», он бы наверняка отказался от нее. Но ангел-хранитель предпочел промолчать…
Уверенность завистников и недоброжелателей во главе с товарищем Мягким, что они своего дождутся, и терпение, проявленное ими при этом, вскоре оправдались. Из милиции в дирекцию Театра имени Леси Украинки поступило обращение о «недостойном поведении артиста Луспекаева Павла Борисовича» в чешском пивном баре на ВДНХ Украины. Тогда во многих крупных городах Советского Союза, в первую очередь в Москве, в Сокольниках, открылись такие бары. В них посетителям подавали отличное, пока его не стали разбавлять наши предприимчивые бармены, пльзенское пиво и вкусные, пока их не начали ущипывать наши не менее предприимчивые калькуляторы, чешские закуски к нему. Заведения эти охотно посещались гражданами и символизировали собой, конечно, крепнущие братские связи внутри социалистического содружества. Без соответствующей идеологической подкладки в то время не делалось ни одно благое дело. (Не поэтому ли они быстро выдыхались?..)
В чем же выразилось «недостойное поведение артиста Луспекаева Павла Борисовича»? В тот свободный от спектакля недобрый вечер угораздило артисту и одному из его друзей оказаться в районе ВДНХ. Быть здесь и не попить чешского пивка – ну кто же из нормальных людей себе такое позволит?..
Соседями по столику оказались два здоровенных парня лет двадцати пяти – двадцати семи с Западной Украины, кажется из-под Ужгорода. С самого начала орясины повели себя как-то недружелюбно: не откликнулись на предложение познакомиться, старались не замечать своих соседей. Общительного Павла Борисовича это, естественно, покоробило, но не обидело. Парни, вообще-то, ему не сваты и не кумовья. Увлекшись беседой с приятелем под ледяное пльзенское пиво и кнедлики, Павел перестал обращать внимание на своих неприветливых соседей по столику. Между тем парни вместе с пивом потребляли и самогон, незаметно подливая его в кружки.
Неожиданный удар крепким кулаком по столешнице заставил Павла Борисовича и его друга прервать беседу и взглянуть на парней. Две пары глаз, побелевших от ненависти, смотрели на них, ошеломляя и озадачивая.
«Да можете вы говорить по-человечески!» – крикнул один из парней, обращаясь к Павлу Борисовичу. А второй, поднявшись во весь свой огромный рост и расправив широченные плечи, громогласно потребовал, чтобы каждый, кто был в баре, не смел говорить по-русски – только на мове. Иначе… Орясина показал огромный волосатый кулачище…
В баре сделалось тихо. Кое-кто, расплатившись, потянулся к выходу, предчувствуя развитие событий, чреватое крупными неприятностями.
Нарочито громко, подчеркивая каждое слово, на неожиданно чистом русском, без примеси остатков южного русско-украинского диалекта, Павел посоветовал распоясавшимся орясинам катиться куда подальше…
Дальше незамедлительно последовало то, о чем в письме из милиции говорилось: «В завязавшемся дебоше, закончившемся после вмешательства сотрудников милиции, дежуривших на ВДНХ и вызванных на место происшествия официантами, Луспекаев принял самое непосредственное и самое активное участие, что принесло физический ущерб состоянию граждан, тоже участвовавших в дебоше (адреса и имена этих граждан), и материальные убытки заведения, выразившиеся в приведении в полную негодность нескольких столиков и стульев…»
Прочитав письмо, Виктор Иванович Мягкий удовлетворенно вздохнул: наконец-то… Осталось лишь привести в боевую готовность своих людей и распределить роли в предстоящем разбирательстве морального облика артиста Луспекаева П.Б. Хорошо, что налицо идейная подкладка его проступка – неуважение к национальным обычаям и украинскому языку…
Но дальше события стали развиваться не совсем так, как спланировал Виктор Иванович. Первая трещинка наметилась в парткоме театра: а стоит ли давать такой резонанс, не умнее ли отписаться?..
Тема-то уж больно скользкая – межнациональные отношения. И Луспекаев человек известный, Григория Ивановича Котовского играет…
Виктору Ивановичу прислушаться бы к разумному совету опытного аппаратчика (и к тому же, его единомышленника), но он закусил удила. То, что Павел Борисович играл героя партии, показалось ему обстоятельством усугубляющим: ведет, мол, двойную жизнь – на сцене один, а в быту и в общественной жизни другой. Типичный оборотень…
Вторая трещинка, уже заметней и глубже, обозначилась в плане Виктора Ивановича во время его разговора с художественным руководителем театра. Михаил Федорович Романов выступил категорически против намеченного шельмования артиста. Иного, впрочем, Мягкий и не ожидал. Того более, он бы огорчился, поддержи главреж его инициативу, ведь Виктор Иванович намеревался зацепить не одного Луспекаева. Уверенность в успехе намеченного мероприятия ослепила директора театра настолько, что, не согласовав вопрос с вышестоящими инстанциями, он поспешил вывесить объявление с датой и повесткой дня. И, как вскоре выяснилось, напрасно не согласовал, ибо древнюю заповедь о яме, которую не надо бы рыть другому, чтоб самому в нее не провалиться, кроме того, кто ее дал, отменить не может никто. Виктор Иванович относился к атеистам. А это такие ребята, на вольнодумных темечках которых не то, что колья, бетонные шпалы можно затесывать.
Инструктор райкома, курировавший деятельность Русского драматического театра имени Леси Украинки, как и секретарь парткома, к замыслу товарища Мягкого отнесся подозрительно вяло. «Впрочем, надо посоветоваться выше…» – тихо промямлил он, и возвел очи к потолку.
И это не вразумило неудержимого Виктора Ивановича. Тем более что подпирали и свои люди, рвавшиеся в бой. Сколько разговоров с оглядкой по сторонам, трусливых перешептываний услышали стены театра в те дни. Если называть вещи своими именами, Павлу Борисовичу ставилось в строку одно – его выдающуюся, прямо-таки возмутительную одаренность, его успех у театральной публики, ее восхищение его исполнительским мастерством. Ну почему он, ему и о нем, а не мне, нам и не о нас?.. Особенно усердствовали «коллеги с украинскими» фамилиями, как отмечал невоздержанный на свой острый язычок Олег Борисов. «Целованские» пятидесятых годов XX века пытались наказать своего русского коллегу за одаренность, которой сами, увы, не обладали. А давно известно, на что способна профессиональная зависть…
Но далеко не все сотрудники театра, в том числе и с украинскими фамилиями, одобряли усилия Мягкого. Многие, прежде всего пожилые – гримерши, бутафоры, декораторы и художники, – не понимали, как можно резать куриц, несущих золотые яички. Публика наполняла кассу, приходя в театр именно на Луспекаева, Романова, Борисова, Халатова, Розина и Балиева…
И как же так случается, что все, кого «перевоспитывает» Виктор Иванович, живые, приятные в общении люди, а все, или почти все, кого он ставит в пример, – несимпатичные и скучные. А при некоторых так мухи на лету дохнут – такие они зануды…
А затем грянул гром. Но не над той головой, над которой должен был грянуть согласно замыслу Виктора Ивановича, а над… его собственной. Прав, ох как прав оказался секретарь парторганизации театра. Реакция из отдела культуры ЦК Коммунистической партии Украинской ССР, доведенная до сведения Виктора Ивановича Мягкого через инструктора отдела культуры райкома, почти дословно подтверждала верность его позиции: собрание проводить нецелесообразно. Фамилия Луспекаева в общественном сознании киевлян ассоциируется с фамилией Котовского. Обсуждать и, тем более, осуждать его на каких бы то ни было собраниях не позволительно ни-ко-му. Подготовку к собранию прекратить.
Виктору Ивановичу ничего иного не оставалось, как собственноручно снять объявление о собрании, на которое возлагалось столько надежд, и вывесить другое – о его отмене «по техническим причинам». История с несостоявшимся собранием стала одной из первых в цепи тех историй, которые, в конце концов, привели театральную карьеру товарища Мягкого к полному крушению. И в идеологическом усердии необходима умеренность…
Какую бы обстановку ни создавали вокруг неугодных им актеров Мягкий и его прихлебатели, актерам этим каждый или почти каждый день нужно было выходить на сцену и играть так, чтобы никто из зрителей, словно бабочки на огонек, привлеченных в театральный зал их именами, не мог догадаться, как измучили их хроническая нехватка средств к существованию, как осточертели дрязги, навязываемые по поводу и без повода. В Тбилиси, признаться, было проще: и денег выплачивали побольше, и интриг было поменьше. Единокровный «младший брат» кусал «старшего» побольней, чем это делали названые «младшие» братья.
Служа в театре у Леси, Павел, быть, может, впервые стал задумываться о своем положении в частности и о положении актеров театра и кино вообще. Тема это неоднократно возникала в его разговорах с Олегом Ивановичем Борисовым. Отправным толчком для таких разговоров являлся, как правило, просмотр нового зарубежного фильма, показанного в киевском Доме кино. Собеседников изумляла раскованность западных актеров: душевная и физическая. Отчего бы это?..
Много позже, работая над ролью Вилли Старка в телесериале «Вся королевская рать», Павел Борисович изложит Михаилу Козакову результат своих многолетних размышлений.
«Нередко возникал разговор об американских фильмах, – вспоминал Михаил Михайлович, – например о том, как бы роль Старка сыграл Род Стайгер. О нем Луспекаев любил поговорить, о его раскрепощенности на съемочной площадке. Мне кажется, что он устанавливал между Стайгером и собой внутреннюю аналогию. В это время заканчивались съемки «Ватерлоо», где Стайгер играл Наполеона. И Луспекаев откуда-то узнал подробности его исполнения.
– Вот они, звезды ихние, черт их подери, всегда свободные, уверенные перед камерой. Отчего это? Эдакая раскрепощенность, внутренняя свобода: мне, мол, все дозволено, что ни сделаю, все туда… Откуда это идет? Денег они, что ли, больше получают? Вот, говорят, в Италии за Стайгером на крышу отеля, где он гримируется в номере, вертолет прилетел и «фьюить!» – прямо на площадку… Тут, конечно, ручку вперед протянешь, – и Луспекаев вытягивал огромную свою лапищу, – полки не то что на Москву, а и на «Пекин», я имею в виду гостиницу, пойдут… А я утром перед съемкой в этом «Пекине» очередь в буфете отстою на своих культях, два яйца съем, приеду на студию и загораю в гримерной два часа, пока в павильоне свет ставят… а потом входи в кадр и чувствуй себя губернатором штата – Хозяином! Смех!»
Исчерпывающий и отнюдь не смешной ответ на свои вопросы…
Как бы трудно и сложно ни складывалась личная жизнь, на результатах жизни сценической она не оказывала заметного влияния. Кто знает, кроме его самого и, может быть, Инны Александровны, скольких зарубок на сердце ему это стоило?..
Однажды, после очередного спектакля, к Павлу Борисовичу пришел возбужденный молодой человек и – передаем слово Кириллу Юрьевичу Лаврову, ибо он и был тем молодым человеком, – «не имея на то никаких полномочий, выпалил прямо: «Хотите работать в Большом драматическом театре?»
Он был ошарашен моим неожиданным предложением, не счел его серьезным и стал говорить:
– Ладно, ладно, хорошо… Я рад, что тебе понравилось…
У него была привычка сразу переходить на «ты». И не от того, что он относился с недостаточным уважением к собеседнику, просто был на редкость прямодушен.
– Ну что я поеду в Ленинград? Там дожди, сырость… А в Киеве хорошо – он явно не принимал всерьез моего предложения».
Прежде чем продолжить отслеживание событий, последовавших за этой встречей, обратим внимание на три любопытных момента из ее составляющих.
Вне сомнений, в тот памятный вечер Павел Борисович играл так вдохновенно, что даже «сдержанный, не слишком щедрый на похвалу, Кирилл Лавров» без раздумья отколол номер, более приличествующий восторженному студенту театрального училища, нежели артисту прославленного театра.
В процитированном отрывке не зафиксирован момент представления актеров друг другу. Что это: неосознанное желание освободить воспоминания от лишних деталей или что-то другое? Думаю – что-то другое. А именно: Кирилл Юрьевич уверен был, что слух о его появлении в Киеве облетел весь Театр имени Леси Украинки от гардеробов до будок суфлеров и, следовательно, коснулся и слуха Павла Борисовича. Легко вообразить, сколько приятных мгновений испытал гость из Петербурга, убедившись, что стоящий перед ним актер не собирается осведомиться, кто к нему столь бурно ворвался – узнал, значит, действительно наслышан.
Забавна и характерна общая окраска эпизода: Павлу Борисовичу и приятно, и лестно слушать похвалы его игре от всесоюзно известного уже сверстника, успехам которого он по-белому завидует, и хочется поверить, будто Кирилл Юрьевич действительно может посодействовать ему перейти в театр Товстоногова, и невозможно в это поверить – мало ли чего наговорят коллеги под влиянием минутного порыва?.. А пока не воспользоваться ли, «разрешив себе», удобным моментом, чтобы из первых рук побольше разузнать о театре, взбаламутившем своими новаторскими постановками весь крещеный театральный мир?..
Но Кирилл Лавров оказался не из тех, кто швыряет слова на ветер.
«Через несколько дней я вернулся в Ленинград и…» – вспоминал он. «…Горячо, решительно рекомендовал мне пригласить этого артиста в БДТ», – вспоминал Товстоногов.
О чем говорит столь стремительное и напористое развитие событий? Да только о том, во-первых, что общение Кирилла Юрьевича с Павлом Борисовичем в более «теплой», как говорили тогда, или «неформальной», как выразились бы теперь, обстановке не только не свело на нет его намерение «горячо, решительно» рекомендовать своего киевского коллегу Товстоногову, но оформило это намерение в единственно приемлемое, окончательное решение, и, во-вторых, что согласие Луспекаева на реализацию этого решения было получено.
В комнате Павла, в квартире родителей Кирилла, у кого-нибудь из общих знакомых, в пивной или в ресторане произошло это неформальное общение, во время которого, кстати, Павел стал называть Кирилла Кирюхой (не за пристрастие к алкоголю, которого особенно не наблюдалось, а уменьшительное от полного имени), – неважно. Какой каскад ярких этюдов-показов обрушил, наверно, Павел на своего благодарного собеседника, с каким жгучим любопытством внимал его рассказам о «театре личностей», возникшем на далеком пасмурном Севере, и о его создателе, не пасующим ни перед какими трудностями – творческого ли, политического ли или какого другого характера…
Не последнюю роль в решении Павла Борисовича согласиться на контакт с Товстоноговым сыграло, разумеется, и его крепнущее желание очутиться как можно дальше и как можно скорее и от недоброжелателей с «украинскими фамилиями» (не только, конечно, с украинскими, ибо зависть, как и всякая пакость, интернациональна), и от бдительного, подозрительного товарища Мягкого…
…Георгий Александрович Товстоногов не любил откладывать дела в долгий ящик и не уважал людей, склонных к этому. Выслушав Кирилла Лаврова, он задумался над тем, в какую форму облечь исполнение его горячей и решительной рекомендации. Отношения в театральном мире как Восток, – дело тонкое. Малейшая оплошность может обернуться бурным выяснением отношений. Мудрый Товстоногов размышлял недолго и, как всегда, правильно. Сняв трубку с телефонного аппарата, он связался через междугороднюю линию с Киевом и набрал рабочий номер… Михаила Федоровича Романова…
Сменная вахтерша, дежурившая на служебном входе Театра имени Леси Украинки, сообщила Луспекаеву, пришедшему на рабочую репетицию кое-каких эпизодов спектакля «Рассвет над морем», обнаруживших накануне сценическую «усталость» (дело обычное в жизни спектаклей), что его вызывает к себе художественный руководитель и главный режиссер. Гадая, что бы это могло означать, и, в общем-то, допуская в глубине души, что это может быть обусловлено «происками» Кирилла Лаврова, несколько дней назад укатившего в Питер, Павел Борисович направился к кабинету Михаила Федоровича Романова, которого застал заметно огорченным и задумчивым.Главный режиссер Театра имени Леси Украинки, как и главный режиссер Большого драматического театра имени М. Горького, был человеком дела. Без всяких предисловий, он сразу же сообщил артисту о звонке из Питера, присовокупив к сообщению вопрос: когда Павел Борисович отправится туда на переговоры с Георгием Александровичем?
Прямота поведения Михаила Федоровича ошеломила Луспекаева. Он почувствовал себя так, будто его уличили в неблаговидном поступке. Всякий на его месте чувствовал бы себя так же, если, конечно, не вынашивал злого умысла специально насолить своему шефу. Павел не вынашивал.
Михаил Федорович ждал ответа, и Павел забормотал, что вообще-то он не принял предложения Лаврова всерьез и что никогда не собирался переезжать в Питер, ему это не очень-то нужно…
Романов терпеливо выслушал его. А когда он закончил, заговорил вдруг совсем не на заявленную тему: стал расспрашивать Павла об учебе в «Щепке», о его педагогах, многих из которых знал лично, о театральных пристрастиях. Увлекшись, он погрузился в воспоминания о театральной жизни страны в «довоенную эпоху», как он выразился, особенно сосредоточившись на театральных исканиях двадцатых и начала тридцатых годов.
Много интересного услышал в течение того разговора Павел Борисович от Михаила Федоровича, но сильнее всего запомнился его вывод о Мейерхольде. Романов считал, что, пока он шел по одной дороге со Станиславским и Немировичем-Данченко, это был действительно великий актер и режиссер. Но стоило ему уклониться в «измы», он кончился, превратился в «вулкан, изрыгающий вату». В принципе, говорил Михаил Федорович, Мейерхольд ополчился на театр, породивший, взрастивший и отдавший ему все лучшее, что имел. А он?.. В искусстве он творил то же самое, что творили, например, Ленин, Троцкий и Свердлов в политике – унич-то-жал!.. Все попытки выдать его за «великого реформатора театра» лично у Романова ничего, кроме омерзения, не вызывают. Заменить декорации табличками – это новаторство? Панацея для бездарей с патологическим отсутствием фантазии!
Вольнодумство Михаила Федоровича было в театре притчей во языцех. Но такое Павел наблюдал за ним впервые. Ну Свердлов ладно – может, и правда политический шпаненыш. Но поднять руку… на самого Мейерхольда!.. В молодежной театральной среде, особенно если в ней задают тон евреи, ему бы голову за это отгрызли – наших не замать! Сам же Павел был согласен с Романовым во всем. Или почти во всем…
– А относительно того, что тебе не нужно ехать в Питер, ты, Паша, заблуждаешься, – неожиданно вернулся Михаил Федорович к началу разговора, впервые назвав Павла Борисовича только по имени и обратившись к нему просто на «ты». – Тебе нужно. И Инне Александровне тоже. Не скрою: мне жалко отпускать вас. О тебе и без меня все сказано, что можно сказать хорошего. Инна Александровна прекрасно проявила себя на сцене Лесиного театра, нам будет недоставать вас. Придется существенно менять репертуарный план. Но… В ближайшее же «окно» между спектаклями поезжай к Георгию Александровичу. У Леси тебе зажиться не позволят. Между прочим, и мне тоже. Кресло подо мной уже шатается. Да и от киевской милиции тебе бы подальше… Об Инне Александровне и Ларисе не беспокойся – будут жить в театре, сколько понадобится…
Как просто и легко разрешаются проблемы, еще вчера казавшиеся неразрешимыми, когда после длительных и порой мучительных сомнений и колебаний принято наконец-то твердое окончательное решение. Тогда и препятствия, выглядевшие непреодолимыми, устраняются как бы сами собой. В первое же «окно» Павел Борисович отправился в Петербург.
«На набережной Фонтанки, у служебного входа в Большой драматический театр, стоял высокий грузный человек в экстравагантном светлом пальто, – вспоминала Роза Абрамовна Сирота, одна из ближайших сотрудниц Товстоногова, которой он поручил встретить Луспекаева. – «Луспекаев», коротко назвался он… Знакомлюсь. Сумрачное лицо, большие, поразительно подвижные глаза. Надо сказать, что больше всего меня поражали глаза Павла Борисовича – вот уж поистине зеркало души. Смена настроений его нервной натуры была молниеносной, и всегда глаза отражали этот калейдоскоп настроений. Детские, лукавые, озорные, любопытные, бешеные, страдающие от невыносимой боли, изумленные и никогда безразличные, скучающие».
Георгий Александрович ждал Павла Борисовича в своем кабинете. Он начинал тогда работу над спектаклем «Варвары» по пьесе М. Горького, и пребывал в том сосредоточенном и одновременно рассеянном состоянии, которое часто сопутствует началу важной ответственной работы.
И вот они – Луспекаев и Товстоногов – оказались наедине, лицом к лицу. Один «высокий» и «грузный», настоящий былинный богатырь, другой приземистый, округлый – этакий носатый колобок. Павел Борисович обмолвился потом кое-кому из своих друзей, что Товстоногов понравился ему с первого взгляда, и с первых секунд общения он почувствовал в нем своего человека…
Придется поверить на слово, что так оно и было. Письменного свидетельства о своей мгновенно возникшей симпатии артист, увы, не оставил, не успел.
Георгий Александрович засвидетельствовал свое впечатление, произведенное на него Павлом Борисовичем при первой встрече:
«И вот наша первая встреча. Высокий, красивый, ладный, с горящими черными глазами тридцатидвухлетний человек…»
Эта предельно лаконичная фраза уникальна по обилию информации, затаившейся в ней. Косвенно она подтверждает достоверность молвы, донесшей до нас впечатление Луспекаева о Товстоногове: отсутствуй заведомая симпатия с одной стороны, отсутствовала бы она и с другой.
Перечитайте еще раз фразу, представьте себе взгляд, каким смотрит Георгий Александрович на вошедшего к нему человека. Это же взгляд режиссера, поглощенного подбором исполнителей для задуманной постановки. Отсюда и четкая фиксация особенностей внешних данных. Словно породистого жеребца, облюбованного для приобретения, – да простится мне такое сравнение – режиссер пристально и пристрастно осматривает актера, явно примеряя на него одну из ролей.
А мне так кажется, что он начал примерять ее на него еще тогда, когда слушал восторженный панегирик Кирилла Лаврова. Не будь этого, вполне возможно, что «горячая, решительная рекомендация» Кирилла Юрьевича оказалась бы невостребованной. Вполне возможно и то, что не совпади представление режиссера о внешности персонажа с теми внешними данными, которые он нашел у Луспекаева, последнему пришлось бы ни с чем вернуться в Киев.
Но все совпало. Все трое оказались в выигрыше, и по отдельности, и вместе. Павел был принят в БДТ. Товстоногов нашел актера на одну из ключевых и труднейших ролей в спектакле «Варвары». А Кирилл Лавров избавился наконец-то от «кошмара», преследовавшего его последние недели – ведь роль, перешедшую к Павлу Борисовичу, изначально определено было играть ему. Всеми силами, правдами и неправдами противился Кирилл этому, убежденный, что роль не для него, она не «личит» ему, как выражается его новый коллега и друг, но Георгий Александрович оставался непреклонным. И вдруг отступил.
Ролью, о которой идет речь, была роль Егора Черкуна – та самая, с исполнения которой Павел Борисович победно впишется раз и навсегда в театральный мир Петербурга…Весть о том, что Павел Борисович Луспекаев принят в труппу Товстоногова и вскоре переезжает в Петербург, моментально распространилась по театру Леси Украинки и породила весьма неоднозначную реакцию.
Одни – их набралась примерно треть – испытывали откровенное облегчение: кто потому, что отпала неблагодарная обязанность бдеть нравственный и моральный облик актера, не вписывающегося ни в какие рамки, кто потому, что не придется больше выслушивать нелестные сравнения – и с талантом, и с отношением к ремеслу – в свой адрес…
Другие – таких тоже набралось с треть – недоуменно пожимали плечами: почему он, а не мы?..
Третьи – и таких было немало – были неподдельно огорчены: уезжал замечательный актер и превосходный, порядочный человек…
Газетчика и тараньщика Шаю, все свое свободное время проводившего в «причинном месте» Леси, известие об отъезде Луспекаева ввергло в глубочайшее отчаяние: окончательно рушилась его выстраданная надежда когда-нибудь по-приятельски облобызать человека, которого знала каждая киевская собака…
В Киеве, как и в Тбилиси, Луспекаевы мебелью не обзавелись и званий не получили. Переезд в Питер состоялся незамедлительно…
Назад: В ТБИЛИСИ
Дальше: ТАКАЯ ДОЛГАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ

