Книга: Золотоискатель
Назад: На Родригес, 1910 год
Дальше: Ипр, зима 1915 года. Сомма, осень 1916 года
Родригес, Английская лощина, 1911 год
* * *
Так, зимним утром 1911 года (думаю, это был август или начало сентября), я добираюсь наконец до холмов, возвышающихся над Английской лощиной, где предстоит развернуться моим поискам.
До этого, в течение долгих недель, месяцев, я исходил весь Родригес — с юга, где напротив острова Гомбрани открывается еще один проход сквозь рифовый барьер, через горы Манго, Патата и Бон-Дье в центральной части острова до Малагасийской бухты, с ее нагромождением черных базальтовых скал, на севере. В своих поисках я руководствовался выписками из книги Пенгре. «К востоку от Большого порта, — писал он в 1761 году, — не было вдоволь воды, чтобы удерживать нашу пирогу, или же вóды эти, сообщавшиеся с большим морем, были слишком бурны, чтобы нести столь утлое судно. Посему г-н де Пенгре отослал пироги обратно, тем путем, которым они приплыли, с приказом вернуться за нами на следующий день к Впадине среди Больших Известняковых камней…» И далее: «Склоны гор Четырех Проходов отвесны, и поскольку там почти не имеется рифов, а берег открыт всем ветрам, море бьется о него со столь яростной силой, что отваживаться на проход этим путем было бы более чем неосмотрительно». Описание Пенгре, которое я читал при дрожащем свете свечи в гостиничном номере в Порт-Матюрене, напомнило мне письмо одного старого моряка, заключенного в Бастилии, то самое, что навело отца на след клада: «На западном побережье острова, там, где море бьется о берег, есть река. Следуйте за ее течением, и вы придете к роднику, а рядом с родником увидите тамариндовое дерево. В восемнадцати футах от тамаринда, под каменной кладкой, сокрыты несметные сокровища».
Ранним утром, дрожа от нетерпения, я отправился в поход вдоль побережья. Перейдя мост Дженер, обозначающий границу города, я прошел дальше и у маленького кладбища перебрался вброд через реку Бамбу. С этого места дома вокруг исчезают, дорога вдоль берега сужается. Я поворачиваю направо и иду по тропе, ведущей к строениям английской телеграфной компании «Кейблз энд Вайалесс», что находится на вершине холма, возвышающегося над мысом Венеры.
Здания телеграфа я обошел стороной, возможно, из опасения повстречать англичан, которых на Родригесе побаиваются.
С замиранием сердца поднимаюсь я на вершину холма. Теперь я уверен: именно отсюда в 1761 году Пенгре наблюдал за транзитом Венеры, задолго до того, как сопровождавшие в 1874 году лейтенанта Нита астрономы дали мысу Венеры его название.
Яростный восточный ветер чуть не сбивает меня с ног. О подножие утеса бьются короткие волны, проникающие с океана через проход между рифами. Прямо подо мной — здания «Кейблз энд Вайалесс», длинные деревянные бараки, покрашенные серой краской и обшитые металлическими листами с заклепками, — как пароходы. Чуть выше, среди пальм вакоа, белый домик директора с зашторенной верандой. В этот час телеграф еще закрыт, лишь на ступеньках склада сидит и курит, не глядя на меня, одинокий негр.
Я продолжаю свой путь меж зарослей и вскоре добираюсь до края утеса, откуда открывается обширная долина. И я понимаю, что наконец нашел место, которое искал.
Английская лощина широко раскинулась по обе стороны устья Камышовой реки. С моего места хорошо видна вся долина, до самых гор. Я различаю каждый куст, каждое дерево, каждый камень. Долина пуста — ни дома, ни малейшего следа человеческого присутствия. Только камни, песок, тонкая линия речки да пучки пустынной растительности. Я следую взглядом вверх по течению реки, туда, где в глубине Лощины высятся еще темные горы. Мне вдруг вспоминаются наши походы к ущелью Мананава, когда мы с Дени останавливались, словно на пороге запретной территории, прислушиваясь к пронзительным крикам «травохвостов».
Здесь в небе нет птиц. Только облака, что поднимаются прямо из моря, там, на севере, и плывут к горам, тенью пробегая по долине.
Я долго стою на ветру у края утеса. Надо найти место для спуска. Там, где я сейчас, спуститься невозможно. Скалы отвесной стеной нависают над устьем речки. Продираясь через заросли, я возвращаюсь на вершину холма. В листьях пальм вакоа стонет ветер, усиливая впечатление заброшенности этого места.
Немного не доходя до вершины холма, я обнаруживаю место для спуска: это каменная осыпь, тянущаяся до самой долины.
И вот я уже иду по долине Камышовой реки, сам не зная куда. Отсюда долина выглядит широкой, вдали ее окаймляют черные холмы и высокие горы. Дующий от устья реки северный ветер доносит рокот моря, взвихряет похожий на пепел песок, и на какой-то миг мне мерещится, что меня нагоняют всадники. Но кругом тишина, особенно странная при всем этом свете.
По ту сторону мыса Венеры кипит жизнью Порт-Матюрен, шумит городской рынок, снуют пироги в бухте Ласкар. А тут тихо, как на необитаемом острове. Что же я найду здесь? Кто ждет меня?
До самого вечера я шагаю наугад по дну долины. Мне хочется понять, где я. Понять, зачем я пришел, что сорвало меня с места, пригнало сюда. На сухом речном песке я черчу веточкой карту: вход в Лощину, по сторонам которого, с востока и запада, высятся базальтовые утесы. Русло Камышовой реки почти прямой линией поднимается к югу и, изогнувшись, теряется в ущелье среди гор. Мне нет нужды сравнивать мой рисунок с картой Корсара, оставшейся среди отцовских документов: я и так знаю, что нахожусь в тех самых местах, где спрятан клад.
И снова я будто пьяный, у меня кружится голова. Как тихо здесь, как пустынно! Лишь ветер свищет среди скал и зарослей, донося далекий шум бьющихся о рифы волн, но это звуки безлюдного мира. По ослепительному небу бегут облака, клубятся, исчезают за холмами. Я не могу больше хранить в себе свою тайну. Мне хочется кричать, орать что есть мочи, чтобы меня услышали там, за холмами, и еще дальше — за морем, в Форест-Сайде, чтобы мой крик сквозь стены долетел до самого сердца Лоры.
Может, я и правда кричал? Не знаю, моя жизнь давно уже стала похожа на сон, где желание равно его осуществлению. Я мчусь по дну долины, перепрыгиваю через черные камни, через ручьи, несусь сквозь заросли, среди опаленных солнцем тамариндов. Бегу не знаю куда, бегу — будто падаю, и ветер свистит у меня в ушах. Но вот я бросаюсь на землю, на острые камни — не чувствуя боли, тяжело дыша, обливаясь потом. И долго лежу на земле лицом к облакам, что по-прежнему плывут к югу.
Теперь я знаю, где я. Я нашел место, которое искал. После стольких месяцев бесплодных блужданий, я вновь ощущаю душевный покой и исполнен жажды деятельности. После открытия, сделанного в Английской лощине, я начинаю готовиться к своим изысканиям. На Дуглас-стрит, в магазине Джереми Байрама, я приобретаю кирку, лопату, веревку, штормовой фонарь, покупаю парусины, мыла и кое-каких съестных припасов. Это снаряжение путешественника я дополняю большой шляпой из волокон пальмы вакоа, из тех, что носят манафы, чернокожие горцы. Что касается остального, мне вполне хватит моего небогатого гардероба и старой конской попоны. Остатки своих скудных средств я отношу в банк Беркли. Управляющий, любезный англичанин с пергаментным лицом, пометил только, что я прибыл на Родригес по делам, и, будучи одновременно представителем почтовой фирмы «Элиас Маллак», предложил свои услуги для сохранения моей корреспонденции.
Закончив все приготовления, я, как обычно, иду в полдень к китайцу, чтобы съесть свой рис с рыбой. Он знает, что я уезжаю, и после обеда подходит к моему столику попрощаться. Вопросов он не задает: как большинство из тех, с кем я познакомился на Родригесе, он считает, что я отправляюсь в горы на поиски золота. Я же предусмотрительно не опровергаю этих слухов. Несколько дней назад, когда я заканчивал ужинать в этом же зале, со мной пожелали побеседовать двое мужчин, оба уроженцы Родригеса. Не тратя попусту слов, они высыпали передо мной из кожаного мешочка горстку земли, в которой поблескивали сверкающие крупинки. «Это золото, сударь?» Благодаря отцовским урокам я сразу узнал халькопирит, или медный колчедан, обманувший немало старателей, за что его и называют «золотом дураков». Мужчины с тревогой смотрели на меня в свете масляной лампы. Я не захотел разочаровывать их вот так, сразу: «Нет, это не золото, но, возможно, признак того, что вы его скоро найдете». Я посоветовал им обзавестись флаконом царской водки, чтобы больше не ошибаться. И они ушли со своим кожаным мешочком, наполовину удовлетворенные. Думаю, что именно так я прослыл геологом.
После обеда я усаживаюсь в нанятую для путешествия конную повозку. Возница, старый веселый негр, кладет туда же мои вещи и снаряжение. Я сажусь рядом с ним, и мы отправляемся по пустынным улицам Порт-Матюрена к Английской лощине. Мы едем по Хитченс-стрит мимо дома Беге, затем по Беркли-стрит доезжаем до губернаторской резиденции. После этого поворачиваем на запад, мимо храма и складов, через имение Раффо. Чернокожие ребятишки бегут какое-то время за повозкой, но потом им это надоедает и они возвращаются обратно в порт купаться. Мы переезжаем реку Ласкар по деревянному мосту. Спасаясь от солнца, я надвинул огромную манафскую шляпу на глаза. Представляю веселье Лоры, если бы она могла видеть, как я трясусь в тележке рядом с черным возницей, громкими криками погоняющим мула, да еще и в таком наряде.
Но вот мы добираемся до вершины холма на мысе Венеры, возница сгружает перед зданием телеграфа мои вещи и снаряжение, а также джутовые мешки с провизией. Затем, положив в карман причитающуюся ему плату, он уезжает, пожелав мне удачи (опять эта легенда о золотоискателе!), и я остаюсь один со своими пожитками на краю утеса, в свистящей ветром тишине, со странным ощущением, что высадился на необитаемом острове.
Солнце спускается к холмам на западе, и вот уже тень ложится на долину Камышовой реки, удлиняет деревья, заостряет концы листьев пальм вакоа. Меня охватывает смутная тревога. Мне страшно спускаться в эту долину, словно это запретная земля. Застыв на краю утеса, я смотрю на ландшафт — такой, каким увидел его в первый раз.
Резкий порыв ветра выводит меня из оцепенения. Еще раньше я заметил где-то на середине склона каменистую площадку, которая вполне может приютить меня, защитив от ночного холода и дождя. Там я и разобью свой первый лагерь. Взвалив на плечо тяжелый сундук, я начинаю спускаться. Несмотря на поздний час, солнце заливает склон, так что до площадки я добираюсь весь мокрый от пота. Мне приходится довольно долго приходить в себя, прежде чем я снова возвращаюсь наверх за снаряжением, киркой, лопатой, мешками с провизией и куском парусины, который будет служить мне палаткой.
Площадка опирается на нагроможденные над пропастью базальтовые глыбы, что делает ее похожей на балкон. Образовалась она, должно быть, очень давно, потому что на ней успели вырасти большие пальмы вакоа, корни которых раздвинули базальтовые стены. Дальше, вверх по долине, на склоне холма, виднеются такие же площадки. Кто же соорудил эти балконы? Может, моряки, американские китобои, которые здесь охотились? Но мне невольно представляется Корсар, на поиски которого я явился. Может, это он велел устроить здесь наблюдательные пункты, чтобы следить за сооружением «каменной кладки», под которой решил спрятать свое сокровище?
И снова у меня кружится голова, снова я как в лихорадке. Я лазаю взад-вперед по склону холма, перетаскивая вещи, и вдруг мне кажется, что я вижу их, там, в глубине долины, среди высохших деревьев и пальм вакоа: какие-то тени идут цепочкой от моря в сторону окутанных сумраком холмов на западе, с тяжелыми мешками и кирками на плечах!
Сердце бешено колотится, пот заливает лицо. Мне приходится лечь на землю на вершине утеса, чтобы, глядя в сумеречное желтое небо, унять охватившее меня волнение.
Быстро темнеет. Надо разбить бивуак, пока не стало совсем темно. Я собираю у речки оставшиеся после разлива ветки и хворост для костра. Из толстых сучьев на скорую руку сооружаю некую конструкцию, на которую натягиваю парусину и укрепляю всё камнями. К концу работы я настолько выбиваюсь из сил, что не могу и думать о разжигании костра, а потому, сидя на краю площадки, просто съедаю пару морских галет. Ночь наступила внезапно, утопив во мраке раскинувшуюся внизу долину, скрыв море и горы. Холодно, кругом скалы, никаких лишних звуков, только свистит в зарослях ветер, потрескивают камни, сжимаясь после дневного зноя, да рокочут вдали, разбиваясь о рифы, волны.
Я устал, дрожу от холода, но, несмотря на это, мне безумно радостно, что я здесь, в этом месте, о котором так давно мечтал, даже не зная о его существовании. Внутри меня все трепещет, я сижу, вглядываясь в ночь широко открытыми глазами. Медленно плывут на запад звезды, спускаются к невидимому горизонту. Яростный ветер вздувает позади меня парусину, будто я не закончил еще своего плавания. Завтра я пойду туда, я увижу, где проходили те тени. Что-то ждет меня там — кто-то?.. Ради встречи с ним я и приехал сюда, оставил Мам и Лору. Я должен быть готов ко всему, что явится мне в этой долине, на краю света. Так я и засыпаю, у входа в палатку, прислонившись спиной к большому камню, обратив к черному небу широко раскрытые глаза.
* * *
Как давно я уже здесь, в этой долине? Сколько дней, месяцев? Мне следовало бы завести календарь и делать, по примеру Робинзона Крузо, зарубки на дереве. Эта пустынная долина поглотила меня, как безбрежное море. Дни и ночи сменяют друг друга, и каждый новый день стирает из памяти предыдущий. Потому я и пишу заметки в купленных у китайца в Порт-Матюрене тетрадях — чтобы проходящее время оставляло хоть какой-то след.
И что же остается? Одни и те же действия, повторяющиеся каждый день, когда я снова и снова обследую долину в поисках ориентиров. Я встаю до рассвета, чтобы воспользоваться утренней прохладой. На заре долина необычайно прекрасна. При первых проблесках дня базальтовые и сланцевые глыбы сверкают от росы. Темнеют деревца, тамаринды и пальмы вакоа, еще сонные после холодной ночи. Ветер едва чувствуется, а за ровной линией кокосовых пальм виднеется неподвижное море. Темно-синее, пока без солнечных бликов, оно словно сдерживает свой рокот. Я больше всего люблю эти мгновения, когда всё вокруг застыло в ожидании. В небе, по-прежнему пустом и чистом, появляются первые птицы: олуши, бакланы, фрегаты пролетают над Английской лощиной и уносятся дальше к северу, на близлежащие островки.
Это единственные живые существа, которых я вижу с самого первого дня моего пребывания здесь, если не считать крабов — земляных, что роют норки в дюнах в устье реки, и крошечных морских, огромными полчищами бегающих по тине. Когда птицы возвращаются, снова пролетая над долиной, я понимаю, что день кончается. Мне кажется, что я знаю каждую из них и что они тоже узнают меня — этого смешного муравья, что ползает по дну долины.
Каждое утро я возобновляю свои поиски, следуя разработанному накануне плану. Я иду от вехи к вехе, делая с помощью теодолита замеры, затем, описав дугу — с каждым разом все большую, — возвращаюсь обратно, чтобы тщательно обследовать каждый арпан земли. Солнце поднимается все выше, зажигает искры на остроконечных скалах, четко прорисовывает тени. Под полуденным солнцем долина меняется, становится жесткой, враждебной, щетинится всеми своими остриями и колючками. Скалы отражают солнечный свет и тепло, и от этого, несмотря на порывистый ветер, становится все жарче. Я чувствую на лице жаркое дуновение — как из печи, глаза наполняются слезами, я с трудом удерживаюсь на ногах.
Приходится остановиться, подождать. Я иду к реке, пью из ладони. Потом сажусь в тени тамаринда, прислонившись спиной к его обнаженным разливами корням. Не шевелясь, ни о чем не думая, жду, пока солнце не обойдет вокруг дерева и не начнет своего медленного падения за черные холмы.
Иногда мне кажется, что я снова вижу на холмах тени, неясные фигуры. Тогда я иду туда по руслу реки, чувствуя, как горят от зноя глаза. Но тени исчезают, прячутся в свои тайные убежища, сливаются с черными стволами тамариндов. Больше всего я боюсь этого часа, когда голова тяжелеет от тишины и света, а ветер режет, словно разогретый нож.
Я сижу в тени старого тамаринда на берегу реки. Это дерево было первым, что я увидел, проснувшись там, наверху, на своей площадке. Я спустился к нему, подумав, что это может быть тот самый тамаринд у родника, о котором говорится в письме про клад. Он показался мне настоящим властелином долины. Дерево не высоко, но под защитой его раскидистых ветвей, в их тени, ощущаешь мир и покой. Теперь я хорошо знаю его кряжистый, потемневший от времени, жары и засухи ствол, его узловатые ветви, покрытые тонким кружевом такой нежной, такой молодой листвы. Земля вокруг него усеяна длинными золотистыми стручками, лопающимися от спелых зерен. Каждый день я прихожу сюда со своими тетрадями и карандашами, сосу кисленькие зернышки, раздумывая над новыми планами, подальше от нестерпимого зноя, что царит в моей палатке.
Я пытаюсь определить параллельные линии и пять точек, служащие ориентирами на карте Корсара. Точки — это, вне всякого сомнения, вершины гор, которые видны при входе в Лощину. Вечером, до темноты, я дошел до устья реки и увидел эти вершины. Заходящее солнце еще освещало их, и меня снова охватило странное волнение, словно что-то вот-вот должно мне открыться.
Без конца черчу я на бумаге одни и те же линии: до боли знакомый изгиб реки, уходящая в горы, прямая как струна долина. По сторонам базальтовыми замками стоят холмы.
Сегодня, когда солнце стало клониться к западу, я решил подняться вверх по склону восточного холма, чтобы поискать там «проушины» — отметины, оставленные Корсаром. Если он и правда был здесь, что кажется мне все более и более вероятным, то не мог не оставить на скалах или на каком-нибудь другом камне таких отметин. С этой стороны склон более удобен для подъема, но вершина словно удаляется, по мере того как я карабкаюсь вверх. То, что издали виделось мне ровной стенкой, оказалось в действительности множеством ступеней, которые совершенно сбивают меня с толку. Вскоре я оказываюсь так далеко от противоположного склона, что с трудом различаю белое пятнышко парусиновой палатки, служащей мне убежищем. Дно долины выглядит серо-зеленой пустыней, усеянной черными каменными глыбами, среди которых теряется русло реки. При входе в долину я вижу высокий утес мыса Венеры. Как одинок я здесь, несмотря на близость людей! Наверно, это и беспокоит меня больше всего: ведь я могу тут умереть, и никто этого не узнает. Разве что какой-нибудь ловец осьминогов заметит мой лагерь и поднимется посмотреть. А может, вода и ветер унесут всё, разметают, разбросают среди камней и опаленных солнцем деревьев.
Я внимательно вглядываюсь в возвышающийся напротив западный холм. Что это — оптический обман? Чуть выше мыса Венеры я вижу выбитую в скале большую букву «M». Сейчас, при сумеречном, косо падающем свете, она проступает с особой отчетливостью, словно сделанный гигантской рукой надлом. Дальше, на вершине зубца, виднеется наполовину разрушенная каменная башня: я просто не заметил ее, устраивая свой лагерь прямо под ней.
Я потрясен этими открытиями. Тут же, не медля ни минуты, я спускаюсь обратно по склону холма и бегом пересекаю долину, чтобы успеть до темноты. Вздымая снопы холодных брызг, я переправляюсь вброд через Камышовую реку и по каменной осыпи, которой следовал в первый день, взбираюсь на западный холм.
Добравшись до верха склона, тщетно ищу я очертания буквы «М» — вблизи они распались. Края скалы, образовывавшие боковые линии, расступились, а в центре между ними оказалось нечто вроде плато, поросшего искривленными ветром, перекрещенными деревцами. Согнувшись под ударами порывистого ветра, я лезу дальше и слышу, как срываются вниз камни. Между кустами молочая и пальмами вакоа мелькают и прячутся коричневые тени. Это дикие козы, может быть сбежавшие из стада манафов.
Наконец я добираюсь до башни. Она стоит на вершине утеса, нависая над долиной. Как же я не заметил ее сразу, когда пришел сюда? Полуразрушенная башня сложена из больших кусков базальта, скрепленных между собой известковым раствором. С одной стороны видны остатки двери или бойницы. Я вхожу внутрь развалин и сажусь на корточки, чтобы спрятаться от ветра. Через отверстие в стене виднеется море. В сумеречном свете оно предстает бескрайним, неистово синим; подернутый серой дымкой горизонт сливается с небом.
Отсюда, с вершины утеса, открывается огромное пространство, от рейда Порт-Матюрена до восточной оконечности острова. И я понимаю, что эта наспех построенная башня возведена здесь для того, чтобы наблюдать за морем и высматривать приближающегося врага. Кто же соорудил этот наблюдательный пункт? Явно не британское Адмиралтейство: владея морским путем в Индию, оно могло не бояться опасности с моря. Впрочем, ни английские военно-морские силы, ни флот его величества короля Франции не стали бы строить столь непрочное сооружение, и в таком пустынном месте. Рассказывая о своем путешествии, предпринятом ради возможности наблюдать транзит Венеры в 1761 году, Пенгре об этом строении не упоминает. Зато я помню описание первого английского лагеря, разбитого в 1810 году на мысе Венеры, на месте будущей обсерватории, именно там, где я сейчас нахожусь. В «Маврикийском альманахе», который я читал в библиотеке Карнеги, говорилось о небольшой «батарее», построенной в ущелье для наблюдения за морем. Тьма сгущается, тем временем мой мозг лихорадочно работает, как бывает в полузабытьи, которое предшествует сну. Я читаю вслух наизусть фразы из читаного-перечитаного письма Нажеона де Лестана, написанного размашистым наклонным почерком на изодранном клочке бумаги:
Первая веха: возьмите камень убтВзять второй V, сделать зюйд-норд,то же — низ.От восточного родника угол — проушина.Знак на песке у родника.Для в\о влевоИ там каждый из отметины BnShe.Там скребите напротив фарватера, после чего найдете, что думаете.Ищите :: SИдите х — 1 зн м диагонали на Командорскую Вышку.
Ночная мгла постепенно накрывает долину, я сижу на развалинах Командорской Вышки. Я не чувствую больше ни усталости, ни холодного ветра, ни одиночества. Только что мне открылся первый знак Неизвестного Корсара.
* * *
После обнаружения Командорской Вышки я в течение нескольких дней лихорадочно обследовал дно долины, пребывая в состоянии близком к помешательству. Хотя воспоминания путаются и ускользают, как сон, эти дни, проведенные под раскаленным апрельским солнцем, в период больших циклонов, запомнились мне как вертикальное падение в бездонную пропасть. Еще запомнилось жжение в груди — словно вдохнул горячего воздуха — от непомерного груза страданий. От темна до темна я следую за кочующим в небе солнцем от одиноких холмов на востоке к горам, возвышающимся в центре острова. Я передвигаюсь как солнце — дугообразно, взвалив на плечо кирку, измеряя теодолитом неровности почвы, остающиеся моими единственными ориентирами. Медленно описывают круг, удлиняются тени деревьев. Солнце жжет через одежду, это жжение не проходит и ночами, мешаясь с исходящим от земли холодом, не дает мне уснуть. В иные вечера я так устаю от ходьбы, что ложусь там, где застает меня ночь, меж двух вулканических глыб, и сплю до утра, пока не пробуждаюсь от голода и жажды.
Однажды я просыпаюсь среди ночи в центре долины, почувствовав на себе дыхание моря. Лицо мое еще горит от солнца, в глазах сверкает ослепительное пятно. Стоит безлунная ночь — «ночь черной луны», как говорил когда-то отец. Небо полно звезд, и я гляжу на них и не могу наглядеться, отдавшись во власть этому безумию. И в голос разговариваю сам с собой. «А вот и рисунок. Вон он. Я вижу его, — громко говорю я. — Карта Неизвестного Корсара — не что иное, как Южный Крест и его „свита“ — Ночные Красавицы». Я вижу, как на гигантском пространстве долины сверкают вулканические камни — будто звезды, зажженные в пыльной мгле. Широко раскрыв глаза, я иду к ним и чувствую на лице жар от их сияния. Жажда, голод, одиночество вихрем вьются внутри. Я слышу чей-то голос и узнаю отцовские интонации. Это немного меня успокаивает, но тут я понимаю, что говорю я сам, и меня пробирает дрожь. Чтобы не упасть, я сажусь прямо на землю рядом с большим тамариндом, в тени которого укрываюсь днем. Дрожь волнами пробегает по телу, я чувствую, как холод — холод земли и окружающего пространства — пронизывает меня насквозь.
Сколько времени пробыл я тут? Открыв глаза, я вижу над собой листву тамаринда и проглядывающие сквозь нее солнечные глазки. Я лежу между корней. Рядом со мной — темнокожие мальчик и девушка, одетые в лохмотья, как манафы. В руках у девушки тряпка, она выкручивает ее, чтобы выжать несколько капель воды мне на губы.
Вода течет мне в рот, на распухший язык. Каждый глоток причиняет боль.
Мальчик отходит куда-то, потом снова возвращается с тряпкой, намоченной в речной воде. Я пью еще. Каждая капля пробуждает мое тело, пробуждает боль, но мне хорошо.
Девушка говорит что-то мальчику по-креольски, я едва понимаю ее. И вот я остаюсь с ней один на один. Я силюсь приподняться, и она помогает мне сесть. Мне хотелось бы заговорить с ней, но я с трудом ворочаю языком. Солнце стоит уже высоко в небе, в долине становится жарко. Вне тени старого тамаринда, ослепительный пейзаж выглядит угрожающе. При мысли, что мне предстоит выйти из тени и пересечь это залитое светом пространство, к горлу подкатывает тошнота.
Возвращается мальчик. Он несет в руке перечную лепешку и подает ее таким церемонным жестом, что мне становится смешно. Я медленно жую лепешку, жгучий перец благотворно действует на мой больной рот. Я разламываю остаток лепешки надвое и протягиваю девушке и мальчику. Но они отказываются.
«Где вы живете?»
Я сказал это не по-креольски, но девушка вроде бы поняла. Она показывает на высокие горы в глубине долины. И, кажется, говорит: «Там, наверху».
Это настоящая манафская девушка, молчаливая, осторожная. Когда я сел и заговорил, она сразу отстранилась, готовая в любую секунду убежать. Мальчик тоже отошел подальше, поглядывает на меня украдкой.
Вдруг они уходят. Я хочу окликнуть их, задержать. Они — первые человеческие существа, которых я вижу за последние несколько месяцев. Но зачем их звать? Они уходят неторопливо, не оборачиваясь — прыгают с камня на камень и исчезают в чаще. Через какое-то мгновенье я вижу, как они уже взбираются по склону западного холма — словно козы. И исчезают в глубине долины. Они спасли меня.
До вечера я лежу, почти не шевелясь, в тени тамаринда. Большие черные муравьи в неутомимой и бесплодной суете бегают по корням. К концу дня в небе раздаются крики пролетающих над Английской лощиной морских птиц. В воздухе пляшут москиты. Осторожно, по-стариковски, я бреду через долину обратно к своему лагерю. Завтра я отправлюсь в Порт-Матюрен и буду там дожидаться отплытия первого попавшегося корабля. Может, это будет «Зета»?
* * *
Потом были эти дни в Порт-Матюрене, вдали от Английской лощины, — больничные дни, — и главный врач Камаль Буду, сказавший только: «You could have died of exposure». Exposure — это слово я сохранил в памяти, мне кажется ни одно другое не могло бы лучше выразить того, что чувствовал я в ту ночь, перед тем как дети-манафы дали мне попить. И все же мне никак не решиться уехать. Это было бы страшным поражением: дом в Букане, вся наша жизнь были бы навсегда потеряны и для меня, и для Лоры.
И вот утром, еще затемно, я покидаю отель в Порт-Матюрене и снова отправляюсь в Английскую лощину. На этот раз мне не нужна повозка: все мои вещи остались там, в лагере, завернутые в парусину и придавленные камнями.
Кроме того, я решил нанять человека, который помогал бы мне в поисках. В Порт-Матюрене мне указали на ферму Кастелей, за зданием «Кейблз энд Вайалесс», там обязательно найдется кто-нибудь.
Я подхожу к Английской лощине на рассвете. В утренней прохладе, смешанной с запахом моря, всё мне кажется новым, преобразившимся. Небо над восточными холмами окрашено в нежно-розовый цвет, море сверкает изумрудным блеском. Деревья и пальмы вакоа в свете зари выглядят неузнаваемо.
Как мог я так быстро позабыть эту красоту? Возбуждение, которое я испытываю сегодня, ничуть не похоже на то лихорадочное состояние, что свело меня с ума и заставило бегать по долине. Теперь я понимаю, зачем явился сюда: оно сильнее меня, это воспоминание, существовавшее во мне до того, как я появился на свет. Впервые за последние месяцы мне кажется, что Лора близко, что разделяющее нас расстояние ничего больше не значит.
Я думаю о ней, томящейся, будто в плену, там, в Форест-Сайде, и смотрю, смотрю на рассветный пейзаж, чтобы передать ей через все расстояния эту красоту и этот покой. Я вспоминаю, как мы играли когда-то под крышей дома в Букане: забившись каждый в свой угол темного чердака со старым номером «Иллюстрейтед Лондон ньюс», мы изо всех сил старались мысленно передать друг другу найденные там слова и картинки. Интересно, удастся теперь Лоре взять верх в этой игре, как когда-то? Я мысленно передаю ей все, что вижу: четкую линию холмов на фоне розового неба, изумрудное море, ветер, медленный полет птиц из бухты Ласкар прямо на восходящее солнце.
К полудню я поднимаюсь на Командорскую Вышку, к разрушенной дозорной башне Корсара, и оттуда вдруг вижу расщелину. Из долины она не видна, так как вход в нее скрывает каменная осыпь. При полуденном солнце я отчетливо различаю зияющую в боку восточного холма темную рану.
Тщательно сопоставив ее местоположение с растущими в долине деревьями, я иду переговорить с фермером, живущим у здания телеграфа. С дороги на Порт-Матюрен его ферма похожа, скорее, на ветхое убежище от дождя и ветра, наполовину ушедшее в землю. При моем приближении с земли ворча поднимается нечто черное, при ближайшем рассмотрении оказавшееся полудикой свиньей. Следом, злобно щерясь, появляется пес. Я вспоминаю, как Дени учил меня когда-то во времена наших скитаний по полям: палка, камень не помогут. Нужно два камня — один бросаешь, другим грозишь. Собака отскакивает, но к входу в дом меня не подпускает.
«Господин Кастель?»
Появляется мужчина, по пояс голый, в рыбацких штанах. Это негр с хмурым лицом, высокий и крепкий. Он отгоняет собаку и приглашает меня войти.
Изнутри ферма выглядит темной и закопченной. Всю обстановку составляет стол и два стула. В глубине единственной комнаты что-то стряпает женщина в полинялом платье. Рядом с ней — светлокожая девочка.
Г-н Кастель предлагает мне сесть. Сам он остается стоять, вежливо слушает, как я объясняю, что мне от него надо. Потом одобрительно кивает. Он будет приходить ко мне время от времени, когда понадобится помощь, а его приемный сын Фриц станет каждый день носить мне еду. Зачем мы будем копать землю, он не спрашивает. Он вообще не задает вопросов.
Днем я решаю продолжить свои поиски южнее, в верхней части долины. Покинув убежище в тени тамаринда, куда я перенес свой лагерь, я поднимаюсь вверх по течению Камышовой реки. Речка — в сущности, небольшой ручей, слабое отражение подводной реки — извивается по песчаному руслу, петляет, образует островки. Выше она и вовсе превращается в тоненький ручеек, бегущий посреди ущелья по черному галечнику. Я подобрался совсем близко к отрогам гор. Растительность тут еще беднее, чем в долине: колючие кустарники, акации и неизменные пальмы вакоа с их саблевидными листьями.
Кругом стоит глубокая тишина, я иду, стараясь производить как можно меньше шума. У подножия гор ручей разделяется на несколько источников, вытекающих из вулканических и сланцевых расщелин. Вдруг небо затягивается тучами, начинается дождь, падает крупными холодными каплями. Вдали, в самом низу Лощины, над морем собирается гроза. Укрывшись под тамариндом, я смотрю, как на узкую долину надвигается дождь.
И тут я вижу ее: это та самая девушка, которая помогла мне, когда я бредил от жажды и переутомления. У нее совсем детское лицо, но она высока и стройна, на ней короткая юбка, какие носят обычно женщины манафов, и рубашка вся в лохмотьях. Волосы — длинные и вьющиеся, как у индианок. Наклонив от дождя голову, она идет вдоль долины прямо к моему дереву. Я знаю, что она меня еще не видит, и боюсь момента, когда буду обнаружен. Что она сделает? Закричит от страха и убежит? Она ступает бесшумно, гибкая, как животное. Вот она останавливается, смотрит в сторону тамаринда и замечает меня. По красивому непроницаемому лицу пробегает тревога. Она застывает, стоя на одной ноге и опираясь на длинную острогу. Намокшая от дождя одежда липнет к ее телу, длинные черные волосы оттеняют сияние медной кожи.
— Здравствуйте! — Я говорю это прежде всего, чтобы нарушить царящую вокруг тревожную тишину. И делаю шаг ей навстречу.
Она не двигается, только смотрит на меня. Дождевая вода струится по ее лбу, щекам, волосам. В руке у нее лиана, унизанная рыбами.
— Вы ходили рыбачить?
Мой голос звучит странно. Понимает ли она, что я говорю? Она подходит к тамаринду и садится на корень, укрываясь от дождя. Ее лицо по-прежнему обращено к горам.
— Вы живете в горах?
Она кивает. Потом говорит певучим голосом:
— Это правда, что вы ищете золото?
Я удивлен не столько вопросом, сколько ее речью. Она говорит по-французски почти без акцента.
— Вам так сказали? Да, правда, я ищу золото.
— И вы нашли его?
Я смеюсь.
— Нет, еще не нашел.
— А вы правда думаете, что здесь есть золото?
Ее вопрос веселит меня:
— А что? Вы так не думаете?
Она смотрит на меня. Ее лицо спокойно, на нем нет ни тени страха — как у ребенка.
— Здесь все бедные.
Она снова поворачивает голову к Лимонной горе, скрытой дождевой тучей. Какое-то время мы молча смотрим на дождь. Я вижу ее промокшую одежду, ее стройные ноги, лежащие на земле босые ступни.
— Как вас зовут? — Я спросил это почти нечаянно, может быть, чтобы у меня осталось хоть что-то от этой странной девушки, которая вот-вот исчезнет в горах.
Она смотрит на меня темными, глубокими глазами, словно думая о чем-то другом. И наконец говорит:
— Меня зовут Ума.
Потом она встает, берет лиану с нанизанными на нее рыбами, острогу и уходит — быстро-быстро шагает вдоль ручья под стихающим уже дождем. Еще какое-то время я вижу ее гибкую фигурку: горной козочкой она перепрыгивает с камня на камень, затем скрывается в чаще. Все произошло так быстро, что я готов поверить, будто сам выдумал это явление, эту девушку, дикую и прекрасную, которая спасла мне жизнь. Дождь совсем перестал, и солнце с новой силой горит в синем небе. При солнечном свете горы кажутся выше и неприступней. Напрасно я вглядываюсь в склоны Лимонной горы. Девушка исчезла, слившись с черными каменными стенами. Где она живет, в каком манафском селении? Я вспоминаю ее странное имя, индийское, в два слога, оно так причудливо прозвучало в ее устах, — это имя волнует меня. Наконец я бегом спускаюсь вниз, в долину, к своему лагерю у старого тамаринда.
Остаток дня я провожу в его тени, изучая карты долины и отмечая на них красным карандашом новые участки для исследования. Когда я отправляюсь взглянуть на них на месте, то неподалеку от второго пункта, на вросшем в землю камне, обнаруживаю четкий знак: четыре точки, образующие ровный квадрат. И тут же мне вспоминаются слова из письма Неизвестного Корсара: «Ищите ::». Сердце мое бешено колотится, когда, обернувшись назад, я вижу дозорную башню Командорской Вышки, расположенную по диагонали норд-зюйд.
В тот же день поздно вечером я нахожу и первую проушину — на осыпи восточного холма.
Я обнаруживаю этот знак случайно, пытаясь вычертить линию ост-вест, пересекающую Камышовую реку в пределах старого болота.
Шагая с компасом в руке спиной к солнцу, через небольшую впадину, которую определил для себя как высохшее русло притока речки, я дохожу до восточного утеса, совершенно отвесного в этом месте. Он представляет собой почти вертикальную базальтовую стену, местами осыпавшуюся. И вот, в одном месте этой стены, ближе к вершине, я вижу знак.
«„Проушина“! Это „проушина“!» — твержу я вполголоса.
Я ищу, как бы мне добраться до верха утеса. Камни срываются у меня из-под ног, но я лезу, цепляясь за кустарник. Добравшись почти до самой вершины, я с трудом нахожу выбитый на камне знак. Снизу он был ясно виден: равнобедренный треугольник, перевернутый вершиной вниз, — именно так выглядели проушины морских якорей во времена корсаров. Кровь стучит у меня в висках, пока я ищу его. Неужели я стал жертвой оптического обмана? На камнях тут и там попадаются отметины в форме угла — следы старых обломов. Снова и снова, скользя на каменной осыпи, я осматриваю край утеса.
Снизу на меня смотрит юный Фриц Кастель. Он принес мне провизию и теперь, стоя у подножия утеса, следит за моими действиями. По направлению его взгляда я понимаю, где ошибся. Куски базальта похожи между собой; те, которые я заметил снизу, находятся выше — теперь я уверен в этом. Я карабкаюсь вверх и действительно добираюсь до другой площадки, расположенной там, где кончается растительность. И вот, прямо передо мной, на фоне большого черного камня, сверкает великолепный треугольник «проушины», выбитый в твердой породе с такой четкостью, какой можно достигнуть только при помощи зубила. Дрожа от волнения, я подбираюсь ближе к камню, глажу его кончиками пальцев. Нагретый солнцем базальт нежен и мягок, как кожа, и я чувствую под пальцами острые края перевернутого треугольника, вот такого:
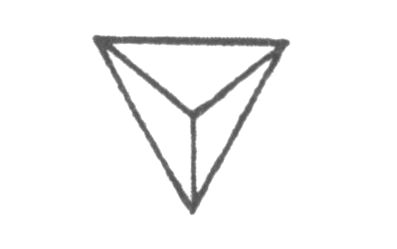
Точно такой же знак обязательно должен быть на противоположном склоне долины, по оси ост-вест. Но этот склон далеко, мне не разглядеть его даже в подзорную трубу. Западные холмы уже погрузились во мрак, и я решаю отложить поиски второй проушины до завтра.
Юный Фриц отправляется домой, а я снова возвращаюсь наверх. Долго сижу на осыпающемся утесе, глядя на раскинувшуюся внизу Английскую лощину, на которую спускается ночь. Кажется, впервые я смотрю на нее не своими глазами, а глазами Неизвестного Корсара. Сто пятьдесят лет назад пришел он сюда, начертил на речном песке карту своего клада, которую через какое-то время смыло водой или разметало ветром, и остались от нее лишь эти вехи, высеченные в камне. Я представляю себе, как он с зубилом и молотком в руках высекает этот знак и звон его ударов разносится по всей пустынной долине. В тиши Лощины, где лишь ветер шелестит в листьях да с моря время от времени доносится рокот волн, я и сейчас слышу эти удары зубила о камень, отдающиеся многократным эхом в холмах. Вечером, завернувшись в старую попону между корнями старого тамаринда, как когда-то на палубе «Зеты», я мечтаю о новой жизни.
Сегодня, не успело рассвести, как я был уже у подножия западного утеса. Утренний свет едва коснулся черных скал, и в просвете долины прозрачной голубизной — светлее неба — сияет море. Как и каждое утро, слышатся голоса летящих через бухту морских птиц: целые эскадрильи бакланов, чаек, олуш, хрипло покрикивая, направляются в бухту Ласкар. Никогда еще их появление не доставляло мне такой радости. Мне кажется, что, пролетая над Лощиной, они приветствуют меня своими криками, и я кричу им в ответ. Несколько птиц пролетают прямо надо мной — проворные буревестники, длиннокрылые крачки. Они кружат у самого утеса, потом догоняют над морем остальных. Я завидую их легкости, быстроте, с которой они носятся в воздухе, не завися от земли. И вижу себя — как, прицепившись к этой пустой долине, я днями, месяцами обыскиваю пространство, которое птица может охватить взглядом за один миг. Мне нравится смотреть на них, я чувствую себя немного причастным к красоте их полета, к их свободе.
Разве им нужно золото, богатство? Им достаточно ветра, утреннего неба, богатого рыбой моря и скал над ним — их единственного убежища от бурь.
Движимый интуицией, я направляюсь к черному утесу, на котором еще с другого склона долины разглядел несколько расселин. Ветер хлещет, опьяняет меня, но я все лезу вверх, хватаясь за кустарник. Вдруг над восточными холмами встает солнце — великолепное, ослепительное, — зажигает на море искры.
Отрезок за отрезком я осматриваю утес. Солнце палит, медленно поднимаясь по небу. Около полудня я слышу, как кто-то зовет меня. Это юный Фриц ждет внизу, у лагеря. Я спускаюсь, чтобы передохнуть. Мое утреннее воодушевление заметно поостыло. Я утомился и пал духом. Устроившись в тени старого тамаринда, мы с Фрицем едим белый рис. Поев, он молча ждет, глядя вдаль с бесстрастным выражением, характерным для местных чернокожих.
Я думаю об Уме, такой дикой, такой подвижной. Вернется ли она сюда? Каждый вечер перед заходом солнца я прохожу по Камышовой реке до прибрежных дюн, ищу ее следы. Зачем? Что скажу я ей? Но мне кажется, что она единственная, кто может понять, чего я здесь ищу.
Этой ночью, когда в небе одна за другой загораются звезды: Малая Медведица, Орион, Сириус, я вдруг понимаю, в чем ошибся: когда я строил ось ост-вест исходя из местоположения «проушины», я ориентировался на магнитный север, определяя его по компасу. Корсар же, составляя свои карты и устанавливая вехи на скалах, компасом не пользовался. Конечно же, он находил север по звездам, и перпендикуляр ост-вест он установил исходя из этого направления. Разница между магнитным и звездным севером составляет семь градусов тридцать шесть минут, что означает расхождение в сотню футов у основания утеса, то есть искать надо на другой скале, той, что служит Командорской Вышке первой опорой.
Я так возбужден этим открытием, что не могу ждать до завтра. Вооружившись штормовым фонарем, босой, я иду к утесу. Яростный ветер гонит облака брызг. Сидя в укрытии среди корней старого тамаринда, я не слышал, как началась буря. А здесь она чуть не сбивает меня с ног, свистит в ушах, грозя задуть пламя фонаря.
Но вот я у подножия черного утеса, ищу путь наверх. Подъем настолько крут, что мне приходится карабкаться, зажав фонарь в зубах. Так я добираюсь до уступа на полпути к вершине и, двигаясь вдоль осыпающегося края, начинаю искать заветный знак. В свете фонаря базальтовая стена выглядит странно, зловеще. Я вздрагиваю при виде каждого углубления, каждой трещины. Так я обследую весь уступ до расселины, отделяющей эту часть утеса от торчащего над морем зубца. Порывы холодного ветра, близкий рокот волн, струящаяся по лицу вода оглушают меня. В полном изнеможении я готов уже спуститься вниз, как вдруг замечаю прямо над собой большой камень. Я знаю, я уверен: знак может быть только там. Это единственный камень, который виден из любой точки долины. Чтобы подобраться к нему, мне надо сделать крюк, пройти по осыпающейся каменистой тропинке. Наконец, с фонарем в зубах, я добираюсь до камня и вижу «проушину». Ее края под моими пальцами так остры, будто их вырезали только вчера. Черный камень холоден и скользок. В отличие от знака на западном склоне, треугольник здесь начертан вершиной вверх: таинственный глаз, глядящий из потусторонних времен, вечно созерцающий противоположный склон долины — неусыпно, днем и ночью. Дрожь пробегает по моему телу. Я прикоснулся к тайне, которая сильнее, долговечнее меня. Куда же она меня приведет?
После этого я живу в некоем подобии сна наяву, где голоса Лоры и Мам на веранде в Букане мешаются с посланием Неизвестного Корсара и — неуловимым образом — Умы, пробирающейся среди кустов к верховьям долины. Я погряз в одиночестве. Мне не с кем видеться, кроме юного Фрица Кастеля. Да и он теперь приходит не часто. Вчера (а может, позавчера, не помню) он поставил котелок с рисом на камень у моего лагеря, а сам бросился наутек, карабкаясь вверх по западному холму и не обращая внимания на мои оклики. Можно подумать, что он меня боится.
На заре, как и каждое утро, я иду к устью реки. Я взял с собой туалетные принадлежности — бритву, мыло, щетку, — а также грязное белье, чтобы постирать его там. Положив зеркало на камень, я первым делом сбрил бороду, затем подстриг волосы, которые уже дошли мне до плеч. Из зеркала на меня смотрит худое, почерневшее от солнца лицо с лихорадочно блестящими глазами. Нос, тонкий, с горбинкой, как у всех мужчин рода Летан, еще больше подчеркивает растерянное, почти изголодавшееся выражение: гоняясь за обитавшим здесь Неизвестным Корсаром, я определенно становлюсь похож на него.
Мне нравится здесь, в устье Камышовой реки, где начинаются прибрежные дюны, где слышно медленное дыхание совсем близкого моря, где шуршит молочаем и тростником, скрипит пальмами порывистый ветер. На заре все здесь залито нежным, тихим светом и вода серебрится как зеркало. Покончив с бритьем, умыванием и стиркой, я собираюсь было вернуться в лагерь, как вдруг вижу Уму. Она стоит у реки с острогой в руках и беззастенчиво смотрит на меня чуть насмешливым взглядом. Я так часто надеялся встретить ее здесь, на взморье, во время прилива, после рыбной ловли, и все же эта встреча застает меня врасплох: я стою и не могу сдвинуться с места, а с мокрого белья на ноги мне капает вода.
Здесь, у моря, при свете нарождающегося дня, она еще прекраснее: холщовое платье и рубашка промокли от морской воды, лицо цвета меди, цвета базальта поблескивает кристалликами соли. Она стоит, отставив ногу и чуть наклонившись влево, держа в правой руке острогу из камыша с острием из черного дерева, а левую положив на правое плечо, в мокрой одежде — как античная статуя. Я смотрю на нее, не решаясь заговорить, и невольно думаю о прекрасной и таинственной Наде — такой, какой она представала на картинках в старых газетах, там, в сумраке чердака, под крышей нашего старого дома. Но вот я делаю шаг вперед, и чары рассеиваются. Ума отворачивается и, широко шагая, идет вдоль речки прочь.
— Подождите! — кричу я и не раздумывая бросаюсь за ней.
Ума останавливается, смотрит на меня. В ее глазах читаются тревога, недоверие. Мне хочется заговорить с ней, задержать ее, но я так давно не разговаривал ни с одной живой душой, что слов не хватает. Мне хочется рассказать ей о том, как я искал вечерами, перед приливом, ее следы на прибрежном песке. Но она заговаривает первая.
— Так вы нашли золото? — насмешливо спрашивает она своим певучим голосом.
Я мотаю головой, она смеется. Поджав под себя ноги, она присаживается поодаль на песок. Перед тем как сесть, заправляет юбку между ног движением, какого я не видел никогда ни у одной женщины. И опирается на свою острогу.
— А вы поймали что-нибудь?
Она, в свою очередь, мотает головой.
— Вы возвращаетесь к себе, в горы?
Она смотрит на небо.
— Пока рано. Я попробую еще, у мыса.
— Можно, я пойду с вами?
Не отвечая, она поднимается на ноги. Потом оборачивается ко мне:
— Пойдемте.
И идет, не дожидаясь меня. Быстро, звериной поступью шагает она по песку, положив острогу на плечо.
Я бросаю мокрое белье на песок, не думая о том, что его может разметать ветром. Я бегу за Умой, нагоняю ее у самого моря. Она движется вдоль набегающих волн, глядя вдаль. Мокрое платье липнет на ветру к ее стройному телу. В еще сером утреннем небе пролетают мои приятели-птицы, приветствуя нас своими трескучими голосами.
— Вам нравятся морские птицы?
Она останавливается, подняв к ним руки. Ее лицо сияет в лучах восходящего солнца. Она говорит:
— Они красивые!
Мы доходим до нагромождения камней в конце пляжа, и девушка проворно, без усилия вскакивает на них — босиком прямо на острые края. Она идет к мысу, туда, где глубже. Я хочу подойти, но она знаком велит мне остановиться. Наклонившись над голубой со стальным отливом водой с острогой наготове, она вглядывается в глубину у коралловой отмели. Довольно долго она стоит так, застыв в полной неподвижности, затем вдруг бросается вперед и исчезает под водой. Я смотрю на поверхность, ищу хоть какой-то признак движения, пузырьки, тень. Когда я не знаю уже, куда и смотреть, девушка, отдуваясь, выныривает в нескольких морских саженях от меня. Она медленно плывет ко мне и выбрасывает на камни пронзенную острогой рыбину. Потом выходит из воды, лицо ее бледно от холода. Она говорит:
— Там есть еще.
Взяв у нее из рук острогу, я, не раздеваясь, ныряю в море.
Под водой смутно виднеется дно, искрящиеся блестки водорослей. Шум бьющихся о коралловый барьер волн доносится сюда пронзительным скрежетом. Прижав к себе острогу, я плыву под водой к кораллам, проплываю вокруг них раз, другой, но ничего не вижу. Когда я выныриваю на поверхность, Ума, наклонившись вперед, кричит мне:
— Там, там!
Она ныряет. Я вижу под водой ее черную тень, скользящую у самого дна. Подняв тучу песка, из своего убежища показывается губан и медленно проплывает мимо. Острога чуть ли не сама собой выскакивает из моей руки и пригвождает рыбу ко дну. Вокруг меня образуется облако из крови. Я поднимаюсь на поверхность. Ума плывет рядом и выбирается на камни передо мной. Она выхватывает у меня острогу, затем ударом о камни убивает рыбину. Дрожа от холода, я с трудом перевожу дыхание. Ума тянет меня за руку:
— Пойдем! Надо идти!
И вот, держа обеих рыбин за жабры, она уже скачет с камня на камень к берегу. Там она находит лиану и нанизывает на нее рыб. Теперь мы идем вместе к Камышовой речке. Там, где река образует глубокую небесно-голубую заводь, она кладет рыб на землю и прыгает в пресную воду, плескаясь и брызгаясь, как купающееся животное. Я же большой мокрой птицей сижу на берегу, и это смешит ее. Тогда я тоже бросаюсь в воду, поднимая столп брызг, и мы долго с хохотом обдаем друг друга водой. Когда наконец мы выходим из воды, я с удивлением отмечаю, что не чувствую больше холода. Солнце поднялось уже высоко, раскалив песок у реки. Мокрая одежда липнет к нашим телам. Стоя на коленях в песке, Ума отжимает юбку и рубашку — сверху донизу, снимая сначала один, потом другой рукав. Ее медная кожа сверкает на солнце, с отяжелевших волос стекает вода, струится по щекам, по шее. От порывистого ветра вода в реке дрожит и морщится. Мы молчим. Здесь, у реки, под жестким солнечным светом, слушая рокот волн и печальный шепот ветра в тростниках, мы словно бы остаемся одни на целом свете, последние жители земли, явившиеся ниоткуда, случайно встретившиеся после кораблекрушения. Никогда я не думал, что со мной может произойти такое, что я смогу испытать нечто подобное. Какая-то неведомая сила зреет внутри меня, распространяется по всему телу — желание, огонь. Мы долго сидим на песке, ожидая, пока высохнет наша одежда. Ума тоже не двигается, сидит в привычной позе манафов — поджав под себя ноги, обхватив длинными руками колени и обратив лицо к морю. Солнце сверкает на ее спутанных волосах, я вижу ее чистый профиль, высокий лоб, линию носа, губы. Ветер раздувает ее одежду, и мне кажется, что теперь ничто на свете больше не имеет значения.
Ума первая решает, что пора идти. Внезапно она встает, не опираясь о землю, поднимает с песка рыбу. Присев на корточки у воды, разделывает ее новым для меня способом. Вспоров острогой рыбинам брюхо, она потрошит их. Затем протирает внутри песком и прополаскивает в речной воде. Внутренности она забрасывает подальше — на поживу полчищам крабов, уже поджидающим в сторонке.
Все это она проделывает быстро и молча. Затем смывает с берега свои следы. Я спрашиваю, зачем она это сделала, она отвечает:
— Мы, манафы, — беглые рабы.
Чуть дальше я подбираю свое белье — почти сухое, оно припорошено белым песком. Я иду за ней к лагерю. Придя туда, она кладет пойманную мною рыбу на плоский камень и говорит:
— Это твое.
Я протестую, хочу, чтобы она забрала рыбу себе, но она говорит:
— Ты голоден, сейчас я приготовлю тебе поесть.
Она торопливо собирает хворост. Взяв несколько зеленых камышинок, делает из них нечто вроде решетки и устанавливает над ветками. Я протягиваю ей свое огниво, но она качает головой. Собрав немного сухого лишайника, она садится на корточки спиной к ветру и, взяв два кремешка, начинает быстро-быстро, не останавливаясь, стучать одним о другой, пока не высекает несколько искр. Лишайник, положенный в углубление очага, дымится. Ума осторожно берет его обеими руками и медленно дует на него. Когда вспыхивает пламя, она кладет лишайник на сухие ветки, и вскоре костер, потрескивая, разгорается. Ума поднимается на ноги. Лицо ее светится детской радостью. На решетке из зеленых камышинок поджаривается рыба, я уже ощущаю аппетитный дух. Ума права: я умираю с голода.
Рыба готова, и Ума кладет решетку на землю. По очереди, обжигая пальцы, мы отламываем кусочки прожаренного мяса. Мне кажется, что никогда не едал я ничего вкуснее этой рыбы, пожаренной без соли на решетке из зеленого камыша.
Но вот с едой покончено, и Ума встает. Она гасит костер, тщательно засыпая его черным песком. Затем берет вторую рыбину, которую предварительно обваляла в земле, чтобы защитить от палящего солнца. Не говоря ни слова, не взглянув на меня, она уходит. Ветер обрисовывает ее тело под полинявшей от морской воды и выгоревшей на солнце одеждой. На залитом светом лице темнеют два пятнышка тени — глаза. Я понимаю, что она не должна ничего говорить. Понимаю, что должен остаться, это часть игры, игры, в которую она играет со мной.
Гибкая и проворная, как животное, она скользит среди кустов, прыгает с камня на камень, удаляясь в глубь долины. Стоя у старого тамаринда, я вижу, как дикой козочкой она взбирается по склону холма. Не оглядываясь, не останавливаясь. Она направляется в горы, к горе Любен, и исчезает в тени, скрывающей западные склоны. Я слышу, как колотится мое сердце, мысли еле ворочаются в мозгу. В Английскую лощину возвращается одиночество, еще более страшное, чем прежде. Сидя у своего лагеря, лицом к закату, я смотрю, как на долину набегают тени.
В эти дни я продвигаюсь все дальше в осуществлении моей мечты. С каждым днем делаю все больше и больше открытий на пути своих поисков, и это наполняет меня счастьем. С рассвета и до темноты шагаю я по долине, отыскивая вехи и знаки. От ослепительного света — предвестника зимних дождей, — от криков морских птиц, от северо-западного порывистого ветра я будто пьяный.
Иногда между базальтовых глыб, на середине каменной осыпи, на берегу Камышовой реки мелькает еле уловимая тень, так быстро, что я не могу с уверенностью сказать, видел ее или нет. Спускаясь со своих гор, Ума следит за мной, прячась за скалами или среди пальм вакоа. Иногда она приходит вместе с необыкновенной красоты мальчиком, немым от рождения, которого называет своим сводным братом. Он стоит рядом с ней, не решаясь подойти ближе, дикий и любопытный одновременно. Его зовут Шри; по словам Умы, так назвала его мать, потому что он якобы послан Богом.
Ума приносит мне поесть — странные кушанья, завернутые в листья горькой тыквы: рисовые лепешки и сушеных осьминогов, маниоку, перечные лепешки. Она кладет еду на плоский камень перед моим лагерем, словно жертвенное подношение. Я рассказываю ей о своих открытиях, мои рассказы смешат ее. По мере обнаружения знаков я заношу их в тетрадку. Она любит, когда я зачитываю эти записи вслух — камни, помеченные изображением сердца, двумя клеймами, полумесяцем. Камень с выбитой на нем буквой «М» в соответствии с «Соломоновыми ключами», камень с крестом. Голова змеи, женская голова, три отметины резцом, расположенные треугольником. Камень с изображением стула или буквы «Z», символизирующей послание Корсара. Скала с усеченной вершиной. Скала в виде крыши. Камень с изображением большого круга. Камень, тень которого имеет форму собаки. Камень с выбитой на нем буквой «S» и двумя выбоинами. Камень, помеченный изображением «турецкой собаки» (ползущей собаки, у которой не видно лап). Скалы, на которых выбита целая линия точек, указывающих направление зюйд-зюйд-вест. Разбитая и опаленная скала.
Уме нравится и то, что я приношу с собой: куски вулканической породы странной формы, осколки обсидиана, окаменелости. Ума берет их в руки и внимательно разглядывает, словно они волшебные. Иногда она тоже приносит мне разные необычные находки. Однажды она притащила камень стального цвета, гладкий и тяжелый. Это метеорит, и прикосновение к небесному телу, упавшему на Землю, возможно, тысячи лет назад, вселяет в меня трепет, как соприкосновение с великой тайной.
Теперь Ума приходит в Английскую лощину почти каждый день. Пока я делаю промеры, копаю ямы, она ждет в тени дерева, потому что боится, как бы шум не привлек кого-нибудь чужого. Несколько раз ко мне приходили юный Фриц и фермер Беге, чтобы помочь копать возле устья реки. В такие дни Ума не показывается, но я знаю, что она где-то здесь, поблизости, прячется за деревьями в укромном месте, где цвет кожи делает ее невидимой.
Вместе с Фрицем я расставляю вехи. Я специально заготовил для этого камышинки, которые втыкаю в землю через каждые сто метров, обозначая таким образом прямые линии. Затем я иду к верховьям долины и по найденным мной знакам — камням с отметинами, обозначенным углам, каменным кучам, расположенным в виде треугольника, и прочему — прокладываю при помощи теодолита продолжения этих прямых, чтобы вписать их затем в первоначальную систему линий (сетку Корсара). Солнце искрится на раскаленных черных камнях. Время от времени я подзываю юного Фрица, и он подбегает, чтобы воткнуть в землю у моих ног новую веху. Прищурившись, я вижу, как все линии сходятся в районе русла Камышовой реки, образуя на пересечениях узлы, где можно будет копать пробные ямы.
Потом мы с Фрицем копаем ямы у западного склона, под Командорской Вышкой. Пробив сухую, твердую землю, наши кирки почти сразу наталкиваются на базальт. Перед каждой новой ямой я сгораю от нетерпения. Найдем ли мы какой-нибудь знак, какой-нибудь след Неизвестного Корсара, а может, начало «каменной кладки»? Что же до сокровища… Как-то утром копаем мы с Фрицем у подножия холма, как вдруг я чувствую под своей киркой, вонзившейся в песчаную почву, какой-то круглый предмет, который в припадке безумия тут же принял за череп некоего моряка, похороненного в этом месте. Предмет катится по песку, и вдруг у него появляются лапы и клешни! Оказалось, это большой земляной краб, сон которого я потревожил. Юный Фриц, проявив больше проворства, чем я, тут же убивает его ударом лопаты и, довольный собой, прервав работу, берет котелок, идет за водой, разжигает костер и готовит из краба замечательный бульон.
Вечерами, когда угасает солнечный свет, а долина наполняется тишиной и покоем, я знаю, что Ума где-то неподалеку. Я чувствую ее взгляд, наблюдающий за мной с высоты холмов. Иногда я окликаю ее — кричу и слушаю потом долгое эхо, повторяющее ее имя: «У-ма-а!»
Взгляд ее близок и одновременно так далек — как взгляд парящей в вышине птицы, чью тень мы замечаем, лишь когда она заслоняет на миг солнце. Даже когда я подолгу не вижу ее из-за Фрица Кастеля или Беге (ибо ни одна манафская женщина никогда не покажется людям с побережья), мне нравится чувствовать ее взгляд — на себе, на всей долине. Может, и правда, что все вокруг принадлежит ей, что это она, как и ее народ, настоящая хозяйка долины? Вот только верит ли она в клад, который я ищу? Временами, когда дневной свет еще не набрал силы, мне кажется, что я вижу, как она бродит среди вулканических камней вместе со Шри, то и дело наклоняется, разглядывая камни, будто идет по невидимому следу.
Или же шагает вдоль реки к устью, туда, где море набегает на прибрежный песок. Стоя у прозрачной воды, она вглядывается в горизонт по ту сторону кораллового барьера. Я подхожу к ней и тоже смотрю на море. Лицо ее напряжено, почти печально.
— О чем ты думаешь, Ума?
Она вздрагивает, поворачивает ко мне лицо, ее глаза полны грусти. Она говорит:
— Ни о чем, я думаю только о невозможном.
— А что же это — невозможное?
Но она не отвечает. Затем появляется солнце, его свет делает все больше, значительнее. Ума стоит неподвижно на холодном ветру, а речная вода течет между ее ног, оттесняя губы прибоя. Ума трясет головой, словно желая стряхнуть свою застенчивость, берет меня за руку и увлекает к морю.
— Пойдем, будем ловить осьминогов.
Она берет длинную острогу, воткнутую в песок посреди камышей. Мы идем на восток, туда, где на берегу еще лежат тени. Русло Камышовой реки изгибается среди дюн и снова возникает у черного утеса. Тут до самого моря — камыши. Когда мы подходим ближе, тучи малюсеньких серебристых птичек срываются с земли и с писком «уииит! уииит!» улетают прочь.
— Тут живут осьминоги — вода здесь теплее.
Она идет к камышам и вдруг снимает с себя рубашку и юбку. Тело ее — длинное, тонкое, цвета темной меди — сверкает в лучах солнца. Она идет по камням дальше в море и исчезает под водой. На мгновение покажется на поверхности ее рука с острогой, и снова кругом только морская гладь с пробегающими по ней короткими волнами. Через несколько мгновений море раздается, и Ума выходит из воды так же плавно, как и вошла. Она идет по песку, подходит ко мне, снимает с остроги сочащегося чернильной жидкостью осьминога, выворачивает его наизнанку. Она смотрит на меня. В ней нет неловкости, одна дикая красота.
— Пойдем!
Не колеблясь ни секунды, я сбрасываю одежду и ныряю в холодную воду. И сразу ко мне возвращается то, что я потерял много лет назад, — море в Тамарене, где мы с Дени плавали нагишом наперерез волнам. Ощущение свободы, счастья. Я плыву под водой у самого дна с открытыми глазами. У скал я вижу Уму, она ковыряет своей острогой в расщелинах, вздымая чернильное облако. Мы вместе плывем к поверхности. Ума выбрасывает на песок второго осьминога, предварительно вывернув его наизнанку. Потом протягивает острогу мне. Улыбка сверкает на ее лице, она тяжело дышит. Я снова ныряю и в свою очередь плыву к скалам. Первого осьминога я упускаю, но второй оказывается пригвожденным к песчаному дну как раз в тот момент, когда он собирался улизнуть, выпустив облако чернил.
Мы плывем вместе в прозрачной воде лагуны. Совсем близко от кораллового барьера Ума ныряет и скрывается так быстро, что я не поспеваю за ней. Через мгновение она выныривает, на острие ее остроги бьется большой губан. Она снимает с острия еще живую рыбу и забрасывает ее далеко-далеко по направлению к берегу. Потом знаком велит мне молчать. Она берет меня за руку, и мы вместе скрываемся под водой. И тут я вижу, как прямо перед нами мелькает грозная тень: акула. Повернувшись вокруг себя два-три раза, тень удаляется. Мы же, едва дыша, выныриваем на поверхность. Я плыву к берегу, но Ума снова ныряет. Когда я доплываю до пляжа, то вижу, что она поймала еще одну рыбину. Она бежит рядом со мной по белому песку. Ее базальтовое тело искрится на солнце. Быстрыми, точными движениями она собирает осьминогов и губана и зарывает их в песок рядом с дюнами.
— Иди сюда. Нам надо обсохнуть.
Я лежу на песке. Стоя на коленях, она зачерпывает песок руками и посыпает меня сверху донизу.
— Посыпь меня тоже.
Я беру легкий песок в руки и сыплю его ей на плечи, на спину, на грудь. Теперь мы похожи на двух обсыпанных мукой печальных клоунов и весело смеемся этому.
— Когда песок осыпется, мы будем сухие, — говорит Ума.
Мы сидим на дюне у камышей, с ног до головы одетые в белый песок. Кругом — тишина, только шумит в камышах ветер да рокочет прибывающее море. И никого — кроме крабов, один за другим вылезающих с задранными клешнями из своих убежищ. Солнце в небе достигло зенита и шлет палящие лучи в самый центр этого безлюдья.
Я смотрю, как высыхающий песок тонкими ручейками стекает с плеч и груди Умы, постепенно обнажая ее лоснящуюся кожу. Во мне просыпается яростное желание, оно жжет меня изнутри, как солнце — мою кожу. Я касаюсь губами кожи Умы, она вздрагивает, но не отстраняется. Обвив длинными руками ноги, она кладет голову на колени и смотрит куда-то вдаль. Мои губы скользят от ее затылка вниз по нежной, блестящей коже, с которой серебряным дождем сыплется белый песок. Я весь дрожу, и Ума, подняв голову, тревожно спрашивает:
— Тебе холодно?
— Да… Нет. — Я сам не знаю, что со мной. Меня бьет нервная дрожь, дышать трудно.
— Что с тобой?
Ума внезапно вскакивает на ноги. Она быстро натягивает свою одежду, потом, как больному, помогает одеться мне.
— Идем, тебе надо отдохнуть в тени, идем же!
Что это — жар, переутомление? У меня кружится голова. Я с трудом бреду за Умой через камыши. Она идет вся прямая, держа за жабры рыбину, на конце остроги флагами болтаются осьминоги.
Когда мы приходим в лагерь, я ложусь в палатке и закрываю глаза. Ума остается снаружи. Она разводит огонь, чтобы поджарить рыбу. Кроме того, она обжаривает на жаровне принесенные утром лепешки. Когда еда готова, она приносит мне ее в палатку и смотрит, как я ем, но сама ничего не берет. Жареная рыба — просто объеденье. Я ем руками, второпях, запивая холодной водой, за которой Ума сходила к истоку речки. Мне уже лучше. Завернувшись, несмотря на жару, в попону, я смотрю на Уму, на ее профиль, обращенный наружу — словно она кого-то поджидает. Начинается дождь; сначала мелкий, он падает потом крупными каплями. Ветер сотрясает над нами парусину, скрежещет ветками тамаринда.
А когда начинает темнеть, девушка принимается рассказывать мне о себе, о своем детстве. Она говорит неуверенно, певучим голосом, подолгу молчит; шум ветра и стук дождя по палатке мешаются с ее словами.
«Мой отец — манаф, родом с Родригеса, с гор. Но он уехал отсюда, отправился в плавание на „Бритиш Индия“ — большом корабле, что ходил в Калькутту. В Индии он и встретил мою мать, женился на ней и привез сюда, потому что ее семья была против этой женитьбы. Он был старше ее и умер в плавании от малярии, когда мне было восемь лет. Тогда мать отдала меня в приют, к монахиням на Маврикий, в Ферне. У нее не было денег, чтобы самой воспитывать меня. Еще, я думаю, она хотела снова выйти замуж и боялась, что я стану помехой… В монастыре я очень любила мать-настоятельницу, и она тоже меня любила. Когда ей надо было возвращаться во Францию, она взяла меня с собой, потому что моя мать меня бросила. Мы жили в Бордо, а потом недалеко от Парижа. Я училась и работала в монастыре. Я думаю, матушка хотела, чтобы я стала монахиней, потому-то она и взяла меня с собой. Но когда мне было тринадцать лет, я заболела, и все думали, что я умру, потому что у меня был туберкулез… И тут пришло письмо от моей матери, с Маврикия, она писала, что хочет, чтобы я вернулась к ней. Сначала я не хотела, плакала; я думала, это потому, что я не хочу расставаться с матушкой-настоятельницей, но на самом деле я боялась ехать к своей настоящей матери, и еще я боялась жить в бедности, в горах. Мать-настоятельница тоже плакала, потому что она меня любила, и потом, она надеялась, что я тоже стану монахиней, а моя мать не была христианкой, она сохранила свою родную, индийскую веру, и потому мать-настоятельница думала, что я отвернусь от христианской веры. А потом я все же уехала, долго плыла на корабле через Суэцкий канал и Красное море. Когда я приехала на Маврикий, я увидела свою мать, но я совсем ее не помнила и очень удивилась, что она такая маленькая, закутанная в свои покрывала. Рядом с ней стоял маленький мальчик, она сказала, что это Шри и что его послал на землю Бог…»
Она умолкает. Уже поздно, скоро ночь. Снаружи долина уже окутана мраком. Дождь перестал, но, когда ветер колеблет ветви старого тамаринда, слышно, как на палатку падают капли.
«Сначала мне было трудно здесь жить, потому что я ничего не знала о жизни манафов. Я ничего не умела: ни бегать, ни ловить рыбу, ни разжигать огонь, я даже плавать не умела. И я не могла разговаривать, потому что тут никто не говорил по-французски, а моя мать говорила только на бходжпуре и на креольском. Это было ужасно, мне было четырнадцать лет, а я была как малое дитя. Сначала соседи смеялись надо мной, они говорили, что уж лучше бы мать оставила меня у богатых. Я и сама рада была бы сбежать, только не знала, куда идти. Вернуться во Францию я больше не могла, потому что теперь я была манаф и никто не захотел бы водиться со мной. И потом я очень полюбила моего братика, Шри, он был такой милый, такой чистый, я думаю, мать была права, когда говорила, что его послал Бог… Тогда я стала учиться всему, чего не умела. Я научилась бегать босиком по камням, ловить на бегу горных коз, разводить огонь, плавать и нырять, ловить рыбу. Я научилась быть манафом, жить, как жили беглые рабы, прячась в горах. И мне понравилось жить здесь, вместе с ними, потому что они никогда не лгут и никому не причиняют зла. Люди с побережья, из Порт-Матюрена например, похожи на людей с Маврикия, они лгут, обманывают, поэтому мы и прячемся от них в горах…»
Совсем стемнело. Из долины повеяло холодом. Мы лежим рядом, я чувствую жар тела Умы, наши ноги переплетены. Да, точно, мы как будто единственные человеческие существа на всей земле. Английская лощина затерялась где-то, она плывет назад, гонимая холодным морским ветром.
Я больше не дрожу, никуда не спешу, ничего не боюсь. И Ума забыла, что ей надо все время бежать куда-то, прятаться. Как недавно в камышах, она снимает одежду и помогает раздеться мне. Тело ее гладко и горячо, местами его все еще покрывает песок. Она смеется, стряхивая песок с моей спины, груди. А потом, не понимаю как, мы вдруг входим друг в друга. Ее лицо откинуто назад, я слышу ее дыхание, ощущаю удары ее сердца, жар ее тела — нестерпимый, жарче солнца, обжигавшего меня столько дней на море и в долине, — проникает в меня. И мы летим, взмываем в ночное небо, парим среди звезд, не думая ни о чем, молча слушая дыхание друг друга, ровное, как у спящих. И теснее прижимаемся один к другому, чтобы не чувствовать исходящего от камней холода.
Я нашел наконец расселину, где когда-то бил источник, теперь высохший. Я заметил ее еще в самом начале, когда только прибыл в Английскую лощину, но решил, что она расположена слишком далеко от реки, чтобы значиться на картах Корсара. Однако по мере расстановки вех в продолжение прямых линий, начинающихся у первоначальных ориентиров, я понемногу углубился в восточную часть долины. И вот как-то утром, когда я ползал по дну Английской лощины, неподалеку от западной «проушины», мне пришла в голову мысль обследовать участок вдоль линии, соединяющей «проушину» с камнем, отмеченным четырьмя точками, который я обнаружил на первом уступе утеса и на который в документе Корсара указывают слова: «Ищите :: S».
Не имея других вех, кроме камышинок, воткнутых на разном расстоянии друг от друга, я медленно продвигаюсь по дну долины. Незадолго до полудня, пройдя и пометив более тысячи футов, я добираюсь до вершины восточного склона. Оттуда я тотчас вижу разлом и отмечающий его знак. Это кусок базальта около шести футов высотой, установленный на пыльной почве холма таким образом, чтобы его было видно из глубины долины, от старого устья реки. Он единственный в своем роде, осколок базальтового выступа, торчащего на самой вершине утеса. Я уверен, что сюда его доставили люди, может быть, притащили, положив на бревна, а потом поставили вертикально, наподобие друидических камней. На боках у него до сих пор видны насечки для веревок. Но больше всего меня поражает знак на верхней грани камня, точно в центре: это прямой желобок, толщиной в палец и длиной дюймов в шесть, высеченный в камне при помощи зубила. Желобок этот самым точным образом продолжает линию, вдоль которой я пришел, следуя от западной «проушины», и указывает на разлом.
С замирающим сердцем я подхожу ближе и в первый раз вижу расселину. Это узкий коридор, который образовался в процессе выветривания горной породы и пронизывает толщу утеса, сужаясь к выходу в Английскую лощину. Вход в него скрыт каменной осыпью, потому-то мне до сих пор и не пришло в голову его обследовать. Со стороны долины вход в расселину теряется среди обломков утеса. А с высоты восточного холма расселина и вовсе похожа на неглубокий след обвала, каковым я ее и посчитал вначале.
Единственный путь, который мог меня привести к ней, это та самая линия, вдоль которой я двигался: начинаясь от западной «проушины», она пересекает русло Камышовой реки в точке 95 (в точном месте пересечения с осью норд-зюйд), проходит через середину камня с четырьмя отверстиями (точка S из документа Корсара) и достигает куска базальта, где сливается с желобком, высеченным рукой Корсара.
Я так потрясен этим открытием, что мне приходится сесть, чтобы опомниться. Холодный ветер помогает мне прийти в себя. Я торопливо спускаюсь по склону на дно расселины и оказываюсь в подобии открытого колодца, формой напоминающего подкову, шириной около двадцати пяти французских футов, спускающегося коридором в сотню футов длиной к каменной осыпи, что закрывает вход в него.
Сомнений быть не может: здесь, именно здесь кроется ключ к разгадке тайны. Здесь, где-то рядом, у меня под ногами, должен быть зарыт клад — сундук, стоявший когда-то запечатанным в передней части корабля, в который Неизвестный Корсар спрятал свои сказочные богатства, чтобы уберечь их от посягательств англичан и от алчности своих людей. Можно ли было найти лучший тайник, чем эта естественная расселина в толще утеса, не видимая ни с моря, ни из долины, надежно укрытая от глаз каменной осыпью и аллювиальными отложениями? Нет, я не могу ждать помощи. Я спускаюсь в лагерь и беру все необходимое: кирку, лопату, длинный металлический щуп, веревку, а также запасаюсь провизией и питьевой водой. До вечера без передышки я прощупываю и копаю дно расселины в том месте, на которое, как мне кажется, указывает желобок, выбитый на базальтовой глыбе.
К концу дня, когда на дне расселины начинаются сгущаться тени, щуп вдруг уходит глубоко в землю, открывая вход в тайник, наполовину заваленный землей. Впрочем, земля эта намного светлее, и это, по моему мнению, является несомненным доказательством того, что она была насыпана сюда специально, чтобы закрыть вход в пещеру.
Работая голыми руками, я отваливаю куски базальта в попытке расширить отверстие. Сердце стучит у меня в висках, одежда намокла от пота. Дыра увеличивается, и вот я вижу старое подземелье, стены которого укреплены уложенными в форме арки камнями. Я влезаю туда по пояс. Яма слишком тесна, с киркой там не развернуться, и мне приходится копать руками, освобождать камни, наваливаясь на щуп и используя его в качестве рычага. И вдруг металл со звоном натыкается на камень. Дальше копать некуда, я достиг дна: тайник пуст.
Ночь. Пустое небо над расселиной медленно темнеет. Но воздух настолько горяч, что кажется, будто солнце все еще горит на каменных стенах, на моем лице, на руках, внутри меня. Сидя на дне расселины, у пустого тайника, я пью теплую, безвкусную воду, что еще остается у меня во фляге, — пью и не могу напиться.
В первый раз за долгое время я думаю о Лоре, словно пробуждаюсь ото сна. Что бы она подумала, увидев меня тут, на дне этой ямы — грязного, с окровавленными от рытья земли руками? Посмотрела бы своим темным, сверкающим взглядом, и мне стало бы стыдно. Я слишком устал теперь, чтобы шевелиться, чтобы думать, чтобы чувствовать что бы то ни было. Я нестерпимо хочу, жажду, чтобы скорее наступила ночь, и растягиваюсь во весь рост там, где сижу, прямо на дне расщелины, положив голову на один из черных камней, которые сам выкопал из земли. Надо мной, между высоких каменных стен, чернеет небо. Я вижу звезды — осколки разбитых созвездий, имен которых уже не могу вспомнить.
Утром, выйдя из расселины, я вижу Уму. Она сидит у моего лагеря в тени дерева и ждет меня. Рядом с ней — Шри, смотрит на меня, не двигаясь.
Я подхожу к Уме и сажусь рядом. Лицо ее темнеет в тени, но глаза сверкают. Она говорит: «В расселине нет больше воды. Фонтан высох».
Она так и говорит — «фонтан», а не «источник», по-креольски. И говорит так спокойно, будто я искал в расщелине воду.
Солнце блещет на камнях, в листве деревьев. Ума сходила к реке, набрала воды в котелок и теперь готовит индийскую мучную похлебку — кир. Когда похлебка готова, она наливает мне ее в эмалированную миску. Сама же зачерпывает рукой прямо из котелка.
Спокойным певучим голосом она рассказывает мне о своем детстве во Франции, о том, как жила у монашек, и о своей жизни здесь, когда она вернулась к матери и стала жить среди манафов. Мне нравится, когда она вот так рассказывает. Я пытаюсь представить себе ее в тот день, когда она сошла с большого парохода в черном форменном платьице, ослепленная всем этим светом.
Я тоже рассказываю ей о своем детстве в Букане, о Лоре, о вечерних занятиях с Мам на веранде, о приключениях с Дени. Когда я рассказываю о нашем путешествии на пироге к Морну, глаза ее блестят.
«Мне тоже хотелось бы побывать в море».
Она поднимается, смотрит в сторону лагуны.
«По ту сторону есть много островов, там живут морские птицы. Возьми меня туда с собой, мы будем ловить рыбу».
Я люблю, когда у нее вот так горят глаза. Решено, мы поплывем на острова, на Птичий остров, на Баладиру, может, еще южнее, до Гомбрани. Я съезжу в Порт-Матюрен, чтобы нанять пирогу.
Два дня и две ночи бушует буря. Я почти безвылазно сижу в палатке, питаюсь одними солеными галетами. Потом, на третье утро, ветер стихает. Небо становится ярко-голубым, безоблачным. На берегу я вижу Уму, она стоит, как будто все это время не сходила с места. Увидев меня, она говорит: «Надеюсь, рыбак пригонит пирогу сегодня».
Час спустя пирога действительно пристает к берегу. Взяв с собой пресной воды и банку с галетами, мы отплываем. Ума сидит на носу, сжимая в руке острогу, и смотрит на поверхность лагуны.
Мы высаживаем рыбака в бухте Ласкар, я обещаю вернуть пирогу завтра. Мы удаляемся от берега под парусом, наполненным восточным ветром. Позади нас высятся горы Родригеса, еще бледные в утреннем свете. Лицо Умы сияет счастьем. Она показывает мне вершины: Лимонная гора, Питон, Билактер. Когда мы выходим за фарватер, волна начинает раскачивать пирогу, обдавая нас облаком брызг. Но вот мы оказываемся в лагуне под защитой рифов. Вода здесь темная, с таинственными отблесками.
Прямо по курсу появляется остров — Птичий остров. Прежде чем увидеть их самих, мы слышим крики морских птиц. Беспрестанный, ровный гул наполняет небо и море.
Вот птицы увидели нас, они летят над пирогой. Крачки, альбатросы, черные фрегаты, огромные олуши кружат над нами с пронзительными криками.
Остров лежит по правому борту в каких-то пятидесяти морских саженях. Со стороны лагуны он представляет собой просто полосу прибрежного песка, а со стороны открытого моря — скалы, о которые бьются океанские волны. Ума подсела ко мне на корму и тихо говорит у самого моего уха: «Как красиво!..»
Никогда еще я не видел столько птиц. Тысячами сидят они на белых от помета скалах, перепархивают с места на место, взмывают в небо и садятся вновь, в воздухе стоит шум крыльев — как рокот моря. Одна за другой накатывают на рифы волны, накрывают камни ослепительным каскадом, но олуши не боятся их. Расправив мощные крылья, они приподнимаются на ветру, зависают на мгновение над набежавшей волной и снова опускаются на скалу.
Плотная стая с криками летит на нас. Заслоняя небо, птицы кружат над пирогой, гигантские крылья распростерты в потоках ветра, черная голова со свирепо горящим глазом повернута к ненавистным чужакам. Их становится все больше, мы совсем оглохли от их пронзительных криков. Некоторые переходят в наступление, пикируют к корме пироги, так что нам приходится отбиваться. Уме страшно. Она прижимается ко мне, прикрыв руками уши: «Уедем отсюда! Уедем отсюда!»
Я кладу руль на правый борт, и с громким хлопком парус вновь наполняется ветром. Олуши понимают мой маневр. Они удаляются, набирают высоту, но продолжают следить за нами, кружа высоко в небе. А на скалах тысячи птиц все так же подпрыгивают над потоками пены.
Нам с Умой никак не оправиться от испуга, и мы спасаемся бегством при попутном ветре. Остров остался далеко позади, но в ушах у нас все еще стоят пронзительные крики и шум крыльев. В миле от Птичьего острова мы обнаруживаем другой островок, часть рифового барьера. На северной его оконечности океанские волны с ревом бьются о скалы. Здесь почти нет птиц, лишь парят над пляжем несколько крачек.
Мы причаливаем, и Ума, скинув одежду, сразу бросается в воду. Я вижу, как ее темное тело блестит среди волн, потом исчезает в глубине. Несколько раз она выныривает на поверхность глотнуть воздуха, сжимая в руке острогу.
Я тоже раздеваюсь, ныряю вслед за ней и плыву у самого дна с открытыми глазами. В зарослях кораллов прячутся тысячи рыбок — серебристых, с красными, желтыми полосами, — я не знаю их названий. Вода совершенно теплая, и я без малейшего усилия скольжу вдоль кораллов. Умы нигде нет.
Выбравшись на берег, я растягиваюсь на песке и слушаю рокот волн позади себя. В небе парят крачки. Есть даже несколько олуш, они прилетели со своего острова и теперь, крича, наблюдают за мной.
Проходит довольно много времени, белый песок успел уже высохнуть на моем теле, и вот из воды прямо передо мной появляется Ума. Ее тело черным металлом сверкает на солнце. Вокруг талии у нее повязана лиана, на которую нанизана добыча — четыре рыбины: один летрин, один капитан, две дорады. Она втыкает острогу в песок острием вверх, развязывает пояс и складывает рыб в вырытую в песке ямку, прикрыв ее сверху мокрыми водорослями. Затем садится и посыпает свое тело песком.
Лежа рядом, я слышу ее чуть хрипловатое от усталости дыхание. Песок золотой пудрой сверкает на ее темной коже. Мы молчим. Смотрим на воду лагуны, слушая мощный рокот волн позади нас. Такое ощущение, будто мы находимся тут уже много-много дней, позабыв об остальном мире. Вдали медленно меняют цвет высокие горы Родригеса, тень накрыла бухты. Прилив. Лагуна вздулась, стала гладкой и темно-синей. Изогнутый, как у морской птицы, нос пироги едва касается песка.
Позже, когда солнце спускается к западу, мы готовим пищу. Ума встает, песок легким дождем скатывается с ее тела. Она собирает сухие водоросли и выброшенные прибоем куски дерева. При помощи огнива я разжигаю огонь. Вспыхивает пламя, и лицо Умы загорается дикой радостью, которая так влечет меня к ней. Ума мастерит из мокрых веточек решетку, разделывает рыбу. Затем несколькими пригоршнями песка она тушит пламя и кладет решетку прямо на уголья. Запах жареной рыбы наполняет нас счастьем, и вскоре, обжигая пальцы, мы начинаем торопливо есть.
На запах рыбьих потрохов слетаются морские птицы. Вычерчивают большие круги на фоне солнца, потом садятся на песок. Прежде чем начать есть, они смотрят на нас, склонив голову набок.
«Они больше не злятся, они теперь нас знают».
Олуши на песок не садятся. Они пикируют на внутренности и хватают их на бреющем полете, вздымая тучи пыли. Даже крабы повылезали из своих нор с трусливым и одновременно сердитым видом.
«Сколько народу!» — смеясь, говорит Ума.
После еды Ума привязывает к остроге нашу одежду, и мы ложимся прямо в раскаленный песок в тени этого самодельного зонтика. Лежа рядом, мы зарываемся в песок. Может, Ума и засыпает вот так, я же смотрю на ее лицо с закрытыми глазами, на прекрасный гладкий лоб, над которым чуть шевелятся на ветру волосы. От дыхания песок ссыпается с ее груди, обнажает блестящее, словно камень, плечо. Я глажу кончиками пальцев ее кожу. Но Ума не шевелится. Она медленно дышит, положив под голову согнутую руку, а ветер сдувает песок, тоненькими ручейками струящийся по ее телу. Я вижу перед собой пустое небо и туманный Родригес над зеркальной гладью лагуны. Морские птицы летают над нами, садятся на песок в нескольких шагах от нас. Они больше не боятся, они теперь друзья нам.
И день этот кажется мне бескрайним, как море.
Однако наступает вечер, и я иду по пляжу среди кружащих надо мной с тревожными криками птиц. О возвращении на Родригес думать поздно. Отлив обнажил коралловые отмели в лагуне, и мы могли бы сесть на мель или разбить лодку. Ума догоняет меня на мысу. Ветер с моря заставил нас одеться. Птицы летят за нами, садятся впереди на скалы, издавая странные крики. Здесь море свободно. Мы смотрим, как разбиваются в конце своего пути волны.
Я сажусь рядом с Умой, и она обхватывает меня руками, кладет голову мне на плечо. Я чувствую ее запах, ее тепло. Дует ветер сумерек, предвестник ночи, он несет с собой тьму. Ума дрожит, прижавшись ко мне. Этот ветер тревожит ее, как он тревожит птиц, заставляя их покидать убежища, лететь в небо и кричать вслед последним отблескам солнца.
Быстро спускается ночь. Горизонт скрывается из глаз, тускнеет сверкающая пена. Мы идем на другую, подветренную сторону острова. Ума готовит постель на ночь, раскладывая на песке, в отдалении от моря, сухие водоросли. Мы заворачиваемся в них прямо в одежде, чтобы не чувствовать сырости. Птицы прекратили свое безумное кружение. Они устроились на песке неподалеку от нас, и мы слышим, как они квохчут и щелкают клювами в темноте. Прижавшись к Уме, я вдыхаю запах ее тела, ее волос, ощущаю вкус соли на ее коже и на губах.
Потом я слышу, как ее дыхание становится ровным, и лежу, не двигаясь, раскрыв глаза во тьму и слушая рокот волн, что поднимаются где-то за нами, — все ближе, ближе. Звезд много, и они так же прекрасны, как и когда я лежал на палубе «Зеты». Передо мной, над темными пятнами гор Родригеса — Орион и Ночные Красавицы, а прямо в зените — рядом с Млечным Путем — я вижу сверкающие зерна Плеяд. Как когда-то, я стараюсь отыскать седьмую звезду — Плейон, а на краю Большой Медведицы — Алькор. Ниже и левее я узнаю Южный Крест, а вот медленно, словно он и правда плывет по черным волнам, появляется Арго. Мне хотелось бы услышать голос Умы, но я не решаюсь ее будить. Я ощущаю, как медленно вздымается ее грудь, и эти движения сливаются с ритмичным рокотом волн. После длинного, напоенного ярким солнечным светом дня мы оказались в глубокой тьме, и эта тьма медленно проникает в нас, делая нас другими. Затем мы здесь и очутились — чтобы прожить этот день и эту ночь вдали от других людей, среди птиц, у выхода в открытое море.
Спали ли мы на самом деле? Не знаю. Я долго лежу неподвижно под свист ветра, слушая страшные удары волн о коралловый остов острова, и звезды до самой зари водят надо мной свой медленный хоровод.
Утром Ума спит, вжавшись в меня всем телом, несмотря на солнце, уже обжигающее ей веки. На темную кожу налип мокрый от росы песок и теперь стекает тонкими ручейками вдоль шеи, теряясь в измятой одежде. Прямо передо мной зеленеет лагуна, птицы покинули берег: расправив на ветру крылья, они начали свое кружение, высматривая зоркими глазами добычу на морском дне. Четко и ясно виднеются горы Родригеса: Питон, Билактер и — чуть в стороне, на берегу — Бриллиант. Скользят по воде пироги под раздутыми парусами. Пройдет несколько мгновений, и нам придется надеть наши скрипящие от песка одежды, сесть в пирогу, и наши паруса тоже наполнятся ветром. Ума, полусонная, приляжет впереди на дно пироги. И мы покинем наш остров, уплывем, вернемся на Родригес, и морские птицы не полетят за нами вслед.
Понедельник 10 августа (1914 года)
Сегодня утром, один в глубине Английской лощины, я подсчитываю дни. Я начал вести им счет много месяцев назад, по примеру Робинзона Крузо, только за неимением дерева для зарубок я ставлю палочки на обложках своих тетрадок. Так я вычислил эту дату, знаменательную, ибо она означает, что сегодня ровно четыре года, как я прибыл на Родригес. Это открытие так поражает меня, что я не могу оставаться на месте. Наспех натягиваю свои запыленные башмаки — прямо на босу ногу, потому что у меня уже давно нет носков. Достаю из сундучка серый пиджак — память о моих конторских днях в компании В. В. Уэста в Порт-Луи. Доверху застегиваю рубаху, только вот галстук взять негде, поскольку мой был давно уже употреблен на связывание парусиновых полотнищ, что служат мне палаткой. Без шляпы, с отросшими, как у жертвы кораблекрушения, волосами и бородой, с обожженным солнцем лицом, в этом «приличном» пиджаке и старых опорках в Порт-Луи, на Рампар-стрит, я стал бы посмешищем. Но здесь, на Родригесе, все проще, и на меня вряд ли кто вообще обратил внимание.
В этот час в конторе «Кейблз энд Вайалесс» еще никого нет. Единственный служащий, индус, равнодушно смотрит на меня, когда я, стараясь держаться как можно вежливее, задаю ему нелепый вопрос:
— Простите, сударь, какой сегодня день?
Он будто бы задумывается. Не двигаясь, по-прежнему стоя на ступеньках лестницы, он отвечает:
— Понедельник.
Но я не унимаюсь:
— А число, число какое?
Помолчав еще немного, он изрекает:
— Понедельник, десятое августа тысяча девятьсот четырнадцатого года.
Я спускаюсь к морю по тропинке между пальм вакоа, голова у меня кружится. Как давно живу я здесь, в этой безлюдной долине, в компании призрака Неизвестного Корсара! Я один, если не считать тень Умы, которая временами исчезает так надолго, что я начинаю сомневаться в ее существовании. Как давно я не был дома, не видел тех, кого люблю! При воспоминании о Мам и Лоре сердце у меня сжимается, как от дурного предчувствия. Голубое небо слепит меня, море словно охвачено пламенем. Мне кажется, что я прибыл из другого мира, из другого времени.
Придя в Порт-Матюрен, я сразу оказываюсь в толпе. Это возвращающиеся домой, в бухту Ласкар, рыбаки и фермеры с гор, приехавшие на базар. Рядом со мной бегут чернокожие ребятишки, смеются и сразу прячутся, как только я взгляну на них. Проведя столько времени во владениях Корсара, я, похоже, и сам стал походить на него. Только корсар из меня получается странный — без корабля, грязный и оборванный.
Миновав дом Порталиса, я оказываюсь в центре, на Беркли-стрит. В банке, где я снимаю со счета последние деньги (мне надо пополнить запасы морских галет, сигарет, масла, кофе и купить наконечник для остроги, чтобы ловить осьминогов), до меня доносятся первые слухи о войне, к которой мир катится очертя голову. Свежий номер «Маврикийца», вывешенный на стене банка, сообщает последние новости, переданные по телеграфу из Европы: после сараевского покушения Австрия объявила войну Сербии, во Франции и в России объявлена всеобщая мобилизация, в Англии идет подготовка к войне. И этим новостям уже десять дней!
Я долго брожу по улицам города, где, похоже, никто не отдает себе отчета в том, что мир стоит на грани самоуничтожения. Перед магазинами на Дункан-стрит, в китайских лавках на Дуглас-стрит, на дороге, ведущей к причалу, толпится народ. Я вдруг ловлю себя на мысли, что мне хочется пойти в больницу, поговорить с доктором Камалем Буду, но мне стыдно моих лохмотьев и отросших волос.
В конторе компании «Элиас Маллак» меня ждет письмо. Я узнаю красивый наклонный почерк, которым надписан конверт, но читать письмо сразу не решаюсь. На почте слишком много народу. Шагая по улицам Порт-Матюрена, я сжимаю конверт в руке — все время, пока занимаюсь покупками. И лишь вернувшись в Английскую лощину и усевшись под старым тамариндом у себя в лагере, я могу наконец его распечатать. На штемпеле — дата отправки: 6 июля 1914 года. Письму всего лишь месяц.
Оно написано на листе индийской бумаги — легкой, тонкой, матовой, — которую легко можно узнать уже по тому, как она шуршит между пальцами. На этой бумаге любил писать и чертить свои планы отец. А я думал, что после нашего отъезда из Букана не осталось ни одного листа. И где только Лора их нашла? Должно быть, она берегла их все это время специально, чтобы написать мне. При виде ее изящного наклонного почерка меня охватывает такое волнение, что какое-то время я не могу читать. А потом вполголоса читаю сам себе:
Мой дорогой Али!Как видишь, я не умею держать слово. Я поклялась, что напишу тебе только для того, чтобы сказать: «Возвращайся!», и вот пишу, сама не зная зачем.Прежде всего, сообщу тебе кое-какие новости, которые, как ты можешь себе представить, не слишком хороши. После твоего отъезда все здесь еще печальнее. Мам вообще перестала заниматься чем-либо, она даже не хочет поехать в город, чтобы уладить наши дела. Я сама неоднократно ездила туда, чтобы попытаться уговорить наших кредиторов. Тут есть один англичанин, некий г-н Нотт (невообразимое имя!), который угрожает описать последние три стула, что остались у нас в Форест-Сайде. Мне удалось пока его отговорить, надавав кучу обещаний, но надолго ли? Но хватит об этом. Мам очень слаба. Она все еще говорит о переезде во Францию, но все новости, что приходят оттуда, свидетельствуют о скорой войне. Да, сейчас все довольно мрачно, будущего не видать.
Я читаю эти строки, и сердце у меня сжимается. Где та Лора, которая никогда не жаловалась, которая вообще не признавала сетований на судьбу? Мне тревожно, и встревожен я не войной, что угрожает миру. Меня тревожит пропасть, что пролегла между мной и теми, кого я люблю, безвозвратно разлучив нас. Тем временем я читаю последнюю строку, в которой на короткое мгновение мне слышится насмешливый голос прежней Лоры:
Я не перестаю думать о тех временах, когда мы были счастливы там, в Букане, о тех бесконечных днях. Желаю тебе, чтобы там, где ты сейчас, у тебя тоже были и прекрасные дни, и счастье — за неимением сокровищ.
И все, никакой прощальной формулы, только подпись — буква «Л». Она никогда не любила рукопожатий и прощальных поцелуев. Что же остается мне от нее здесь, на этом старом листе индийской бумаги?
Я заботливо складываю письмо и убираю в сундучок, к документам, рядом с письменными принадлежностями. Снаружи искрится полуденный свет, зажигает огнем камни в долине, заостряет листья пальм вакоа. Ветер доносит шум начинающегося прилива. У входа в палатку пляшут в воздухе мошки. Может быть, они предчувствуют грозу? Мне кажется, я все еще слышу голос Лоры: она обращается ко мне из-за моря, зовет на помощь. Несмотря на шум волн и ветра, кругом стоит тишина, одиночество слепит при ярком свете.
Я иду через долину куда глаза глядят. На мне все еще серый пиджак, слишком просторный для меня, ноги стерты рассохшимися башмаками. Я иду по хорошо знакомым следам, вдоль линий с карты Корсара, по всем его знакам, образующим гигантский шестиугольник с шестью остроконечными вершинами — не что иное, как звезду с соломоновой печати: два перевернутых треугольника, две наложенные одна на другую «проушины».
Я мечусь взад-вперед по Английской лощине, блуждая взглядом по земле, слушая гулкий отзвук своих шагов. Мне знаком здесь каждый камень, каждый куст; мои следы на песке в устье Камышовой реки не смыть никаким дождям. Подняв голову, я вижу в глубине долины синие недоступные горы. Я словно силюсь вспомнить что-то далекое, забытое — большое сумрачное ущелье Мананавы, место, где начиналась ночь.
Я не могу больше ждать. Вечером, когда солнце спускается к холмам над мысом Венеры, я иду к входу в расселину. Лихорадочно взбираюсь по закрывающим его камням и начинаю бить киркой в стены, рискуя быть заваленным. Я не желаю больше думать о расчетах, вехах. Я слышу стук своего сердца, свое хриплое, тяжелое дыхание, грохот осыпающихся из-под кирки кусков земли и сланца. Это успокаивает меня, избавляет от тоски.
В ярости я швыряю стофунтовые камни в стены расселины, в перегретом воздухе стоит запах плесени. Я будто пьян, пьян от одиночества, от безмолвия — поэтому я и швыряюсь камнями, поэтому и говорю сам с собой, вот так: «Давай! Сюда!.. Еще! Еще раз!..»
В самой глубине расселины громоздится куча базальтовых глыб, таких больших и старых, что у меня нет сомнений: их прикатили сюда с вершины черных холмов. Чтобы сдвинуть их, понадобилось бы несколько человек, но я не могу дожидаться чернокожих помощников с окрестных ферм — Рабу, Адриена Меркюра или Фрица Кастеля. Сделав ценой неимоверных усилий небольшой подкоп под первым камнем, я просовываю туда конец кирки и наваливаюсь, как на рычаг, на рукоятку. Глыба чуть подается, слышно, как в глубокую яму сыплется земля. Но тут рукоятка кирки обламывается, я падаю и с размаху налетаю на каменную стенку.
Какое-то время я лежу оглушенный. Потом, кое-как придя в себя, чувствую в волосах и на щеке теплую жидкость — кровь. От слабости мне не встать, и я так и остаюсь лежать на земле, опершись на локоть и прижав к затылку носовой платок, чтобы остановить кровотечение.
Незадолго до темноты меня выводит из оцепенения какой-то шум, раздающийся снаружи, у входа в расселину. В бреду я хватаюсь за обломанную рукоятку кирки, чтобы отбиваться ею в случае, если это дикая собака или голодная крыса. Но тут узнаю темнеющую на фоне ослепительного неба тоненькую фигурку Шри. Он идет поверху расселины и, когда я окликаю его, спускается по осыпи вниз.
В глазах его испуг, но он все же помогает мне подняться и добрести до выхода. Я ранен и слаб, но мне приходится подгонять его, как боязливое животное: «Ну же, давай, иди, вперед!» Мы вместе ковыляем по дну долины к лагерю. Там ждет Ума. Она приносит в котелке воды и черпая ее руками, промывает мне рану, слипшиеся от крови волосы. Она говорит: «Вы так любите золото?»
Я рассказываю ей о тайнике, только что обнаруженном мной под базальтовыми камнями, о знаках, указывающих на эти камни и на эту расселину, но моя речь так порывиста и сбивчива, что она, должно быть, думает, будто я сошел с ума. Для нее сокровища не имеют никакого значения; как и все манафы, она презирает золото.
Моя голова повязана носовым платком в пятнах крови. Я ем принесенную Умой пищу — сушеную рыбу и кир. После еды она опускается рядом со мной, и мы долго сидим молча, любуясь ясным небом, какое бывает в преддверии ночи. Стаи морских птиц летят через Английскую лощину к своим убежищам. Я не чувствую больше ни нетерпения, ни гнева.
Ума кладет голову мне на плечо, как в первую пору нашего знакомства. Я вдыхаю запах ее тела, ее волос.
Я рассказываю ей о том, что люблю: о полях Букана, о Трех Сосцах, о сумрачной, опасной долине Мананавы, над которой всегда кружат два «травохвоста». Она слушает не шевелясь, думает о чем-то своем. Я чувствую, что ее тело больше не принадлежит мне. Когда я хочу ее погладить, приласкать, она отстраняется, обхватывает руками длинные ноги, как делает всегда, когда остается одна.
— Что с тобой? Ты сердишься?
Она не отвечает. В спускающейся тьме мы вместе идем до прибрежных дюн. Воздух в начале лета теплый, легкий, в чистом небе зажигаются звезды. Шри остается у лагеря, прямой и неподвижный, как сторожевой пес.
— Расскажи еще, как ты был маленьким.
Я медленно рассказываю, куря сигарету, вдыхая медовый запах английского табака. Рассказываю обо всем: о том, как Мам давала нам уроки на веранде, как Лора любила прятаться на своем древе добра и зла, о нашем овраге. Ума слушает не перебивая, только иногда задает вопросы о Мам, но больше — о Лоре. Она расспрашивает меня о ней, о ее платьях, о том, что она любила, и мне кажется, что она ревнует. Меня забавляет такой интерес дикарки к девушке из буржуазной семьи. Думаю, я не сразу понял, что происходит в ней, что ее мучит, причиняет боль. Она сидит рядом со мной в дюнах, я едва различаю во тьме ее силуэт. Когда я хочу встать, чтобы вернуться в лагерь, она удерживает меня за руку: «Останься еще немного. Расскажи мне еще про ту жизнь».
Она хочет, чтобы я снова рассказывал ей про Мананаву, про тростниковые плантации, по которым мы бегали с Дени, про овраг, открывавшийся в таинственный лес, про медленный полет сверкающих белизной птиц.
Потом она рассказывает мне о себе, снова о путешествии во Францию, о небе, таком низком, таком темном, что казалось, будто свет в нем померк навсегда, о молитвах в часовне, о пении, которое она особенно любила. Она говорит о Хари и о Говинде, выросшем среди стад там, в родном краю ее матери. Однажды Шри сделал из тростника дудочку и принялся играть, сам, один, в горах, тогда-то мать и поняла, что он послан Господом. Когда Ума вернулась к манафам, это Шри научил ее ловить коз на бегу, в первый раз отвел к морю за крабами и осьминогами. Еще она рассказывает о Сукхе и Сари, говорящих птицах света, которые поют для Господа в священной земле Вриндаван. Она говорит, что это их я видел тогда перед входом в Мананаву.
Потом мы возвращаемся в лагерь. Никогда еще мы не разговаривали с ней вот так, мягко, тихо, не видя друг друга, сидя под большим деревом. Словно время перестало существовать, словно нет в мире ничего, кроме этого дерева, этих камней. Мы уходим далеко в ночь, и я устраиваюсь на земле, чтобы уснуть, положив под голову руку. Я жду, что Ума ляжет со мной. Но она продолжает сидеть неподвижно на своем месте, смотрит на сидящего в стороне на камне Шри, и их освещенные небом силуэты напоминают ночных часовых.
Когда солнце поднимается в небо над горами, я сижу по-турецки в палатке перед сундучком, что служит мне пюпитром, и рисую новую карту Английской лощины, нанося на нее все линии, соединяющие вехи, так что на бумаге мало-помалу проступает некое подобие паутины, шесть концов которой образуют гигантскую звезду Давида, сложенную из двух перевернутых треугольников «проушин» — на западе и на востоке.
Сегодня я больше не думаю о войне. Всё кругом кажется мне новым и чистым. Подняв голову, я вдруг вижу Шри: он смотрит на меня. Я не сразу узнаю его, приняв за одного из мальчишек с фермы Рабу, спустившегося сюда вместе с отцом для рыбной ловли. Но потом я узнаю его взгляд: дикий, беспокойный, но в то же время мягкий и сверкающий, он направлен прямо на меня. Я бросаю свои бумаги и иду к нему, не спеша, чтобы не вспугнуть его. Между нами остается шагов десять, когда мальчик поворачивается и уходит прочь. Он шагает не торопясь, перепрыгивая с камня на камень и то и дело оборачиваясь на меня.
«Шри! Иди сюда!» — кричу я, хотя знаю, что он не может меня слышать. А он уходит все дальше и дальше в глубь долины. Тогда я иду за ним, по той же тропинке, не пытаясь его нагнать. Шри легко вскакивает на черные камни, я вижу, как его тонкая фигурка будто танцует впереди меня, потом исчезает среди зарослей. Иногда мне кажется, что я потерял его, но он снова оказывается тут — в тени дерева или в углублении скалы. Я замечаю его вновь, только когда он снова принимается шагать.
Проходят часы, а я все иду за Шри через горы. Мы уже высоко, над холмами, на голых горных склонах. Я вижу под собой скалистые уступы, темные пятна пальм вакоа и колючих кустарников. Здесь же кругом голый камень. Великолепно синее небо. Пришедшие с востока облака плывут над морем, пробегают над долиной, бросая на нее мимолетную тень. Мы поднимаемся всё выше. Иногда я теряю своего проводника из виду, а когда снова замечаю его, легкого и быстрого, приплясывающего далеко впереди, то уже не могу с уверенностью сказать, что это не горная коза или дикая собака.
На какой-то миг я останавливаюсь, чтобы посмотреть на раскинувшееся вдали море. Таким я его еще никогда не видел — огромным, сверкающим в солнечных лучах жестким блеском, пересеченным длинной безмолвной бахромой рифов.
От холодного порывистого ветра у меня слезятся глаза. Чтобы перевести дух, я присаживаюсь на камень. Потом иду дальше, и мне становится страшно, что я потерял Шри. Прищурившись, я ищу его выше в горах, на темных склонах. А когда теряю всякую надежду отыскать, вдруг вижу его на другом склоне горы: вокруг толпятся дети, рядом — стадо горных коз. Я зову его, но, заслышав эхо моего голоса, дети разбегаются и прячутся вместе с козами среди камней и кустарников.
Я вижу здесь следы человеческого присутствия — выложенные из камней круги, наподобие тех, что я нашел в Английской лощине, когда впервые попал туда. Тут и там в горах виднеются тропы, они едва заметны, но за четыре года своей дикой жизни в Английской лощине я научился распознавать присутствие человека. Я собираюсь было спуститься на другую сторону горы, чтобы поискать детей, но тут вижу Уму. Она идет ко мне, ни слова не говоря, берет за руку и ведет на вершину утеса, туда, где площадка нависает над пропастью подобием крепостного гласиса.
На другой стороне горной долины, на безлесном склоне, по берегам высохшего потока виднеются хижины из камней и веток и крошечные поля, защищенные от ветра каменными изгородями. Залаяли, почуяв нас, собаки. Это деревня манафов.
— Туда тебе нельзя, — говорит Ума. — Как только появится кто-то чужой, манафам придется уйти дальше в горы.
Мы идем вдоль утеса к северному склону горы. Ветер дует нам в лицо. Внизу раскинулось бескрайнее темное море с белыми пятнами барашков. Восточнее сверкает бирюзой зеркальная гладь лагуны.
— Ночью отсюда видно городские огни, — говорит Ума. Она показывает на море: — А оттуда приплывают корабли.
— Как красиво! — я произношу это почти шепотом.
Ума садится, как обычно, поджав под себя ноги и обхватив руками колени. Ее темное лицо обращено к морю, ветер треплет волосы. Потом она оборачивается на запад, в сторону холмов.
— Тебе пора спускаться. Скоро стемнеет.
Но мы всё сидим, не шевелясь под порывами ветра, не в силах расстаться с морем — как две птицы, парящие высоко в небе. Ума молчит, но мне кажется, я чувствую все, что происходит в ней: ее желание, ее отчаяние. Она никогда не говорит об этом, но потому ей так и нравится ходить на берег — нырнуть в волны, доплыть со своей длинной острогой до самых рифов и, спрятавшись за камнями, смотреть оттуда на людей с побережья.
— Хочешь уехать вместе со мной?
От звука ли моего голоса или от моих слов, но она вздрагивает. Потом гневно смотрит на меня, глаза ее сверкают.
— Уехать? Куда? Кому я нужна?
Я подыскиваю слова, чтобы успокоить ее, но она резко говорит:
— Мой дед был беглый раб — как все черные беглые рабы с Морна. Он умер, когда ему раздробили ноги в мельнице для тростника — за то, что он ушел в лес с людьми Сакалаву. Тогда мой отец перебрался сюда, на Родригес, и стал моряком, чтобы плавать по свету. Моя мать родилась в Бенгалии, а ее мать была там певицей — она пела для Говинды. Куда мне ехать? Во Францию, в монастырь? Или в Порт-Луи, чтобы работать на тех, кто убил моего деда, кто покупал и продавал нас как рабов?
Я беру ее руку, она холодна, словно в лихорадке. Внезапно Ума поднимается и идет к западному склону, туда, где тропы расходятся в разные стороны, туда, где она только что меня поджидала. Лицо ее снова спокойно, но глаза все еще гневно сверкают.
— Тебе пора идти. Ты не должен тут оставаться.
Мне хочется попросить, чтобы она показала мне свой дом, но она уже, не оборачиваясь, идет прочь — спускается в темную долину, где стоят хижины манафов. Я слышу детские голоса, собачий лай. Быстро темнеет.
Я спускаюсь вниз по склонам, бегу меж колючих кустарников и пальм вакоа. Ни моря, ни горизонта больше не видно — ничего, кроме темной громады гор, уходящей все выше в небо. Когда я прихожу в Английскую лощину, становится совсем темно, идет тихий дождь. Я сворачиваюсь клубком в своей палатке под деревом, мне холодно и одиноко. И я начинаю думать о нарастающем грохоте разрушения, который, подобно громовым раскатам, разносится по всей земле, так что никто не может о нем забыть. В эту ночь я и решил уйти на войну.
* * *
В это утро у входа в расселину собрались все: Адриен Меркюр, высокий негр, наделенный геркулесовой силой, бывший foreman на плантациях копры на Сан-Хуан-де-Нова; Эрнест Рабу, Селестен Проспер и юный Фриц Кастель. Узнав, что я нашел тайник, они тотчас примчались, бросив все дела, вооруженные лопатами и веревками. Если бы кто-нибудь увидел, как мы идем по Английской лощине — они в шляпах из пальмовых листьев с лопатами наперевес, я во главе процессии, обросший, в изодранной одежде, с перевязанной головой, — нас приняли бы за участников маскарада, изображающих возвращение Неизвестного Корсара со товарищи за своим сокровищем!
Прохладный утренний воздух бодрит нас, и мы дружно начинаем обкапывать базальтовые глыбы в глубине расселины. Земля, довольно рыхлая на поверхности, по мере того как мы копаем, становится твердой как камень. По очереди мы разрыхляем ее киркой, в то время как остальные выгребают и отбрасывают ее в сторону, в направлении широкого конца расселины. Именно в этот момент мне приходит в голову мысль, что вся эта земля и камни, наваленные у входа в расселину, которые я принял сначала за естественный завал, нанесенный водами высохшего горного потока, на самом деле есть не что иное, как следы, оставленные людьми Корсара, когда они рыли в глубине расселины тайники. И снова у меня появляется странное чувство, будто вся эта расселина — дело человеческих рук. Простую трещину в базальтовом утесе расширили, раскопали так, что она превратилась в ущелье, еще больше видоизмененное дождями за прошедшие почти двести лет. Такое же странное, почти пугающее ощущение должны, наверное, испытывать ученые, обнаруживая среди безмолвия и безжалостного света пустыни древние гробницы Египта.
К полудню основание самой большой глыбы подкопано таким образом, что хватит одного толчка, чтобы она покатилась на дно расселины. Все вместе мы наваливаемся на камень с одной стороны, и он откатывается на несколько метров, увлекая за собой лавину пыли и мелких камешков. Перед нами, точно в том месте, на которое указывает выдолбленный в камне на вершине утеса желобок, открывается зияющая дыра, еще наполовину сокрытая стоящим в воздухе облаком пыли. Не в силах больше ждать, я распластываюсь на животе и просовываюсь в отверстие. Через несколько мгновений мои глаза привыкают к темноте. «Что там? Что там?» — слышу я за спиной нетерпеливые голоса моих чернокожих помощников. Проходит довольно много времени, прежде чем я отползаю назад и выбираюсь из дыры. Голова у меня кружится, кровь стучит в висках и в венах на шее. По всей вероятности, и этот, второй, тайник пуст.
Несколькими ударами кирки я расширяю отверстие. Мало-помалу мы раскапываем нечто вроде колодца, уходящего вглубь до самого основания утеса. Дно колодца образовано той же породой цвета ржавчины, перемежающейся в глубине расселины с базальтовыми выступами. Юный Фриц спускается в колодец, исчезнув в нем целиком, затем вылезает обратно. Он качает головой:
— Ничего нет.
Меркюр презрительно пожимает плечами:
— Это козий источник.
Неужели и правда это всего лишь бывший водопой для стад? Но зачем столько сложностей, когда в двух шагах отсюда течет Камышовая река? Мужчины уходят, унося с собой лопаты и веревки. Я слышу, как затихает их смех, когда они выходят из расселины. Со мной остается только юный Фриц, он стоит у зияющего тайника, будто ожидая моих указаний. Он готов снова приняться за работу, ставить новые вехи, копать пробные ямы. Может, подхватил от меня лихорадку, что толкает нас в погоню за миражом, за лучом света, заставляя забыть про все на свете — про остальной мир и людей в нем живущих?
— Здесь нечего больше делать, — я говорю тихо, будто обращаясь к самому себе.
Он непонимающе смотрит на меня блестящими глазами.
— Все тайники пустые.
Мы тоже выходим из раскаленной кишки. С высоты каменной осыпи я смотрю на простирающуюся внизу долину, на темно-зеленые купы тамариндов и пальм вакоа, на фантастические формы базальтовых скал, а главное — на узкую небесно-голубую полоску воды, что бежит, змеясь, к заболоченному устью и прибрежным дюнам.
Волнующимся заслоном выстроились перед морем веерные и кокосовые пальмы, ветер доносит рокот волн на рифах — сонное дыхание моря.
Где же искать теперь? Там, у дюн, в болоте, где когда-то плескалось море? В пещерах на противоположном склоне, у подножия разрушенной Командорской Вышки? А может, высоко в горах, в диких владениях манафов, у истоков Камышовой реки, где в спрятанных среди колючих кустарников расселинах живут стада коз? Все линии моего плана словно стираются сами собой, а начертанные на камнях знаки кажутся всего лишь следами гроз, царапинами, оставленными молниями, вытравленными ветрами. Мне хочется сказать Фрицу: «Кончено. Здесь ничего не найти больше, пойдем отсюда».
Но во взгляде мальчика столько упорства, глаза его так блестят, что я не осмеливаюсь поделиться с ним своим отчаянием. Ступая как можно тверже, я иду по дну долины к своему лагерю под старым тамариндом. Я говорю:
— Мы поищем там, на западной стороне. Надо копать, ставить вехи. Вот увидишь, в конце концов мы найдем. Мы будем искать везде, на той стороне, потом в верховьях долины. Не пропустим ни дюйма земли, не обследовав его. Найдем!
Верит ли он тому, что я говорю? Похоже, мои слова его успокоили. Он отвечает:
— Да, мсье. Мы найдем! Если только манафы не нашли раньше нас. — И он смеется, представляя себе сокровище Неизвестного Корсара в руках у манафов. Но потом добавляет, посерьезнев: — Если бы манафы нашли золото, они выбросили бы его в море!
А что, если он прав?
Эта тревога, не оставлявшая меня последние недели, доносящиеся из-за морей грозовые раскаты, о которых не позабыть ни днем, ни ночью, — сегодня я ощущаю их с особой силой.
Отправившись рано утром в Порт-Матюрен в надежде получить новое письмо от Лоры, я подхожу через заросли кустарников и пальм вакоа к зданиям компании «Кейблз энд Вайалесс» на мысу Венеры и вижу перед телеграфом скопление народа. Местные жители толпятся в ожидании у крыльца, одни беседуют стоя, другие сидят в тени, на ступенях лестницы, и курят с отсутствующим видом.
Все эти дни, пока я как сумасшедший пытался отыскать в расселине второй тайник Корсара, до меня не доходила вся серьезность сложившейся в Европе ситуации. А ведь на днях, проходя мимо здания «Маллак и К°», я вместе со всеми читал вывешенное у дверей коммюнике, доставленное на почтовом судне из Порт-Луи. Там говорилось о всеобщей мобилизации по случаю войны, начавшейся в Европе. Англия и Франция объявили войну Германии. Лорд Китченер выступил с обращением к добровольцам из колоний и доминионов, из Канады, Австралии, а также из Азии, Индии и Африки. Прочитав воззвание, я вернулся в Английскую лощину, в надежде, что, возможно, увижу там Уму. Но она не пришла, а позже ее вспугнул шум работ в расселине.
Я подхожу к зданию телеграфа. Несмотря на мою изодранную одежду и длинные волосы, никто не обращает на меня внимания. Я узнаю Меркюра, Рабу и верзилу Казимира, матроса с «Зеты», стоящего чуть поодаль. Он тоже узнаёт меня, и его лицо сияет радостью. Сверкая глазами, он поясняет мне, что народ ждет разъяснений о порядке записи в добровольцы. Теперь понятно, почему тут одни мужчины. Женщины не любят войну.
Казимир говорит об армии, о военных кораблях, куда, как он надеется, его возьмут, — бедный добряк великан! Он уже говорит о боях, в которых будет участвовать в этих неведомых ему странах, сражаясь с неизвестным ему еще врагом. Затем на веранде появляется человек — служащий телеграфа, индус. Он зачитывает список имен, который будет передан затем на призывной пункт Порт-Луи. Он читает медленно, в гнетущей тишине, своим певучим гнусавым голосом, с английским акцентом, искажая имена: «Эрмитт, Корантен, Латур, Сифлет, Лами, Раффо…»
Он читает имена, а порывы ветра подхватывают их и разносят по округе, разбрасывая среди острых как лезвие листьев пальм вакоа и черных камней. Они звучат уже странно, эти имена, будто имена погибших, и мне вдруг хочется убежать, вернуться к себе в долину, где никто не сможет меня отыскать; раствориться бесследно в мире Умы, среди камышей и прибрежных дюн. Медленный голос перечисляет имена, и меня охватывает дрожь. Со мной никогда такого не было: мне кажется, что вот сейчас среди всех этих имен прозвучит и моя фамилия, что так и должно быть — она должна прозвучать среди имен этих людей, которые скоро покинут свой привычный мир, чтобы биться с врагами.
«Порталис, Ауэ, Селин, Беге, Хитчен, Кастор, Пишетт, Симон…»
Я еще могу уйти, я думаю о расселине, о пересекающихся на дне долины линиях, о вехах, горящих там наподобие бакенов, думаю обо всем, чем жил эти месяцы и годы, обо всей этой красоте, наполненной светом, шумом волн и свободными птицами. Я думаю об Уме, о ее коже, о ее гладких руках, о теле черного металла, скользящем в водах лагуны. Я могу уйти — еще не поздно. Уйти подальше от этого безумия, от этих людей, которые радуются и смеются, заслышав свою фамилию. Я еще могу уйти, отыскать место, где смогу позабыть об этом, где в шуме моря и ветра мне не будут слышаться громовые раскаты войны. А певучий голос все читает фамилии, ставшие уже нереальными, фамилии здешних людей, которые уходят туда — умирать за мир, о котором им ничего не ведомо.
«Ферне, Лабют, Жеремиа, Розин, Медисис, Жоликер, Викторин, Имбулла, Рамийа, Ильке, Ардор, Гранкур, Саломон, Равин, Руссети, Перрин, Перрин-младший, Ази, Сандрийон, Казимир…»
Услышав свое имя, верзила вскакивает на ноги и прыгает, громко крича. Его лицо излучает такую простодушную радость, что можно подумать, будто он выиграл пари или узнал хорошую новость. На самом же деле он только что услышал имя своей смерти.
Может, из-за этого я и не сбежал обратно в Английскую лощину в поисках места, где смог бы позабыть о войне. Думаю, да — из-за него, из-за этого счастья, с которым он услышал свое имя.
Индус заканчивает чтение списка и замирает, ветер треплет в его руках лист бумаги. Затем он спрашивает по-английски: «Есть еще добровольцы?»
И я, почти против воли, взбегаю по чугунной лестнице на крыльцо и называю свою фамилию, чтобы он внес ее в список. Только что Казимир подал сигнал к всеобщему ликованию, и вот уже большинство присутствующих пляшут и поют от радости. Когда я спускаюсь по лестнице, меня окружают, жмут руку. Праздник продолжается все время, пока мы идем по дороге вдоль берега до Порт-Матюрена, шумной толпой мы шагаем по улицам города к больнице, где нам предстоит пройти медицинский осмотр. На самом деле это и не осмотр вовсе, а простая формальность, длящаяся не более одной-двух минут. По пояс голые, мы заходим по очереди в душный кабинет, где Камаль Буду с двумя санитарами бегло осматривает добровольцев и вручает им мобилизационное предписание с печатью. Я жду, что он станет мне задавать какие-то вопросы, но его интересуют лишь мои глаза и зубы. Он выдает мне бумагу и в тот самый миг, когда я готов уже покинуть его кабинет, говорит своим мягким серьезным голосом, без всякого выражения на бесстрастном индийском лице: «Так вы тоже едете на эту бойню?» И, не дожидаясь ответа, зовет следующего. Я читаю в предписании дату своего отбытия: 10 декабря 1914 года. Графа «название судна» оставлена незаполненной, но пункт назначения вписан: Портсмут. Всё, я призван. И до отплытия в Европу мне не повидаться с Лорой и Мам, потому что мы поплывем через Сейшелы.
Тем не менее каждый день я возвращаюсь к расселине, словно мне предстоит наконец найти то, что я ищу. Мне не оторваться от этой трещины в теле долины, где нет ни травинки, ни деревца, ничего живого — только свет, играющий на ржавых склонах, да базальтовые скалы. Утром, пока солнце еще не набрало силы, и вечером, в сумерки, я забираюсь в расселину и снова и снова осматриваю ямы, обнаруженные мной у подножия утеса. Я ложусь на землю, вожу пальцами по краю колодца, по стенкам, отполированным ушедшей водой, и мечтаю. Дно расселины сплошь изрыто киркой, земля испещрена кратерами, которые уже начали затягиваться пылью. Когда ветер, завывая, врывается в расселину, проносится бешеными порывами по верху утеса, в эти дыры устремляются маленькие лавины черной земли, стучат камешками по дну тайников. Сколько времени понадобится природе, чтобы вновь закрыть раскопанные мной колодцы Неизвестного Корсара? Я думаю о тех, кто придет сюда после меня через десять, может, через сто лет. И решаю заделать тайники — ради них. Я отыскиваю в долине плоские камни и с большим трудом перетаскиваю их к входам в колодцы. Уже на месте я собираю другие камни, поменьше, заполняю ими зазоры, а потом лопатой набрасываю сверху кучу красной земли. Мне помогает юный Фриц Кастель, не понимая, что мы делаем. Но он никогда не задает вопросов. Все это так и останется для него тем, чем было с самого начала, — чередой каких-то непонятных, жутковатых обрядов.
Закончив работу, я с удовлетворением оглядываю выросшую на дне расселины горку, надежно укрывшую оба тайника Корсара. Мне кажется, что проделанная только что работа знаменует собой новый шаг в моих поисках, что я стал в некотором роде сообщником этого загадочного человека, по следу которого иду уже столько времени.
Особенно мне нравится бывать в расселине по вечерам. Когда солнце приближается к зубчатой линии западных холмов, рядом с Командорской Вышкой, свет его проникает почти до самого конца длинного каменного коридора, причудливо освещая скалы, играя на вкраплениях слюды. Я сижу у входа в расселину и смотрю, как на безмолвную долину набегает ночная мгла. Ни одна деталь, ни одно движение в этом краю камней и колючек не ускользнет от моего взгляда. Я жду, когда появятся морские птицы, мои верные друзья, каждый вечер возвращающиеся с южных берегов — с островов Пьерро, Гомбрани — в свое северное пристанище, туда, где море разбивается о коралловый барьер.
Зачем они это делают? Какому тайному порядку следуют они, проделывая каждый вечер этот путь над лагуной? И, так же как прилета морских птиц, я жду Уму, жду, что она пройдет сейчас по берегу речки, стройная и темнокожая, со связкой осьминогов на конце остроги или в ожерелье из рыб.
Иногда она и правда приходит, втыкает острогу в песок у прибрежных дюн, словно подавая сигнал подойти к ней. Когда я говорю, что нашел второй тайник Корсара и что он оказался пуст, Ума хохочет: «Так, значит, нет здесь золота, ничего больше нет!» Сначала я злюсь, но ее смех так заразителен, что вскоре я уже хохочу вместе с ней. Она права.
Смешно же мы, наверно, выглядели, когда увидели, что колодец пуст! Мы с Умой бежим через камыши к дюнам, и тучи серебряных птичек с писком взлетают перед нами. Мы скидываем одежду и вместе ныряем в прозрачную воду лагуны, такую теплую, что ее едва замечаешь. Мы плывем под водой мимо кораллов, долго-долго, не переводя дыхания. Ума даже не пытается ловить рыб. Ей нравится просто гоняться за ними под водой, отыскивать старых губанов в их темных норах. Никогда нам еще не было так весело, как сейчас, когда мы узнали, что все тайники пусты. Как-то вечером, когда мы смотрели, как над горами зажигаются звезды, она говорит: «Почему ты ищешь золото здесь?»
Мне хочется рассказать ей о нашем доме в Букане, о нашем бескрайнем саде, обо всем, что мы потеряли, потому что это-то я и ищу. Но я не знаю как, и тогда она добавляет, тихо-тихо, словно разговаривая сама с собой: «Золото ничего не стоит, его не надо бояться, оно как скорпион, который жалит только того, кто боится». Она говорит это просто, без всякого бахвальства, но твердо, как человек, уверенный в том, что он говорит. И еще: «Вы, люди большого мира, думаете, что золото — самая сильная и самая желанная вещь на свете, поэтому вы и воюете. Люди будут умирать везде, только чтобы иметь золото».
От этих слов сердце у меня бешено колотится, потому что я вспоминаю о своей мобилизации. Какое-то мгновение мне хочется все рассказать Уме, но у меня перехватывает горло. Мне остается всего несколько дней жизни здесь, рядом с ней, в этой долине, вдали от остального мира. Как заговорить с Умой о войне? Для нее это зло, думаю, она не простила бы мне этого, просто взяла бы и убежала сразу.
Нет, не могу я с ней говорить об этом. Я сжимаю ее руку — крепко-крепко, чтобы прочувствовать ее тепло, пью срывающееся с ее губ дыхание. Стоит теплая ночь, лето, на море штиль, ветер стих, небо усеяно звездами, они прекрасны, все исполнено покоя и радости. Кажется, впервые я наслаждаюсь настоящим моментом, не испытывая ни нетерпения, ни желания чего-то достичь, лишь с грустью думая о том, что этому никогда не повториться, что все это скоро погибнет. Несколько раз я почти готов признаться Уме, что мы больше не увидимся, но ее смех, ее дыхание, запах ее тела, вкус соли на ее коже останавливают меня. Как могу я нарушить этот покой? Мне не удержать того, что скоро будет разбито, но я еще могу верить в чудо.
Как большинство жителей острова, я каждое утро прихожу к зданию телеграфа в ожидании новостей.
Коммюнике из Европы вывешиваются у двери на крыльце телеграфа. Те, кто умеет читать, переводят их на креольский для остальных. Протиснувшись к дверям, я успеваю прочесть несколько строчек: речь идет об армиях Френча, Хейга и о французских соединениях Лангля и Ларрезака, об операциях в Бельгии, об угрожающей ситуации на Рейне, о боях на Уазе, под Динаном, в Арденнах, на Мёзе. Мне знакомы эти названия, я учил их когда-то в коллеже, но какое значение могут они иметь для большинства жителей Родригеса? Может, они считают, что это такие острова, где ветер раскачивает кокосовые и веерные пальмы, где, как и здесь, слышен непрестанный гул бьющегося о скалы моря? Во мне закипают злость, нетерпение, потому что я знаю: еще немного, каких-то несколько недель — и я буду там, на берегах этих незнакомых рек, в гуще войны, сметающей все имена.
Этим утром, когда пришел юный Фриц Кастель, я изготовил нечто вроде завещания. Вооружившись теодолитом, я в последний раз вычислил прямую ост-вест, проведя ее точно через две «проушины», расположенные по краям долины, и нашел точку, в которой эта прямая пересекается с осью норд-зюйд, определенной по компасу с небольшим отклонением в сторону звездного севера. На месте пересечения этих прямых, то есть в середине долины Камышовой реки, в пределах заболоченного участка, образующего подобие языка между двумя ее рукавами, я установил тяжелый базальтовый камень, по форме напоминающий межевой столб. Чтобы перетащить его, мне пришлось вместе с моим юным чернокожим помощником проложить по берегу реки настил из камышей и веток. Я привязал к столбу веревку, и мы по очереди то тащили, то толкали его, так что в конце концов доставили на другой конец долины, на расстояние более мили от того места, где я его нашел, в точку, обозначенную на моих картах литерой «В», и установили на земляной горке, которая чуть выступает в устье реки и во время прилива покрывается водой.
Эта работа заняла у нас почти весь день. Фриц Кастель помогал мне, не задавая вопросов. Затем он вернулся домой.
Солнце уже почти село, когда, вооружившись зубилом и большим камнем вместо молотка, я принимаюсь за свое послание будущим поколениям. На верхней грани столба я высекаю полоску длиной в три дюйма, соответствующую прямой линии, что соединяет западную и восточную «проушины». На боковую грань, с южной стороны, наношу основные ориентиры, соответствующие вехам, оставленным Корсаром. Тут и большая буква «М», обозначающая Командорскую Вышку, и выбитые на скале четыре отверстия ::, и желобок, указывающий на расселину, и точка, обозначающая самый северный камень, у входа в устье. На северной стороне столба я высекаю пять главных вех Корсара: вершины Шарло, Билактер, гору Четырех Ветров, выстраивающиеся по линии зюйд-зюйд-вест, а также Командор и Питон, образующие другую прямую, чуть расходящуюся с первой.
Мне хотелось бы выбить и треугольники с сетки Корсара, вписанные в круг, проходящий через «проушины» и самый северный камень, в центре которого, как я теперь вижу, и установлен этот столб. Однако поверхность у камня слишком неровная, и мне с моим тупым зубилом просто не нанести на нее столь точный рисунок.
А потому я довольствуюсь тем, что высекаю у основания столба заглавными буквами свои инициалы — «АЛ». А ниже — римскими цифрами — дату:
X XII MCMXIV
В этот день, несомненно мой последний день здесь, в Английской лощине, я решил воспользоваться летней жарой, чтобы вдоволь наплаваться в лагуне. Я разделся в камышах у пустынного пляжа, куда мы ходили с Умой. Сегодня всё здесь кажется еще более безмолвным, далеким, заброшенным. Нет больше серебряных птичек, с пронзительным писком тучами взлетавших у нас из-под ног. Нет морских птиц в небе. Только крабы-солдаты, задрав к небу клешни, удирают к болотцу, чтобы укрыться в тине. Я долго плаваю в теплой воде, задевая за кораллы, обнажаемые отступающим морем. Широко раскрыв глаза под водой, я смотрю, как мимо меня проплывают мелководные рыбы: кузовки, перламутровые катраны и даже великолепная ядовитая рыба-камень, ощетинившаяся мачтами своих спинных плавников. У самого кораллового барьера я вспугиваю губана, и тот, прежде чем улизнуть, застывает на месте, глядя на меня. У меня нет остроги, но даже если бы и была, не думаю, что у меня хватило бы мужества пустить ее в ход против любого из этих молчаливых созданий и обагрить их кровью воду!
На берегу, среди дюн, я обваливаюсь в песке и жду, пока закатное солнце не высушит его и он не потечет тонкими ручейками по моей коже, как раньше, когда я бывал здесь с Умой.
Я долго смотрю на море, жду. Я жду, что Ума, может быть, появится в сумерках на пляже, потрясая, словно трофеями, связкой осьминогов, подвешенных к остроге с эбеновым наконечником. Когда я возвращаюсь в лагерь, долина наполняется тенями. С тревогой, жадно вглядываюсь я в высокие синие горы в глубине долины, будто ожидая, что сегодня-то в этом каменном краю появится наконец человеческое существо.
Позвал ли я ее: «Ума-а-а»? Может быть, но даже если и так, я произнес ее имя таким тихим, таким сдавленным голосом, что оно не пробудило в горах ни малейшего эха. Почему ее нет со мной сегодня, этим вечером, когда она мне так нужна? Сидя под старым тамариндом на своем плоском камне, я курю, наблюдая, как тьма постепенно заполняет Английскую лощину. Я думаю об Уме, о том, как она слушала мои рассказы о Букане, думаю о ее лице, укрытом завесой волос, о вкусе соли на ее плече. Я рассказал ей все, она знает теперь мой секрет, и когда она пришла ко мне в последний вечер, это было прощание. Потому она и прятала лицо, и голос ее был тверд и горек, когда она говорила о золоте, когда сказала: «Вы, люди большого мира…» Я не понял тогда, и теперь во мне вскипает злость — на нее, на себя. Лихорадочно шагаю я по долине, потом возвращаюсь и снова усаживаюсь под большим деревом, где уже начинается ночь, комкаю бумаги, карты. Всё это не имеет уже никакого значения! Теперь я знаю, что Ума не придет больше. Я стал для нее как все, как люди с побережья, за которыми манафы следят издали, дожидаясь, пока чужаки не уберутся и не освободят им дорогу.
В неверном свете сумерек я бегу через долину, карабкаюсь на холмы, чтобы скрыться от этого вездесущего взгляда. Я спотыкаюсь о камни, цепляюсь за уступы базальтовых стен, слышу, как осыпается у меня из-под ног, падает вниз, в долину, земля. Вдали на фоне желтого неба чернеют непроницаемые горы — ни огонька, ничего не видно. Где же живут эти манафы? На востоке — на Питоне или на Лимонной горе, а может, на Билактере, над самым Порт-Матюреном? Они никогда не ночуют два раза подряд в одном месте. Спят в еще теплой золе своих костров, которые тушат с наступлением сумерек, как делали когда-то беглые рабы в горах Маврикия, над Морном. Мне хочется подняться выше, к отрогам гор, но уже темно, и я натыкаюсь на камни, раздирая одежду и руки. Я зову, опять зову Уму, кричу что есть сил: «У-мааа!», мой голос отдается во мраке ущелий странным рычанием, и я сам пугаюсь этого звериного вопля. Тогда, примостившись на каменной осыпи, я жду, пока в долину не вернется тишина. И вновь наступают покой и чистота, и мрак скрывает все вокруг, и мне не хочется больше думать о завтрашнем дне. Пусть все будет так, словно ничего не случилось.
Назад: На Родригес, 1910 год
Дальше: Ипр, зима 1915 года. Сомма, осень 1916 года

