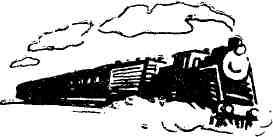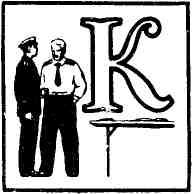ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
К Севастополю нельзя быть равнодушным. На все смотришь широко раскрытыми глазами, с немым восхищением, невольно переполняющим русское сердце. Тут все по-иному, нежели в других городах, все неповторимое — севастопольское. Здесь и земля-то пахнет по-другому, и природа не та, и горы не похожи ни на какие другие горы. Пусть они голые, выщербленные, каменистые, пусть кустарники на них растут почему-то пучками, словно мертвая трава лежит на маскировочных сетях, а все снова и снова замирает и сладко трепещет твое сердце, открываясь навстречу ему — Севастополю.
От пыли першит в горле. Эта серая нуммулитовая пыль, поднятая прикочевавшим из северо-крымских равнин ветром, рождает в палящий зной сказочные миражи, будто приплывшие вместе со своими призрачными минаретами и тополями из недалекого таинственного Босфора. Но тут же поднимаются к небу простые, реальные обелиски, выпиленные из камня руками бойцов Отдельной Приморской армии в память спасения и свободы Родины и этого славного города. И никуда не уйти от его властного обаяния.
А щедрый дар природы — Северная бухта — гавань, удобная для военных кораблей, грозно прижавших к палубам стальные стволы и поднявших на бортах свои крепостные флаги — гюйсы! Сердце наполняется горячей любовью и признательностью к этому городу. Неужели есть человек, который не видел твоих улиц, твоих домов из бледно-лимонного инкерманского камня, твоих холмов, освященных нержавеющей кровью, твоих живописных заливов и черных скал на выходе к морю?
Возбужденный нахлынувшими на него мыслями, Вадим не мог сдержать своего волнения при встрече с местами, знакомыми ему до боли.
Из Москвы его провожали родные и близкие. Отец, до сих пор не оставивший своей многолетней вахты у мартеновской печи, подозрительно долго всматривался повлажневшими глазами в клеймо кортика, якобы заинтересованный именем завода, отковавшего сталь.
Мать в эти минуты, как и все матери на свете, сосредоточила свое внимание на нехитрых пожитках сына. Ох уж эта незаметная дырочка на носке, полуоторванная пуговица!.. Скорее вдеть нитку в иголку и, пришивая, искоса поглядывать еще и еще раз на родное лицо сына. Молодость, ей все нипочем! «Мама, мама, ну чего ты грустишь? Я еду служить в Севастополь».
Ни мать, ни отец никогда не бывали в Севастополе. Разве им понять чувства, обуревавшие Вадима, если они не видели город? Ему страстно хотелось убедить их в своем счастье — все свершилось так, как он хотел, и высшая логика людей, управляющих его судьбой, полностью совпала с его желаниями.
«Я еду туда служить». Ему представлялось: сам город требовательно звал его к себе. Город славы, его бастионы и форты, флот, охраняющий южные рубежи, отныне должны стать частью доверенного ему Отечества. Вадим — один из наследников героизма, доблести, славы, заключенных в самом начертании слова «Севастополь».
«Может быть, пращур мой ходил с Владимиром воевать Херсонес-Таврический, — думал Вадим, склонный к романтике, — а может, кто-нибудь из них был прикован к галере Тохтамыша и звенел цепями, опуская буковые весла в Черное море. А может, кто-то из прадедов наших насмерть стоял на Малаховом кургане с кованным в Туле штыком?»
И наряду с такими высокими мыслями приходили и другие, обыденные, но тоже волнующие. Тут жила Катюша: думать о ней, хотя и безнадежно, себе не запретишь.
Ночью, в скором, ему снились корабли на чугунной воде, будто подкрашенной пламенем мартенов. Корабли стреляли, но ни одного человека не видно на них. А проснувшись, Вадим увидел в окне оранжевую луну над Гнилым морем перешейка, трясины Сиваша, откуда поднимались крученые туманы, словно видения воинов Фрунзе и Толбухина.
Слева по шоссе показался новый поселок. Красивые дома прижались к скалистым высотам, источающим горячее дыхание перегретого солнцем пластинчатого камня.
Машина не спеша объезжает лагуну и поднимается по Красному спуску. Отсюда видны пещерные зевы каменоломен и возле них штабеля напиленного, как рафинад, знаменитого инкерманского камня. В белесой пыли по дну балки идут грузовики и копошатся люди, добытчики строительного материала, из него быстро, как Феникс из пепла, возник новый город.
Вадима будит голос Доценко:
— Скажите, лейтенант, старикана, которого ссадили у Дуванкоя, вы хотя бы чуточку знаете?
— Пожалуй, меньше вашего. Ехал с ним из Москвы в одном поезде, немного поговорили на вокзале в ожидании машины. Потом вы случайно подъехали, забрали нас с собой.
— Неприятно, — Доценко поморщился, будто от зубной боли. — Черкашину опять забота. Старикан-то — отец его новой зазнобы. Отличными нас фоторепродукциями снабжал к праздникам…
Высокий строй мыслей был разрушен. Старший лейтенант Доценко, парторг с «Истомина», угостил Вадима караимскими пирожками, будто знал, что желудок молодого лейтенанта пуст.
Уже позади свыше восьмидесяти километров исторического пути — через Бахчисарай и штурмовые высоты, через поля дозревающей пшеницы с лиловыми квадратами шалфея и темно-голубыми — лаванды. Позади журчание Альмы с ее попахивающей снегом водой и кобчики в далекой выси безоблачного неба.
В Севастополе, поднявшись на улицу Ленина, машина остановилась. Доценко пожал Вадиму руку, приятно улыбнулся, сверкнул зубами из-под темных каштановых усов.
— Желаю вам хорошей службы, товарищ Соколов.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, — поблагодарил Вадим своего отзывчивого спутника. — Если не ошибаюсь, отдел офицерских кадров там?
— Совершенно верно, товарищ лейтенант. Начальнику передайте от меня привет. Он тоже из матросов…
В отделе офицерских кадров молодого выпускника принял разомлевший от жары и собственного веса добродушный капитан второго ранга с лысой головой, выбритой до арбузного блеска, и мясистыми губами, алыми, как помидор.
— Посылаю к самому жадному на молодежь, к Ступнину. — Начальник отдела кадров добавил на бумаге еще одну завитушку к своей длинной фамилии. — Доценко поблагодарите за привет. Встретите его на «Истомине». Без парторга вам, как кандидату в члены партии, естественно, не обойтись, товарищ лейтенант. — Он приблизил глаза к часам на своей мохнатой вспотевшей руке. — Барказ отойдет от Минной стенки через полчаса. Успеете, если попадете на троллейбус… Поспешите…
Вадим не опоздал.
На борту крейсера молодого лейтенанта встретил вахтенный офицер с тонкими усиками и смуглым узким лицом. Выслушав четко представившегося ему нового офицера, вахтенный уже с открытым любопытством оглядел его а, что-то черкнув в своем блокноте, направил к дежурному по кораблю капитан-лейтенанту Апресяну.
В рубке дежурного Апресян гортанно клокотал в телефонную трубку. Это был плоскогрудый, сутулый офицер с желтыми белками глаз. Продолжая разговаривать, он жестом потребовал документы, развернул их одной рукой на коленке.
— Минуту, — сказал он в трубку. — Лейтенант Соколов уже на борту. Совершенно точно! Есть, товарищ капитан первого ранга!
Вероятно, на корабль позвонил начальник отдела офицерских кадров. «Ишь какие оперативные», — подумал Вадим и приободрился. Внимание старшего начальства всегда отражается на самочувствии подчиненного.
— Командир корабля просит вас к себе. — Апресян приложил руку к козырьку своей белой фуражки. — Сначала явитесь к нему, а потом уже к командиру бэче, товарищ лейтенант!
Рассыльный в белой-белой форменке с вылинявшим воротником стремительно повел лейтенанта по корабельным лабиринтам. Вадим старался поспеть за ловким парнем, скользившим, словно вьюн, по палубам и трапам.
На корабле пахло просыхающей после недавней приборки морской водой, подогретой солнышком, краской и канатами: неистребимый запах флота, сохранившийся со времен парусников даже на стальных современных гигантах. По пути встречались матросы, уступавшие дорогу, офицеры, бесцеремонно оглядывавшие новичка, от носовой батареи слышался стук костяшек домино, а там, на берегу, в ярком мареве безоблачного дня будто плыл похожий на огромный белый корабль все тот же изумительный Севастополь.
Вадим пытался разобраться в своих первых впечатлениях, но постепенно все в голове спуталось, сердце билось все сильней; хотелось поспеть за рассыльным, не осрамиться, споткнувшись на скользком трапе…
Заглянем пока в каюту командира крейсера «Истомин» капитана первого ранга Ступнина. Он устроился на диване на своем любимом местечке — там образовалась даже небольшая вмятина — и просматривал недавно полученную литературу по 6-му американскому флоту, назойливо бродившему по Средиземному морю; затем он прочитал переводы некоторых статей, опубликованных в заграничной прессе. Удивительно неспокойные соседи, флоты блока НАТО, заставляли наших моряков задумываться над характером грядущих испытаний.
Вода занимает больше двух третей нашей планеты. На моря и океаны, судя по материалам, иностранные военные мыслители обращали настойчивое внимание. Они считали, что самой практичной подвижной базой для наступательных боевых средств явится некая база, передвигающаяся по воде. Надводный корабль, подводная лодка, гидропланы сумеют запускать управляемые снаряды, быстро менять места, внезапно появляться на просторах, окрашенных на глобусе в голубые тона. Военно-морские силы обеспечивают в первую очередь стратегические потребности. Именно эти силы обладают подвижностью, неуязвимостью и способностью отвлечь внимание противника на море и тем предохранить от ударов густонаселенные районы суши. Оттуда, с броневых палуб, грозятся термоядерной летучей смертью. Ударные плацдармные силы будущего атомного нападения рассматриваются ими как оперативные группы кораблей, передвигающихся с большой скоростью при всех условиях погоды. Что же это за оперативная группа? Солидно! Три авианосца, семь крейсеров с установками для запуска управляемых снарядов, два быстроходных судна снабжения, самолеты со сверхзвуковой скоростью, подводные лодки с атомным оружием. Каждая такая группа рассредоточена на поверхности океана на площади, равной площади штата Мэн. На триста миль нельзя безнаказанно приблизиться к этому заколдованному кругу. Вот так планируются будущие атаки, планируются точно, зловеще-предусмотрительно. Им надо противопоставить нашу организацию, наш флот, нашу боевую технику, обученных, сильных и духом и телом людей.
Ступнин отодвинул в сторону кипу бумаг, пока еще только бумаг. Но эти затеи могут в любой момент обернуться атомным пламенем и неисчислимыми жертвами. Глубоко вздохнув, Ступнин взял томик Джека Лондона и открыл на странице, заложенной ниточкой мулине. Это был рассказ «Кусок мяса».
И те бумаги, которые Ступнин отложил, и эта книга, которую он взял в руки, написаны гражданами одной и той же страны, людьми одной и той же национальности, а какая пропасть между ними! С одной стороны, чудовищные извращения маниакальных садистов, с другой — замечательный взлет разума, тонкий гуманизм, вызывающий на глубокие, человечные раздумья. Ступнин с наслаждением погрузился в чтение любимого автора.
К нему, командиру боевого корабля, вот-вот должен явиться молодой человек, возможно, тот, который в конце концов сменит его, Ступнина. Этому человеку будет дано право управлять кораблями, решать задачи обороны, анализировать противостоящие силы, отвечать за судьбы Родины с ее давней историей, начиная от скифского всадника на мохнатом степном скакуне и кончая покорителями космического простора Вселенной.
…Рассыльный привел Вадима к месту и молча исчез. Итак, стоит переступить полоску металла с двенадцатью головками заклепок, лежащую у твоих ног, и начнется новый этап жизни. Еще сегодня поутру можно было лежать у Альмы, наблюдать за полетом птиц, принадлежать самому себе. От поступков Вадима могло быть хорошо или плохо только ему самому. Теперь все по-другому. Останутся и Альма, и небо, и парящие птицы, и свобода — принадлежать придется не только себе и отвечать не только за себя… Незамысловатые вольности ученика остались позади, впереди ответственность учителя; он начальник и отвечает всем, что у него есть. Может быть, ответит и жизнью, но не бесцельно, а с пользой для других, которые надеются на него и доверяют ему.
Главное в большом, добровольно избранном пути начиналось сейчас, за этой легкой дверью, которую красил неизвестный ему маляр верфи. Что же, и перед маляром верфи должен отвечать он, лейтенант Соколов, с замиранием сердца остановившийся сейчас у каюты своего будущего командира.
Ступнин… Вадим немало слышал о нем, видел его в дни стажерской практики, пытался и сам походить на этого волевого, крепкого, кинжально откованного человека.
Вадим еще раз оглядел себя, смахнул пыль с ботинок (бархотку он всегда носил при себе) и только после этого осторожно стукнул в филенку двери. Донесся густой, приятно-басовитого тембра голос: разрешалось войти. Переступив порог и увидев вставшего ему навстречу командира, Вадим отрапортовал:
— Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Соколов! Представляюсь по случаю получения назначения на корабль!
Говоря уставные слова, столько раз произносимые до него «по случаю» назначения на должность или ухода с нее, «по случаю» убытия и возвращения из командировки и отпусков, Вадим почувствовал их странный для его душевного состояния смысл. Почему «по случаю»? Ведь он с детства мечтал о море и не случайно попал в военно-морское училище (он же хотел!), не случайно приехал сюда обученный, по-прежнему влюбленный в море… Почему же «по случаю»?
На бумагах об американском флоте лежала книга о неравной борьбе Старости с Юностью. Ниточка мулине шевелилась под ветерком, проникавшим в иллюминатор. Командир легкого крейсера «Истомин» даже мельком не просмотрел протянутые ему документы. Разве дело в бумажках! Пусть они пока полежат на книге, потрясающе раскрывшей власть времени над таким железным человеком, каким был боксер Том Кинг.
Молодой офицер с крепкими плечами и тугими мышцами, с курносым, почти плакатным лицом северного россиянина, с жаркими веснушками, рассыпанными по щекам и шее, совершенно не понимал силы своей молодости. Ему ли волноваться и трепетать?
И как перед состарившимся боксером Томом Кингом, перед Ступниным предстал образ
«сияющей Юности, ликующей, непобедимой; Юности, обладающей гибкими мышцами и шелковистой кожей, здоровыми, не знающими усталости легкими и сердцем; Юности, которая смеется над теми, кто бережет силы. Да, Юность — это Возмездие! Она уничтожит стариков, не думая о том, что, делая это, уничтожает самое себя. Ее артерии расширяются, суставы на пальцах расплющиваются, и приходит час, когда наступающая на нее Юность, в свою очередь, уничтожает ее. Ибо Юность всегда юна. Только поколения стареют…»
— Вам двадцать два, товарищ лейтенант? — спросил Ступнин.
— Исполнилось в апреле, товарищ капитан первого ранга.
— В следующем апреле вам исполнится двадцать три, а в следующем уже двадцать четыре…
Вадим физически ощутил, как сразу прилип к его телу крепко накрахмаленный китель. Под нижними веками выскочили мелкие росинки, дрогнули ресницы.
— Что с вами, лейтенант? — Ступнин ободрил офицера приветливой улыбкой. — Я хотел подчеркнуть ваши преимущества и напомнить о том, что молодость быстро проходит. Надеяться на нее, только на нее — опасно. Я затребовал вас по рекомендации Доценко…
— Но он так мало знает меня… — вырвалось у Вадима.
— Достаточно, чтобы поверить в вас. Надеюсь, вы не подведете нашего боевого парторга?
Ступнин вызвал по телефону старшего штурмана Шульца и, положив трубку, сказал:
— Вы, товарищ Соколов, будете работать с Евгением Федоровичем Шульцем. Это отличный офицер, но у него уже обнаружился крупный недостаток… Том Кинг постарел, и ему скоро трудно будет оставаться в строю. Понятно?
Вадим растерянно кивнул головой. В каюту вошел старший штурман и остановился в одном шаге от входа.
— Евгений Федорович, — Ступнин подал ему документы Вадима, — прибыло юное пополнение… Прошу требовать по строгости, поощрять по заслугам.
Шульц опустил книзу уголки тонких бескровных губ и, указав глазами Вадиму на дверь, вышел из каюты первым. Так же молча, сохраняя безукоризненную выправку даже в узких и низких коридорах, старший штурман довел молодого офицера до небольшой каюты правого борта; близко — рукой достать — плескалось море, и через иллюминатор доносился методичный плеск воды.
— Пока займете мою, — сказал Шульц, — потом вам определят по расписанию. К походу отовсюду съезжается начальство, теснимся.
— А как же вы, товарищ капитан второго ранга?
— Я буду в штурманской. В походе обычно предпочитаю диван в рубке. Изредка буду вам мешать… Тут кое-какие мои бумаги. — Шульц немигаючи прочитал документы Вадима, вернул их. — Ужин, как и везде, по-якорному, в восемнадцать.
Когда Шульц ушел, Вадим снял китель, осмотрелся. На крохотном столике — и локтей не раздвинешь — стопки книг и синие папки с бумагами. Узкие металлические шкафы с замками окрашены в ярко-желтый цвет, койка накрыта ковром, на высокой тумбе закреплен контрольный хронометр. Что еще? Крючки с повешенными на них скобами-захватами для карт и… в клеенчатой кобуре игрушечный пистолетик.
Кроме этого игрушечного пистолета, все было обычно и знакомо. Так коротали девять десятых своей жизни офицеры флота. Ни на воде, ни на суше не имеют они комфортабельных квартир, рады комнатке и узкой каюте. Не рассчитывал и Вадим Соколов заработать золотые горы.
Он умылся, освежил подворотничок и обратил внимание еще на один аксессуар каютного убранства: на переборке висела в рамке под стеклом семейная фотография. В прямо сидевшем человеке нетрудно было узнать Шульца, его ледяные глаза, узкие губы и острые плечи. Женщина в соломенной шляпе, рядом с ним, была под стать мужу, сухопара, с ожерельем на сухой шее, с выдающимися ключицами. Возле матери, с игрушечным пистолетом в руке, стоял мальчик лет шести, стриженый, в коротких штанах и башмаках с ушками. Вряд ли в этой стереотипной фотографии можно было отыскать что-либо примечательное, если бы рядом с ней не находился, по-видимому увеличенный с «достоверки» портрет лейтенанта, окаймленный траурной лентой. Лейтенант прямо и строго смотрел своими хмурыми глазами, похожими на глаза Шульца; военно-морская форма сидела на нем так же аккуратно, как на сегодняшнем Шульце, а орден Красного Знамени на кителе свидетельствовал о примерном поведении молодого Шульца на войне.
Грустно стало на сердце. Первая невольная неприязнь к хозяину каюты исчезла, и хотелось чем-то хорошим отплатить этому малоразговорчивому, внешне сухому человеку. «И я, именно я должен его заменить, готовиться к тому, чтобы занять его место, — с отвращением к самому себе думал Вадим. — А мне так приятно было слушать слова командира корабля о намечаемой преемственности! И не стыдно ли, не противно ли?»
Снова вошел Евгений Федорович Шульц — взять необходимые ему бумаги.
Ему трудно было разобраться в причинах ненаигранного, искреннего волнения молодого офицера. И только позже, когда его точный рассудок нащупал истину в потоке горячих и бессвязных слов, Шульц догадался, в чем дело.
Кому из молодых офицеров не памятно тревожное, неуравновешенное состояние духа при первом появлении в той или иной части! Ведь здесь ты остаешься навсегда (о далеком будущем не думаешь), здесь все — твои родные, близкие, друзья, здесь ты обретешь гармонию чувств, испытаешь волнения первых шагов…
Любой новичок, впервые переступающий порог своей трудовой деятельности, испытывает примерно то же самое, но только примерно. Корабль слишком замкнут, чтобы его сравнивать с заводом, конторой или каким-нибудь другим учреждением. На корабле нужно как можно скорее привыкнуть к новой обстановке, подчинить себя совершенно новому обиходу и отдаться безраздельно общим интересам. Корабль подчинен законам рейда, и все твое существование вписано в окружность бортовой кромки. Это необходимо. И вот новые привычки прививаются, жизнь входит в свою колею.
Вступление в корабельное братство оформляется через кают-компанию. Где же найти более удобное место, чтобы представить всем офицерам их нового товарища?
Отправляясь на обед, офицеры задерживались в салоне. Там они поджидали приглашения первенствующего. Из салона доносились гул голосов, звуки пианино. Если поглядеть поверх голов в раскрытые двери, даже издали можно увидеть бронзовый лоб Истомина, занимающего почетное место среди офицеров подшефного ему корабля.
Шульц задержался у входа. Его легким недоставало воздуха.
— Подождем старшего помощника, — сказал он Вадиму.
Разомлевший от жары Савелий Самсонович Заботин не заставил себя долго ждать.
— Евгений Федорович, звездочет, — издали зашумел Заботин, — какая же в конце концов температура солнца? — Он быстро подошел, снял фуражку, помахал ею у лица. — Произведите обсервацию. Если при шести тысячах градусов далекого солнца мы превращаемся в тесто, тогда что же будет с нашими нежными телами при миллионе градусов близкого атомного взрыва?
— Ничего не будет, — безулыбчиво ответил Шульц, — температуру в миллион градусов вы даже не почувствуете.
— Превращусь в сухой порошок?
— Вот именно… — подтвердил Шульц.
— Вы еще способны шутить, милейший. Люблю оптимистов! — Заботин надел фуражку, чтобы выслушать рапорт представившегося ему молодого офицера.
— Ну что же, отлично, лейтенант Соколов, — Заботин протянул ему руку. — Поздравляю. Пойдемте!
Он вошел вместе с Вадимом в кают-компанию, определил ему место по табелю, представил офицерам.
Словно в тумане, расплывались лица сидевших за столами, и откуда-то издалека слышался голос старшего помощника: «К нам на корабль прибыл на должность… лейтенант… Прошу оказать ему помощь в освоении корабля и приобретении знаний… Прошу любить и жаловать…»
Пришлось подниматься, растерянно краснеть под перекрестными взглядами десятков людей, старавшихся получше рассмотреть нового товарища, а при случае скуки ради безобидно сострить на его счет.
Между столами бесшумно заскользили вестовые с закатанными рукавами, в белых колпаках и с деревянными разносками в руках.
В центре кают-компании, как бы пронзая ее насквозь, проходил выкрашенный под дуб бербет орудийной башни. По этой самой полой штуке стремятся вверх боевые припасы, питающие башню, гудят элеваторы, у стеллажей обливаются потом люди, подающие снаряды. Бербет окружали наглухо принайтовленные столы, и за одним из них, спиной к бербету, восседал первенствующий, имея поближе к себе командиров боевых частей, замполита Воронца, парторга Доценко, поглядывавшего на Вадима с улыбкой. Эта улыбка поддерживала в какой-то мере смущенного юнца. Рядом с Вадимом, тесня его жарким телом тяжелого атлета, сидел старший лейтенант с румяными щеками и около него — темпераментный кавказец с волосатыми руками и кипенно-белыми зубами; кавказец мгновенно уничтожил скудную закуску и принялся за традиционный флотский борщ. Его звали Сулейманом, а старшего лейтенанта Куличком. «Сулейман» и «Куличок» — эти слова молоточками выстукивали в голове Вадима. Он не слышал произносимых ими фраз, незлобных шуточек по его адресу. Молоточки стучали: «Су-лей-ман! Ку-ли-чок!»
«Ничего, — успокаивал себя Вадим, — я привыкну, и вы ко мне привыкнете. Все вы были такими же… Каждому пришлось пройти через это. Су-лей-ман! Ку-ли-чок!..»
Кто-то сзади подкрался к Вадиму, стиснул его локти. «Этого еще недоставало!» Лицо Вадима залилось краской. От неожиданности он не знал, как повести себя, чтобы избежать насмешек. «Может быть, держаться спокойней, ничем не возмущаться, веселей отвечать на шутки?»
— Вероятно, не угадаю, — пробормотал он, не пытаясь освободиться или обидеться.
— Угадаешь, Вадим! Не кто… — И Ганецкий, именно он, а не кто другой, обнял его со спины и прикоснулся щекой к его вьющимся волосам.
— Борис! — Вадим действительно обрадовался, глаза его благодарно засветились, смущение быстро прошло, и он полностью овладел собой.
Ганецкий появился как нельзя кстати. Каков бы он ни был, но сейчас — самый близкий ему товарищ.
— Ты расположился в каюте старшего штурмана, Вадик? Забегу вскоре после обеда. Сейчас ухожу…
После обеда Вадим старательно отутюжился, почистил пуговицы. Ганецкий пришел усталый, недовольный.
— Извини меня, задержался. — Он сбросил китель, ополоснул лицо у умывальника, залпом осушил стакан газировки. — Пришлось лично проследить за увольнением моих комендоров. На «Истомине» в почете рьяные службисты… Корабль выходит на первое место.
— Приятно служить на таком корабле, — сказал Вадим.
— Конечно. Не только чуприны — рубахи мокрые. Батя жмет, — на лице Бориса появилось кислое выражение, — предполагается приезд начальства. Постараемся… Вот и снова скрестились наши пути. И ты сбросил курсантский палаш. Оружие на бедре стало короче, но глаз твой пронзает неведомые дали… — Ганецкий закурил. — Рассказывай, что в Ленинграде? Как себя чувствуют, помнишь, те?.. С которыми мы познакомились на открытии в Петергофе?
— О ком ты говоришь?
— Ты по-прежнему недотрога, Вадик. Пора, пора, трубят рога, псари в охотничьих уборах!
Вадиму не хотелось разрушать строгий порядок своих мыслей, связанных с вступлением его на корабль.
— Знаешь, Борис, я как-то не склонен к легкомысленной беседе. Пойми, первый день. Какие у вас порядки? Расскажи мне. На каждом корабле свои особенности…
— Э, брось, милый, — перебил его Ганецкий, — все придет само собой. А с моих слов тебе все покажется слишком черным.
— Ты остался прежним?
— К счастью. Я пессимист по натуре. Думающие люди никогда не бывают оптимистами. Люди, быстро и полностью удовлетворяющие свои духовные и материальные запросы, обычно чрезвычайно ограниченны…
— Не надо, Борис, — снова попросил Вадим, — не прикидывайся более дурным, чем ты есть на самом деле.
— Хорошо. — Борис растянулся на койке, заложил руки за голову. — Кстати, ты мне понадобишься, Вадик. У меня не совсем ладно с Катюшей. Третью неделю молчанка. Ревнивая стала кошмарно.
— Вероятно, не без оснований?
— Разве ты меня не знаешь? Конечно. Для меня женщины — все. Таков уж мой несносный характер. Я алкоголик в этой области. Не могу с собой совладать. Знаю, это плохо, некрасиво, ненужно, пошло. И не могу… — Борис вскочил, взъерошил волосы, зажмурился. — Ты помнишь Ирину Григорьевну? Ту, я тебе рассказывал… «Астория»… Шехерезада… Помнишь?
— Да. Она здесь?
— Представь себе, Вадик, здесь. Живет в этом самом городе. Не удивляйся. Безопасна. Отбила у какой-то толстой дурехи мужа. Офицер, прогрессирующий, со смекалкой. Есть такой Черкашин…
— Черкашин?
— Ты его знаешь?
— Я его не знаю. Но сегодня у Дуванкоя задержали отца этой самой Ирины Григорьевны…
Ганецкий растерялся:
— Не путаешь? Его фамилия Веселков.
— Да. Веселков.
— Как же это могло произойти? Чушь! — Ганецкий требовал подробностей.
Пришлось восстановить картину поездки из Симферополя, полет хищников на вершине, глоток воды из реки и, наконец, наряд из морпехоты — молодцы в сухопутной форме с автоматами сняли с машины пожилого человека, не обнаружившего при этом ни возмущения, ни испуга. Позже, тронувшись дальше, они увидели встречную машину, спешившую к Дуванкою. Фуражки? Нетрудно догадаться, к какому ведомству принадлежали офицеры.
— Ты меня извини, — Ганецкий заторопился, надел китель, — мне нужно еще проверить кое-что к завтрашним занятиям…
Вряд ли Вадим мог догадаться, что ровно через час запыхавшийся Ганецкий уже оказался у дверей неприветливо встретившей его женщины.
— Без предупреждения? Я же говорила…
— Не решился позвонить вам с корабля, — Борис оглянулся, — прошу, извините меня…
Ирина почувствовала недоброе.
— Заходите. Ну что вы мнетесь! — голос ее задрожал. Движения рук, всего тела сразу же изменились. Только закрыв дверь, она чуточку отошла, прислонилась спиной к двери и жестко потребовала: — Говорите же. В чем дело?
— Григорий Олегович дома?
— Нет… Скоро должен быть. Поезд приходит утром. В Симферополе не всегда можно достать машину.
— Тогда я обязан…
— Не тяните. Что вы мямлите?
— Григория Олеговича… задержали… на капепе…
Ирина вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, выпрямилась.
— Бывают всякие ошибки.
— Не сомневаюсь. Безусловно ошибка. Узнав, я решил… счел своим долгом… Мало ли что…
— Не оправдывайтесь. Спасибо… Боря. Как вы сумели уйти с корабля? — в голосе ее звучала тревога.
— Отпросился под предлогом… заболела жена.
— Я очень вам благодарна. Идите, идите…
На улице Ганецкий осторожно огляделся. Противная дрожь овладела его телом. Или потянуло прохладой с моря? Спина похолодела. Почему постовой так на него посмотрел? «Может быть, за домом уже следят?» Во рту появилась противная горечь. Скорее отсюда. И самое главное, принять независимый вид. Фуражку немного набок. Пусть милиционер озирает его спину. Выправку. Так! Постепенно он удаляется от грозившей ему опасности. Отец Ирины никогда не внушал ему особых симпатий. Хоть он и не вызывал подозрений, все же что-то в Ганецком протестовало против этого деликатного, мшистого человека. Да, да, именно мшистого. Кора покрыта мохом. Дерево с опавшей листвой и голыми ветками…
На корабль — нельзя. Отпросился домой. А если дотошные следопыты станут проверять? Завернуть домой! А как схитрить? Чем объяснить неожиданное просветление? Мозг деятельно подсказал выход: приехал Вадим. Лучшего не придумать! Все правильно. Примирение обеспечено. Ганецкий уверенней зашагал по улице, не предполагая, какие неожиданности несет ему будущее.
Улицы постепенно закипали толпой. Вспыхивали фонари. Щебечущие девушки скользили в поисках своего девичьего скромного счастья. Где-то уже требовательно взывали трубы, и казалось, до слуха доносится знакомое шуршание подошв на танцплощадке. Драматизм положения постепенно ослабевал, трезвый анализ сменял возбуждение, позволяя Ганецкому успокоить и победить самого себя…