Книга: Чарльз Маккей Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы
Назад: Влияние политики и религии на стрижки, бороды и усы
Дальше: Охота на ведьм
Крестовые походы
They heard, and up they sprung upon the wing
Innumerable. As when the potent rod
Of Amram’s son, in Egypt’s evil day,
Waved round the coast, up call’d a pitchy cloud
Of locusts, warping on the eastern wind
That o’er the realm of impious Pharaoh hung
Like night, and darken’d all the realm of Nile,
So numberless were they…
All in a moment through the gloom were seen
Ten thousand banners rise into the air,
With orient colours waving. With them rose
A forest huge of spears; and thronging helms
Appear’d, and serried shields, in thick array,
Of depth immeasurable.
— Paradise Lost330.
Каждая эпоха имеет свое безрассудство — план, проект или фантазию, — в которое она себя ввергает, побуждаемая или жаждой наживы, или потребностью в стимулах, или обычной склонностью к подражанию. За недостатком этих мотивов она впадает в безумие, порожденное либо политикой, либо религией, а порой и тем и другим. В основе крестовых походов лежали все вышеперечисленные мотивы, сочетание которых сделало данные акции наиболее удивительным документально зафиксированным примером того, до каких масштабов можно довести массовый энтузиазм. История с непререкаемой серьезностью сообщает нам, что крестоносцы были просто невежественными и свирепыми фанатиками, вставшими на путь крови и слез. Рыцарские романы, напротив, воспевают их набожность и героизм, ярко и страстно повествуют об их высокой нравственности и великодушии, о неувядаемой славе, которой они себя покрыли, и о неоценимых услугах, оказанных ими христианству. В данной главе мы обратимся и к тем и к другим источникам, чтобы выяснить, что же на самом деле воодушевляло разношерстные крестоносные армии. Стремясь пролить свет на эмоции, побуждения и мнения, мы будем опираться на исторические факты331, не пренебрегая романами и поэмами Средневековья.
Чтобы как следует понять умонастроение европейцев332 в то время, когда Петр Пустынник333 проповедовал «священную войну», необходимо изучить многолетнюю предысторию этого подвижничества. Нам придется познакомиться с паломниками VIII, IX и X веков и узнать об их рассказах о пережитых опасностях и увиденных чудесах. Первые паломничества в Святую землю предприняли, по-видимому, обращенные в христианство евреи и те наделенные живым воображением ревнители христианства, которых снедало естественное желание посетить места, которые им хотелось повидать больше всего на свете. После них в Иерусалим потянулись как благочестивые, так и те, чей образ жизни был далек от христианских заповедей. Первые, как и их предшественники, хотели полюбоваться местами, освященными жизнью и страданиями Христа, а вторых вдохновляла быстро получившая широкое распространение точка зрения, согласно которой такого паломничества было достаточно, чтобы очиститься от всех, даже самых тяжких, грехов. Еще одной весьма многочисленной категорией пилигримов были праздношатающиеся субъекты, для которых посещение Палестины было чем-то вроде современной моды на поездки в Италию и Швейцарию. Кроме того, у них появлялась возможность потешить собственное тщеславие, рассказывая по возвращении о своих похождениях. Однако действительно набожных пилигримов было намного больше. С каждым годом их число росло, и наконец их стало так много, что их прозвали «Христовое воинство». Исполненные экстатического восторга, они не боялись опасностей и лишений долгого пути и делали остановки во всех местах, описанных евангелистами. Для них было сущим благословением попить чистой воды из Иордана или принять крещение в тех же водах, где Иоанн крестил Спасителя. С благоговением и наслаждением бродили они в окрестностях Храма334, взбирались на священную Гору маслин335 и на ужасную Голгофу, где Иисус истекал кровью во искупление грехов человеческих. Для этих паломников каждый предмет был драгоценным. Шел интенсивный поиск реликвий. Кувшины с водой из Иордана и корзины с землей с Лысой горы доставлялись домой и по баснословным ценам продавались церквам и монастырям. Более сомнительные реликвии — древо истинного креста336, слезы Девы Марии, самоцветы с ее одежды, ногти с пальцев ног и волосы апостолов и даже палатки, которые помогал делать Павел, — выставлялись на продажу мошенниками в Палестине и доставлялись в Европу «ценою неимоверных лишений и забот». На все деревяшки, продававшиеся как остатки распятия, не хватило бы рощи из ста дубов, а слитых воедино «слез Девы Марии» достало бы на небольшой водоем.
На протяжении более чем двухсот лет паломникам не чинили в Палестине никаких препятствий. Просвещенный Гарун аль-Рашид и его ближайшие преемники поощряли паломничество, бывшее для Сирии одним из главных источников доходов, и обходились с путниками исключительно любезно. Халифы из династии Фатимидов, которые, будучи в других отношениях такими же терпимыми к паломникам, как их предшественники из рода Аббасидов, сильнее них нуждались в деньгах или были менее разборчивы в средствах их добывания, ввели для пилигримов плату за вход в Иерусалим, равнявшуюся одному византину337. Для тех из них, кто совершил утомительный переход через Европу, живя на подаяние, и прибыл к предмету всех своих чаяний без гроша в кармане, это было серьезной проблемой. Немедленно начались гневные протесты, но власти не отменили своего решения. Неплатежеспособные странники были вынуждены оставаться у ворот Священного города до тех пор, пока какой-нибудь богач, прибывший со свитой, не платил и за них. Роберт I Дьявол, герцог Нормандский и отец Вильгельма I Завоевателя, совершивший паломничество вместе со многими другими дворянами высочайшего ранга, по прибытии увидел у ворот множество пилигримов, с нетерпением ожидавших его приезда и внесения им причитавшейся с них входной платы. Он, как и все, к кому до и после него обращались с такой просьбой, выполнил ее.
Суммы, извлекаемые мусульманскими правителями Палестины из данного источника, стали воистину астрономическими в то время, когда число паломников резко возросло. В конце X и начале XI столетий умами христиан владела одна необычная идея. Они верили, что вот-вот наступит конец света, что апокалипсическое тысячелетие близится к концу и что Иисус Христос спустится в Иерусалим вершить над человечеством Страшный суд. Весь христианский мир был в смятении. Неустойчивых в вере, легковерных и грешных, составлявших в то время свыше 95% населения, обуял панический ужас. Бросив свои дома, родных и занятия, они, убежденные в том, что тяготы паломничества уменьшат тяжесть их грехов, толпами устремлялись в Иерусалим дожидаться второго пришествия. Панику усиливали падающие звезды, землетрясения и неистовые ураганы, валившие целые леса. Все эти природные явления, особенно метеоры, расценивались как предвестия скорого светопреставления. Каждый проносившийся над горизонтом метеор наполнял людей тревогой, и всё новые и новые паломники шли в Иерусалим с посохом в руке и котомкой за спиной, моля в пути Всевышнего об отпущении грехов. Мужчины, женщины и даже дети устало плелись к Священному городу в ожидании дня, когда небеса разверзнутся и сын Божий снизойдет с небес. Это выдающееся заблуждение по мере распространения создавало пилигримам дополнительные трудности. На всех дорогах из Западной Европы в Константинополь стало так много попрошаек, что монахи, обычно не скупившиеся на милостыню, теперь экономили ресурсы, дабы не голодать самим, и ничем не помогали путникам. Сотни тех, кто до этого великого наплыва мог рассчитывать на хлеб и мясо из монастырских закромов, радовались ягодам, созревавшим вдоль дорог.
Но это была не главная их проблема. По прибытии в Иерусалим они обнаруживали, что Святой землей завладел более суровый народ. На смену багдадским халифам пришли жестокие турки-сельджуки, относившиеся к паломникам с презрением и отвращением. Турки XI века были злее и нетерпимее сарацин338 десятого. Их раздражал приток в страну огромного числа пилигримов и еще больше беспокоило то, что те, по всей видимости, не собирались ее покидать. Постоянное ожидание Страшного суда удерживало их на месте, и турки, видя во все прибывавших толпах угрозу собственной власти, усложняли паломникам жизнь, подвергая их всевозможным гонениям. Их грабили, избивали кнутами; тем, кто был не в состоянии заплатить золотой византин за проход в Иерусалим, приходилось месяцами дожидаться более состоятельных единоверцев у городских ворот.
Когда первый заразительный страх перед Судным днем пошел на убыль, некоторые паломники, глубоко возмущенные нанесенными им оскорблениями, отважились вернуться в Европу. Везде, где они проходили, они рассказывали благожелательной аудитории о притеснениях христиан. Удивительно, что эти рассказы только усилили манию паломничества. Люди рассуждали так: чем опаснее путешествие, тем больше шансов на искупление тяжких грехов. Они полагали, что невзгоды и страдания только возвысят того, кто их перенес, в глазах Всевышнего, и изо всех городов и деревень устремлялись новые толпы паломников, пожелавших добиться благосклонности небес, дойдя до Гроба Господня339. Так продолжалось почти весь XI век.
На его исходе накопившееся недовольство было готово ко взрыву, и требовался лишь тот, кто поднес бы к нему факел. Наконец такой человек появился. Как и все, на чью долю когда-либо выпадала означенная миссия, Петр Пустынник заявил о себе именно тогда, когда это было нужно, оказавшись достаточно проницательным, чтобы стать выразителем духа времени раньше других. Полный энтузиазма, донкихотства, фанатизма и если не безумный, то близкий к безумию, он идеально подходил на эту роль. Подлинному энтузиазму всегда присущи упорство и красноречие, а этот необычный проповедник обладал обоими качествами в избытке. Он был монахом из Амьена, который, прежде чем принять постриг, служил солдатом. Согласно дошедшим до нас описаниям, он был некрасивым и низкорослым, но имел исключительно проницательные и умные глаза. Как и многие в ту эпоху, он совершил паломничество в Иерусалим и оставался там до тех пор, пока не пришел в бешенство от жестоких гонений на пилигримов. Вернувшись домой, он потряс европейцев красноречивым рассказом о невзгодах их единоверцев.
Прежде чем углубиться в повествование о необычайных результатах проповедей Петра Пустынника, для большего понимания читателем причин их действенности представляется целесообразным вкратце обрисовать состояние умов европейцев того времени. Прежде всего следует обратить внимание на духовенство, деятельность которого оказывала наиболее заметное влияние на судьбы общества. В описываемый период религия играла главенствующую роль в сознании людей и была единственной цивилизующей силой, способной усмирять их животные инстинкты. Церковь пользовалась непререкаемым авторитетом, и, несмотря на то что она держала массовое сознание в самом что ни на есть рабском подчинении в вопросах веры, она давала ему средства защиты от любого другого угнетения, кроме ее собственного. Священнослужители являлись средоточием всей истинной набожности, всех знаний и всей мудрости того времени и, что естественно при таком положении дел, обладали большой властью, которую им эта самая мудрость постоянно советовала расширять. Податные сословия не ждали от королей и дворян ничего, кроме унижений и поборов. Короли правили, опираясь на баронов, или, точнее сказать, усмиряя их, а бароны занимались только тем, что бросали вызов власти королей и всячески притесняли простой народ. Единственной опорой дворянства было духовенство, а оно, неизбежно насаждая суеверие, от которого само было несвободно, вместе с тем проповедовало вселявшую оптимизм доктрину о равенстве всех людей перед Богом. Таким образом, в то время как феодализм не оставлял простолюдинам никаких прав на этом свете, религия обещала им все права на том. Для них, в то время еще не обладавших политическим самосознанием, это было единственным утешением в жизни. Когда церковь, преследуя собственные интересы, призвала к крестовому походу, они с воодушевлением откликнулись на ее призыв. Палестина притягивала их, словно магнит; рассказы пилигримов, посещавших ее в течение двух последних веков, распаляли их воображение и наполняли их праведным гневом; и когда их друзья, наставники и вожди говорили о необходимости войны, это настолько отвечало их собственным мыслям и предубеждениям, что воодушевление перерастало в исступление.

Но если народные массы вдохновляла религия, то мотивы дворянства были иными. Представители данного сословия были жестокими и необузданными людьми, испорченными всеми возможными пороками и не наделенными никакими добродетелями, кроме храбрости. Единственной исповедуемой ими религией была религия устрашения, которая в сочетании с неуемным властолюбием и вела их в Святую землю. Большинство из них имело достаточно грехов, чтобы понести за них наказание. Они могли поднять руку на любого человека и не признавали иного закона, кроме своих страстей. Они игнорировали светскую власть духовенства, но боялись предрекаемых проповедниками адских мук. Война была их ремеслом и усладой их бытия, и неудивительно, что, получив заверение в отпущении всех грехов просто за то, что они последуют своей излюбленной наклонности, с энтузиазмом выступили в поход, став такими же ревностными крестоносцами, как и огромное большинство простолюдинов, ведомых преимущественно религиозными мотивами. Фанатичное желание искупления грехов и любовь к сражениям побуждали дворян отправляться на войну, тогда как у королей и владетельных князей Европы была своя причина поощрять их рвение. Поднаторевшие в политике монархи прекрасно сознавали те выгоды, которые они получили бы от отсутствия в своих владениях столь большого числа неугомонных и кровожадных интриганов, полностью подчинить себе которых было не в их власти. Таким образом, крестовый поход по тем или иным причинам устраивал все население Европы. Участвовать в войне или поддерживать ее хотели все общественные слои: короли и священнослужители — из политических соображений, дворяне — в силу непокорности и жажды власти, а простолюдины — благодаря религиозному рвению и накопившемуся за двести лет желанию отомстить за притеснения единоверцев, умело подогретому их собственными вождями.
Впервые грандиозная идея поднять силы христианского мира, дабы освободить живущих на Востоке христиан от рабства мусульман и вырвать Гроб Господень из рук неверных посетила Петра Пустынника в самой Палестине. Она полностью завладела им и не покидала его даже во время ночных сновидений. Один сон произвел на него такое впечатление, что он искренне уверовал в то, что ему явился сам Спаситель и пообещал ему поддержку и защиту в его священном начинании. Если раньше он и испытывал сомнения в праведности своей затеи, то этого случая оказалось достаточно, чтобы положить им конец.
Покаявшись во всех своих грехах и выполнив прочие паломнические ритуалы, Петр испросил аудиенцию у Симеона, патриарха греко-православной церкви в Иерусалиме. Хотя последний был в глазах Петра еретиком, он все же был христианином и так же остро, как его гость, реагировал на притеснения последователей Иисуса турками. Патриарх полностью поддержал идею Петра и по его предложению написал письма папе и самым влиятельным монархам христианских стран, в которых подробно рассказал о страданиях правоверных и настоятельно попросил властителей защитить их силой оружия. Петр действовал без промедления. Тепло попрощавшись с патриархом, он со всей поспешностью отбыл в Италию. В то время святейший престол занимал папа Урбан II, правление которого было отнюдь не безмятежным. Его предшественник Григорий VII оставил ему в наследство множество разногласий с германским императором Генрихом IV, а он в свою очередь нажил себе врага в лице французского короля Филиппа I, резко осудив его за прелюбодеяние. Пребывание в Ватикане было для него столь опасным, что он нашел убежище в Апулии, где находился под защитой тамошнего герцога Роберта Гвискара340. Туда, по-видимому, и проследовал Петр, хотя ни древние летописцы, ни современные историки не указывают место его встречи с папой. Урбан принял его исключительно радушно, со слезами на глазах прочел послание патриарха Симеона и отнесся к красноречивому рассказу Пустынника с той благосклонностью, что отражала всю глубину его сочувствия бедам христианской церкви. Энтузиазм заразителен, и он, похоже, сразу же передался папе от человека, обладавшего им в неограниченном количестве. Наделив Пустынника соответствующими полномочиями, он отправил его проповедовать идею священной войны всем народам и властелинам христианского мира. Пустынник проповедовал, и многие тысячи европейцев откликались на его проповедь. Его призывы всколыхнули Францию, Германию и Италию, и население этих стран стало готовиться к освобождению Сиона341. Один из хронистов Первого крестового похода, очевидец восторженной реакции Европы на воззвания амьенского аскета342, описал Пустынника того времени. Он пишет, что во всем, что тот говорил или делал, было, казалось, нечто божественное. Простые люди относились к нему столь благоговейно, что выдергивали волосы из гривы его мула и хранили их как реликвии. Во время проповеди он был одет, как правило, в шерстяную рубаху и темную накидку, ниспадавшую до пят. Его руки и ноги оставались обнаженными, и он не ел ни мяса, ни хлеба, поддерживая силы преимущественно рыбой и вином. «Мне неведомо, — пишет летописец, — откуда именно он начал свой путь, но мы видели, как он шел по городам и весям, проповедуя всюду, и простой люд собирался вокруг него такими толпами, делал ему столь щедрые подношения и возносил такие хвалы его святости, что я не припомню никого, кому когда-либо оказывали подобные почести». Так он все шел и шел, неутомимый, несгибаемый и полный религиозного рвения, заражая собственным безумием тех, кто его слушал, пока не забурлила вся Европа.
Пока Пустынник столь успешно взывал к простому люду, папа не менее успешно апеллировал к тем, кто должен был возглавить экспедицию. Он начал с того, что весной 1095 года созвал собор в Пьяченце. На нем римский первосвященник, помимо обсуждения с высшим духовенством вопросов церковного благочиния, принял послов византийского императора, которые сообщили о военных успехах рвавшихся в Европу турок. Участники собора, разумеется, единогласно поддержали выдвинутую папой идею крестового похода и, приняв на себя обязательство проповедовать ее в своих владениях, разъехались по домам.
Однако нельзя было ожидать, что всю необходимую поддержку удастся получить в Италии, и папа переправился через Альпы, дабы лично вдохновить на ратные подвиги воинственных и могущественных сеньоров и рыцарей Франции. То обстоятельство, что при этом он осмелился ступить на территорию, подвластную королю Филиппу, его врагу, ничуть не удивительно. Одни историки считают, что им двигал чисто политический расчет; другие утверждают, что причиной тому был обычный фанатизм — такой же страстный и слепой, как фанатизм Петра Пустынника. По-моему, верно второе. Похоже, что в то время люди зачастую совершали поступки, повинуясь внезапному внутреннему порыву и не думая о последствиях, поэтому можно предположить, что папа, углубившись во Францию, был так же импульсивен в своих действиях, как и те тысячи, что откликнулись на его призыв. В итоге он прибыл на собор в Клермоне, что в провинции Овернь, созванный им для обсуждения текущего состояния церкви, искоренения злоупотреблений и прежде всего подготовки к войне. Стояла чрезвычайно холодная поздняя осень, и земля была покрыта снегом. Семь дней собор заседал при закрытых дверях, а в это время в город со всей Франции стекались огромные толпы людей, рассчитывавших на то, что к ним обратится сам папа. Все города и деревни на мили окрест были заполнены пришлым людом; великое множество тех, кто был не в состоянии заплатить за проживание в частных домах и на постоялых дворах, ставило палатки под деревьями и на обочинах дорог. Вся округа напоминала один огромный лагерь.
На соборе королю Филиппу был вынесен приговор об отлучении от церкви за совершение прелюбодеяния с Бертрад де Монфор, графиней Анжуйской, и за неповиновение верховной власти апостольского престола. Этот смелый шаг наполнил людей глубоким уважением к непреклонности церкви, исполнившей свой долг, невзирая на титул согрешившего. Их любовь к церкви и страх перед ней одинаково возросли, и они с еще большим благоговением ожидали проповеди столь праведного и несгибаемого пастыря. По мере приближения часа, на который было назначено обращение папы к населению, большая площадь перед Клермонским кафедральным собором становилась все более многолюдной. Выйдя из здания собора в полном церковном облачении, папа в сопровождении кардиналов и епископов, также одетых по всей форме, взошел на сооруженный по такому случаю высокий помост, покрытый алым сукном. Среди его блистательного окружения находился тот, кто, не являясь ни епископом, ни кардиналом, был для простого народа более значимой фигурой: на возвышении стоял Петр Пустынник, одетый просто и аскетично. Историки расходятся во мнении, обращался ли Петр к собравшейся толпе или нет, но, поскольку его присутствие не вызывает сомнений ни у кого, логично предположить, что он выступал. Однако наиболее важной была речь, произнесенная папой. Когда он поднял руки, призывая тем самым к тишине, все голоса тут же умолкли. Он начал выступление с подробного рассказа о несчастьях, выпавших на долю христиан в Святой земле. Папа говорил о разорении Палестины лютыми язычниками343, которые убивают правоверных, сжигают их дома, насилуют их жен и дочерей, оскверняют алтари истинного Бога и уничтожают святые мощи. «Вы, — продолжал красноречивый понтифик (а Урбан II был одним из лучших ораторов своего времени), — вы, слышащие меня, исповедующие истинную веру, наделенные Господом властью, силой и величием души; вы, чьи прародители были опорой христианского мира и чьи короли остановили продвижение язычников, — я призываю вас стереть нехристей с лица земли и вызволить угнетенных единоверцев из той пучины, в кою те их ввергли. Гроб Господень находится в руках нечестивых, а святые места их нечестием мараются. О, храбрые рыцари и правоверные, отпрыски непобедимых предков, вы не посрамите их славу! Вы не дадите узам, связывающим вас с женой и детьми, удержать вас от великого дела, а вспомните слова самого Спасителя: “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин меня… и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную”»344.
Энтузиазм понтифика передался толпе, и, прежде чем он закончил свое обращение, люди несколько раз издавали одобрительные возгласы. Он сказал, что те, кто возьмется за оружие, чтобы послужить христианству, будут вознаграждены не только на том, но и на этом свете. Он назвал Палестину страной, текущей млеком и медом, которая дорога Всевышнему как арена великих событий, спасших человечество от гибели. Он пообещал будущим крестоносцам, что эта страна будет поделена между ними, а также заверил их, что они получат полное прощение всех совершенных ими преступлений против Бога или себе подобных. «Ступайте же, — добавил папа, — во искупление грехов ваших и знайте, что после того, как придет ваш черед покинуть сей мир, вы обретете неувядаемую славу в мире ином». Собравшиеся на площади больше не могли сдерживать эмоции и прервали оратора громкими криками, хором скандируя: «Dieu le veult! Dieu le veult!»345 Сохраняя завидное присутствие духа, Урбан сообразил, как обратить этот всплеск энтузиазма в свою пользу, и как только воцарилась тишина, продолжил: «Дражайшие братья, сегодня вы провозгласили то, о чем Господь Бог в Евангелии сказал: “Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”346. Не будь Господа в ваших душах, вы не произнесли бы столь единодушно одни и те же слова; или скорее сам Бог изрек их вашими устами, ибо это он вложил их в ваши сердца. Да будут они вашим боевым кличем, ибо они пришли от Бога. Пускай же воинство Христа, бросаясь на его врагов, выкрикивает лишь сие: “Dieu le veult! Dieu le veult!” Пусть всякий, кто возымеет намерение посвятить себя святому делу, даст о том обет Богу и до выступления в поход будет носить крест Божий на груди или на челе; и пусть тот, кто готов отправиться в путь, поместит сию священную эмблему на плечах в память о заповеди Спасителя нашего: “И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня”»347.
Весть об этой речи348 невероятно быстро достигла самых отдаленных уголков Европы. Даже там она стала известна задолго до прибытия конных гонцов — факт, который расценивался не иначе как сверхъестественный. Но надо сказать, что к тому времени возможность объявления крестового похода обсуждали все кому не лень, и люди были готовы к такому повороту событий.
Относившиеся к идее с энтузиазмом заявляли, что это непременно случится, и реальность совпала с их предсказанием. В то время, однако, подобного стечения обстоятельств было вполне достаточно, чтобы счесть происшедшее чудом, — что все и сделали.
Во Франции и в Германии на протяжении нескольких месяцев после Клермонского собора происходили удивительные вещи. Набожные, фанатичные, нуждающиеся, беспутные, молодые, старые и даже женщины, дети и калеки сотнями записывались в крестоносцы. Во всех деревнях священники вели активную агитацию, обещая бессмертие тем, кто принимал красный крест349, и осыпая самыми страшными угрозами тех поглощенных земными интересами и делами, кто отказывался это сделать или не мог принять решение сразу. Все вступавшие в крестоносцы должники освобождались папским указом от обязательств перед кредиторами; на тех же условиях преступники всех мастей приравнивались к законопослушному населению. Церковь брала имущество крестоносцев под свою защиту, заверяя их в том, что сами св. Павел и св. Петр спустятся с небес, чтобы сторожить их собственность во время их отсутствия. Религиозная экзальтация толпы подогревалась атмосферными явлениями, которые расценивались как предзнаменования. Тогда имело место необычайно яркое северное полярное сияние. Тысячи крестоносцев выходили посмотреть на него и в знак поклонения падали ниц. Оно считалось несомненным предвестием вмешательства Всевышнего и изображением его армий, сражающихся с неверными и разбивающих их наголову. Сообщения о чудесах были повсюду обычным делом. Один монах рассказывал об увиденных им в небе двух гигантских конных воинах, один из которых выглядел как христианин, а другой — как турок. Они сражались друг с другом на огненных мечах, и христианин, разумеется, победил. Говорили, что с неба упало несметное число звезд, падение каждой из которых символизировало гибель врага-язычника. Кроме того, люди верили, что император Карл Великий воскреснет из мертвых и поведет построенное в боевой порядок воинство Христово к победе. Примечательной особенностью массового помешательства был энтузиазм женщин. Повсеместно они уговаривали возлюбленных и мужей забыть про все на свете ради священной войны. Многие из них выжигали себе крест на груди и руках и красили его красной краской, дабы он постоянно напоминал им об их рвении. Другие, еще более фанатичные, точно таким же образом метили слабые конечности малолетних и грудных детей.
Гвиберт Ножанский пишет о монахе, который сделал на лбу крупный надрез в форме креста, залил его каким-то стойким красителем и говорил людям, что это дело рук ангела, явившегося ему во сне. Этот монах был, по всей видимости, скорее жуликом, чем глупцом, потому что за счет своей «святости» он жил лучше всех своих собратьев-пилигримов. На протяжении всего похода крестоносцы одаривали его едой и деньгами, и он, несмотря на нелегкий путь, изрядно потолстел еще до прибытия в Иерусалим. Признай он, что изувечил себя сам, его не считали бы святее остальных, а сказка про ангела действовала безотказно.
Все, кто обладал каким-либо ненужным в походе имуществом, устремились на рынки, дабы обратить его в звонкую монету. В результате земли и дома обесценились на три четверти, а оружие, доспехи и личное снаряжение в той же пропорции подорожали. Зерно, которое прежде из-за ожидаемого неурожая стоило исключительно дорого, внезапно хлынуло на рынок рекой и резко подешевело. Цены на продовольствие упали настолько, что, например, семь овец продавались за пять денариев350. Дворяне закладывали свои поместья иудеям и церкви за гроши или предоставляли городам и сельским общинам своих феодов вольности и привилегии за суммы, от которых несколькими годами ранее они бы с презрением отказались. Земледелец пытался продать свой плуг, а ремесленник — свои инструменты, чтобы купить меч для освобождения Иерусалима. Женщины с той же целью избавлялись от безделушек. Весной и летом того года (1096) на дорогах было полно крестоносцев, торопившихся в города и деревни, определенные в качестве окружных сборных пунктов. Взяв с собой жен и детей, одни ехали в Иерусалим на лошадях, другие — в повозках, а третьи плыли по течению рек в лодках и на плотах. Очень немногие из них знали, где находится Иерусалим. Одни полагали, что до него пятьдесят тысяч миль, другие думали, что доберутся туда всего за месяц, тогда как дети при виде любого города или замка восклицали: «Это Иерусалим? Это тот самый город?»351 Сеньоры и подвластные им рыцари, путешествуя на Восток и желая скрасить утомительные переезды, тешили себя забавой аристократии — соколиной охотой.
Гвиберт Ножанский, писавший только о том, что видел собственными глазами, сообщает, что энтузиазм был столь заразителен, что когда кто-нибудь узнавал о призыве понтифика, он тотчас же отправлялся к соседям и друзьям и уговаривал их ступить вместе с ним на «стезю Господню» (так назывался провозглашенный поход). Пфальцграфы горели желанием отправиться в путешествие; не меньшее воодушевление испытывали и все нижестоящие рыцари. Даже малоимущие распалялись настолько, что никто не задумывался о несоответствии своего материального положения предстоящим затратам или о том, стоит ли продавать ферму, виноградник или поле. Все распродавали имущество по столь низким ценам, словно находились в ужасном плену и стремились как можно скорее заплатить выкуп. Не решившиеся выступить в поход подшучивали и посмеивались над теми, кто столь разорительно для себя избавлялся от собственности, пророча, что их экспедиция будет неудачной, а возвращение и подавно. Но их сарказма хватало ненадолго: уже на следующий день они внезапно впадали в тот же раж, что и остальные. Те, кто прежде смеялся громче всех, сбывали все свое имущество за несколько крон и отправлялись в путь с теми, над кем они так потешались несколькими часами ранее. В большинстве случаев смех выходил им боком, ибо когда становилось известно, что кто-либо проявляет нерешительность или скепсис, его более рьяные соседи посылали ему в подарок вязальную иглу или прялку, выражая тем самым свое презрение. Не желая прослыть малодушными и самими стать объектами насмешек, былые скептики благополучно пополняли собой ряды Христова воинства.
Еще одним феноменом крестового похода было религиозное послушание, заставлявшее простолюдинов и дворян следовать знаменитому постановлению, известному как Божье Перемирие. В начале XI века французское духовенство, сопереживавшее бедам простого народа, но неспособное обуздать жадность и наглость феодалов, попыталось поощрить всеобщую добрую волю, обнародовав уложение под названием Божий Мир. Все, кто изъявлял согласие его выполнять, связывали себя клятвой не мстить ни за какой причиненный ущерб, не пользоваться имуществом, незаконно захваченным у других, и не пускать в ход смертоносное оружие. В награду поклявшиеся получали отпущение всех грехов. Какими бы благими ни были намерения авторов Мира, он не привел ни к чему, кроме клятвопреступлений, и повсюду, как и прежде, царил произвол. В 1041 году церковь предприняла еще одну попытку облагородить полуварварские нравы феодалов и торжественно провозгласила Божье Перемирие. Перемирие действовало с вечера среды до утра понедельника. В это время строго запрещалось под каким бы то ни было предлогом прибегать к насилию или мстить за какой бы то ни было ущерб. Цивилизовать людей такими средствами было невозможно. Большинство не решалось даже пообещать сохранять миролюбие в течение столь чрезмерного периода, как пять дней в неделю; те же немногие, кто его сохранял, с лихвой компенсировали свое послушание в остальные два дня. Впоследствии перемирие было сокращено и подлежало соблюдению с вечера субботы до утра понедельника, но если насилия и кровопролития от этого и стало меньше, то ненамного. На Клермонском соборе Урбан II объявил Божье Перемирие общим церковным законом352. Религиозный пыл был настолько силен, что все поспешили подчиниться. Все второстепенные страсти уступили место главной — крестовому походу. Феодалы больше не притесняли, разбойники не грабили, простой люд не роптал: всех увлек единый порыв, и никто, казалось, ни о чем ином не помышлял.
Лагерные стоянки этих разнородных толп выглядели необычно. Вассалы, вставшие под знамена своего сеньора, ставили шатры вокруг его замка, а те, кто отправился на войну за свой счет, до присоединения к тому или иному предводителю похода жили в бараках и хижинах, возведенных вблизи городов и сел. Луга Франции были уставлены палатками. Поскольку крестоносцы верили, что по прибытии в Палестину получат искупление грехов, сотни из них предавались всевозможным порокам. Пилигримы-сладострастники без стеснения торговались с непотребными девками, на плечах у которых также были красные кресты; чревоугодники давали волю своему аппетиту; пьяные оргии были в порядке вещей. Усердная служба Господу должна была смыть с них все прегрешения и преступления, и они, словно отшельники-аскеты, были искренне убеждены в грядущем спасении своих душ. Данный аргумент побуждал невежд безбоязненно потакать своим страстям, и одновременно с голосами молившихся в лагерях раздавались звуки похотливого разгула.
Первыми в крестовый поход отправились бедняки. Огромные толпы народа присоединились к Петру Пустыннику, которого они, как инициатора, считали наиболее подходящей кандидатурой на роль полководца. Другие примкнули к дерзкому авантюристу, которого историки величают не иначе, как Готье Санавуар, или Вальтер Неимущий, считая его, несмотря на прозвище, отпрыском дворянского рода и искусным воином. Третья, германская, группа сплотилась вокруг монаха Готшалька, о котором известно только то, что он был отъявленным фанатиком. Все эти отряды, которые, если верить историкам, насчитывали в общей сложности триста тысяч мужчин, женщин и детей, состояли из самого подлого европейского сброда. Не обладая ни дисциплиной, ни принципами, ни подлинной храбростью, они проносились по городам и селам словно чума, сея повсюду ужас и смерть. Первыми тронулись в путь ополченцы Вальтера Неимущего. Это было ранней весной 1096 года, всего через несколько месяцев после Клермонского собора. Члены этой разнузданной толпы заботились прежде всего о собственных интересах. Как и их, по сути, номинальный лидер, они были бедны и в поисках средств к существованию были готовы на все. Прокатившись волной по Германии, они вступили в Венгрию, население которой на первых порах относилось к ним довольно благосклонно. Не воспылав в достаточной мере энтузиазмом, чтобы самим присоединиться к крестовому походу, венгры тем не менее хотели внести в него посильную лепту, помогая его участникам. К несчастью, взаимопонимание длилось недолго. Не удовлетворившись провизией, крестоносцы возжелали чужого имущества. Они нападали на крестьянские дома и грабили их, а тех, кто оказывал сопротивление, убивали. Когда они подошли к Землину353, разъяренные венгры собрали большой отряд, атаковали их с тыла, убили великое множество отставших и, собрав их оружие и оторвав от одежд кресты, прикрепили их в качестве трофеев к стенам города. Вальтер, похоже, был не в настроении либо не в состоянии ответить ударом на удар, так как его армия, опустошительная во время грабежей, как стая саранчи, не отразила ни одной атаки полноценного противника. Разгневанные венгры не давали покоя ее тылам, пока она совсем не ушла из их страны. На территории Болгарии Вальтера ждал не лучший прием. Большие и малые города закрывали перед ним ворота, деревни отказывали ему в провианте, а горожане и крестьяне, объединив свои усилия, вырезали его людей сотнями. Продвижение армии напоминало скорее бегство, чем наступление; но нужно было двигаться вперед, и Вальтер продолжал путь, пока не прибыл в Константинополь с войском, которое от голода и сражений уменьшилось на две трети.
Более многочисленное ополчение, ведомое фанатичным Пустынником, следовало за силами Вальтера по пятам, замыкаемое громоздким вещевым обозом и таким количеством женщин и детей, которого хватило бы на отдельную армию. Если и можно было найти более гнусное отребье, чем войско Вальтера Неимущего, то это была рать Петра Пустынника. Имея больше ресурсов, его армия, двигаясь через Венгрию, не опускалась до грабежей, и выбери она маршрут, не проходящий через Землин, она, может статься, пересекла бы эту страну, не прибегая к насилию. Увидев висевшие над городскими воротами оружие и красные кресты своих предшественников, крестоносцы пришли в ярость, и их затаенная дикость вырвалась наружу. Город подвергся беспорядочному штурму, и когда осаждающие не столько за счет смелости, сколько благодаря численному превосходству ворвались в него, они подвергли его всем тем ужасам, что обычно влечет за собой сочетание победы, жестокости и беспутства. Крестоносцы получили от своего вождя полную свободу действий, и сотни жителей несчастного Землина стали жертвами мстительности, похоти и алчности. Разжечь пожар способен любой маньяк, но для его тушения могут потребоваться усилия многих умных людей. Петр Пустынник раздул огонь массового неистовства, но погасить его было не в его власти. Его необузданные приверженцы бесчинствовали до тех пор, пока их не остановил страх возмездия. Когда о бедах, обрушившихся на Землин, стало известно венгерскому королю, он выступил в поход с войском, достаточным для того, чтобы покарать Пустынника. Последний, узнав об этом, снялся с лагеря и удалился в направлении Моравы — широкой и бурной реки, впадающей в Дунай примерно в сорока милях к востоку от Белграда. Там его поджидал отряд разгневанных болгар, стараниями которых переправа через реку стала для него и его людей тяжелым и опасным делом. Огромное их количество утонуло, и многие пали под мечами болгар. В древних хрониках не указаны конкретные потери Пустынника на этой переправе; сообщается лишь, что они были очень велики.
Находившийся в Нише герцог Болгарский, опасаясь нападения, укрепил город, но Петр, наученный горьким опытом, предпочел воздержаться от военных действий. Его армия три ночи простояла лагерем под городскими стенами, и герцог, не желая без нужды озлоблять столь лютое и склонное к грабежам воинство, разрешил горожанам снабдить крестоносцев провизией. На следующее утро Петр мирно снялся с лагеря и проследовал дальше, но несколько отставших от армии бродяг из Германии сожгли мельницу и дом болгарина, с которым, видимо, накануне повздорили. Жители Ниша, которые с самого начала не доверяли крестоносцам и были готовы к самому худшему, немедленно сделали вылазку и отомстили. Мародеры были перебиты, и горожане, преследуя Пустынника, захватили всех ехавших в обозе женщин и детей, а также большое количество скарба. Вслед за этим Петр повернул обратно к Нишу, дабы потребовать от герцога объяснений. Последний беспристрастно констатировал имевшую место провокацию, и Пустыннику нечего было сказать в оправдание столь вопиющего насилия. Начались переговоры, обещавшие быть успешными, и болгары уже хотели освободить женщин и детей, когда группа крестоносцев безо всякого на то приказа свыше попыталась взобраться на стену и захватить город. Попытка Петра применить власть и уладить конфликт оказалась тщетной, горожане напали на его войско, и после короткой, но ожесточенной битвы уцелевшие крестоносцы побросали оружие и разбежались кто куда. Огромная армия, потери которой исчислялись многими тысячами, была разбита наголову.
Утверждают, что после этого брошенный всеми Пустынник укрылся в лесу в нескольких милях от Ниша. Не известно, испытывал ли он после столь сокрушительного поражения муки совести, скорбел ли по погибшим или же его пламенное рвение, успешно преодолев отчаяние, по-прежнему рисовало ему картину конечного триумфа его дела. Недавний предводитель стотысячной армии в одиночестве скитался по лесам, рискуя быть в любой момент обнаруженным и убитым каким-нибудь охочим до преследования болгарином. Наконец он случайно вышел к холму, на котором двое или трое самых храбрых его людей собрали около пятисот крестоносцев, отставших от войска. Они с радостью встретили Пустынника, и после совещания с ним было решено собрать воедино разрозненные остатки армии. На холме были разведены костры; разведчики начали прочесывать окрестности в поисках беглецов. Чтобы привлечь их внимание, сигнальщики регулярно трубили в рога, и до наступления сумерек под началом Пустынника было уже семь тысяч воинов. На следующий день к нему присоединились еще двадцать тысяч человек, и с этим жалким осколком былой рати он проследовал к Константинополю. Тела павших остались гнить в лесах Болгарии.
По прибытии в Константинополь, где его дожидался Вальтер Неимущий, Пустынник был радушно принят византийским императором Алексеем I Комниным. Можно было ожидать, что горечь поражений научит соратников Пустынника элементарной осторожности, но, к несчастью для них, обуздать их буйство и страсть к грабежам оказалось невозможно. Несмотря на то что их окружали друзья, щедро удовлетворявшие все их нужды, они не смогли удержаться от насилия. Напрасно Пустынник призывал их к спокойствию: он был способен усмирить их страсти не больше, чем самый неприметный солдат его армии. Они из чистой злобы подожгли в Константинополе несколько общественных зданий и ободрали с церковных крыш свинцовые полосы, которыми затем торговали на окраинах города. Возможно, именно тогда император Алексей начал относиться к крестоносцам с антипатией, которая впоследствии проявлялась во всех его деяниях, даже когда он имел дело с более благородными армиями рыцарей, прибывшими в Византию после Пустынника. Император, похоже, пришел к выводу, что даже турки представляют меньшую угрозу его власти, нежели эти полчища подонков из Западной Европы, ибо он быстро нашел повод, чтобы ускорить их продвижение в Малую Азию. Петр переправился с Вальтером через Босфор, но бесчинства, творимые людьми Пустынника, были таковы, что он, больше не рассчитывая с таким войском ни на какой благополучный исход, предоставил их самим себе и вернулся в Константинополь под тем предлогом, что ему нужно договориться с приближенными Алексея о снабжении армии провиантом. В рядах крестоносцев, забывших о том, что они находятся на территории врага и в данной ситуации должны думать прежде всего о единстве, произошел раскол. Между ломбардцами и норманнами, которыми командовал Вальтер Неимущий, и франками и германцами, находившимися под началом Петра Пустынника, возникли ожесточенные разногласия. Последние отделились от первых и, избрав своим лидером некоего Рейнальдо, или Рейнгольда, продолжили путь и овладели крепостью Ксеригорд354. Султан Сулейман II355 выступил в поход с превосходящими силами. Отряд крестоносцев, вышедший из крепости и устроивший неподалеку засаду, был застигнут врасплох и разбит наголову, а крепость — окружена со всех сторон. Осада длилась восемь дней, в течение которых христиане претерпевали адские муки из-за нехватки воды. Трудно сказать, сколько еще продержался бы гарнизон благодаря надежде на подкрепление или отчаянному сопротивлению, если бы его вероломный предводитель не отрекся от христианской веры и не сдал крепость в руки султана. Его примеру последовали двое или трое начальников отрядов, а все остальные крестоносцы, отказавшись принять ислам, были безжалостно преданы мечу. Так погибли последние жалкие остатки огромной армии, которая пересекла Европу с Петром Пустынником.
Судьба Вальтера Неимущего и его войска была столь же печальной. Узнав о резне в Ксеригорде, крестоносцы потребовали, чтобы их вождь немедленно повел их против турок. Вальтер, которому для того, чтобы стать хорошим полководцем, не хватало только хороших солдат, был более хладнокровным и понимал всю пагубность такого шага. Имевшихся у него сил было совершенно недостаточно для каких бы то ни было решительных действий на территории, где численное превосходство врага было весьма значительным, а крестоносцы в случае поражения не имели никакой безопасной позиции для отступления; поэтому он высказался против движения вглубь страны до прибытия пополнения. Сей разумный совет не нашел поддержки: армия громко выражала недовольство командиром и готовилась выступить в поход без него. Тогда храбрый Вальтер все же возглавил ее и ринулся навстречу гибели. На пути к Никее (современному Изнику) ему преградила путь армия султана, и завязалась ожесточенная битва, вылившаяся в самую настоящую бойню: из двадцати пяти тысяч христиан двадцать две тысячи были убиты и среди них сам Готье, получивший семь смертельных ран. Остальные три тысячи отошли в Цивитот356 и заняли оборону.
Петр Пустынник, ранее испытывавший отвращение от необузданности тех, кто по его призыву покинул Европу, теперь не находил себе места от постигшего их бедствия. К нему вернулось былое рвение; припав к ногам императора Алексея, Пустынник со слезами на глазах умолял его послать подмогу уцелевшим в Цивитот. Император пошел ему навстречу и отправил отряд, который прибыл как раз вовремя и спас окруженных турками и доведенных до отчаяния крестоносцев от неминуемой гибели. В результате переговоров осада была снята, и последние три тысячи ополченцев Вальтера Неимущего были благополучно переправлены в Константинополь. Алексей слишком настрадался от их варварства в недавнем прошлом, чтобы примириться с их нынешним пребыванием в своей столице; поэтому он приказал им сдать оружие, распорядился выдать каждому из них определенную сумму денег и отправил их обратно на родину.
Пока происходили все эти события, из лесов Германии выходили новые орды устремившихся в Святую землю. Ими командовал фанатичный священник Готшальк, который, подобно Готье и Петру Пустыннику, отправился в путь через Венгрию. О поведении и участи данного воинства, насчитывавшего как минимум сто тысяч человек, известно крайне мало. По всей видимости, их шествие сопровождалось грабежами и убийствами, а несчастные венгры едва не обезумели от их численности и алчности. Венгерский король Кальман предпринял смелую попытку избавиться от них, ибо ярость его подданных была такова, что ее утихомирило бы только полное истребление крестоносцев. Готшальк и его люди понесли наказание не только за собственные преступления, но и за злодеяния своих предшественников. Крестоносцев каким-то образом удалось разоружить, и разъяренные венгры, пользуясь их беззащитностью, расстреляли огромное их количество из луков. Скольким крестоносцам удалось спастись бегством, мы не знаем, но никто из них так и не добрался до Палестины.
Возглавляемые вождями, имена которых история не сохранила, из Германии и Франции отправлялись в путь другие толпы, более жестокие и неистовые, чем все, кто шел до них. Их изуверство намного превосходило самые дикие прихоти спутников Пустынника. Они собирались в шайки численностью от одной до пяти тысяч человек и шли самыми разными дорогами, занимаясь грабежами и убийствами. Они несли на плечах символ крестового похода, но считали, что глупо отправляться в Святую землю для борьбы с турками, оставляя в живых так много евреев — еще более давних врагов Христа. Поклявшись жестоко отомстить этому несчастному народу, они убивали всех иудеев, какие только попадались им на пути, сперва нанося им самые ужасные увечья. Согласно утверждению Альберта Аахенского357, эти изуверы жили в бесстыднейшем распутстве, и сильнее их порочности был лишь их фанатизм. Каждый раз, когда они отправлялись на поиски евреев, они пускали впереди себя гуся и козла, которых считали священными животными, наделенными божественной способностью обнаруживать убежища иноверцев. Только в одной Германии они предали смерти свыше тысячи евреев, несмотря на все попытки духовенства спасти их. Евреи подвергались столь страшным истязаниям, что те из них, кто еще не попал в руки крестоносцев, нередко совершали групповое самоубийство, дабы избежать мучительной смерти.
Избавление Европы от этого бедствия вновь стало уделом венгров. Покончив с евреями во Франции и в Германии, банды собрались воедино и направились в Святую землю все той же дорогой, политой кровью многих из тех трехсот тысяч, что прошли по ней ранее, и готовой к новым жертвам. Общая численность этих банд неизвестна, однако в Венгрии погибло так много их членов, что авторы той поры, не решаясь назвать число убитых даже приблизительно, пишут, что поля были буквально завалены трупами, а воды Дуная на протяжении многих миль были окрашены кровью. Самая страшная резня, в результате которой погибли почти все ранее уцелевшие крестоносцы, имела место у Визельбурга. Пока венгры раздумывали, переправляться ли им через Дунай, чтобы сразиться с крестоносцами на другом берегу, последние преодолели означенную водную преграду и, атаковав с безрассудной отвагой городскую стену, сумели пробить в ней брешь. И в эту минуту, когда победа, казалось, была близка, их внезапно охватил необъяснимый страх. Побросав оружие, охваченные паникой крестоносцы обратились в бегство, не ведая причины и не разбирая дороги. Вооруженные венгры пустились в погоню и беспощадно зарубили такое количество беглецов, что их сброшенные в реку тела, как утверждают, запрудили ее.
Это был наихудший пароксизм охватившего Европу безумия, и когда он закончился, за дело взялись ее рыцари. Эти хладнокровные, рассудительные и вместе с тем исключительно храбрые мужчины стали руководящей и направляющей силой огромного числа европейцев, рвавшихся в Азию. Именно их щедро наделяли самыми лестными эпитетами авторы рыцарских романов, оставляя историкам осуждение подлости и варварства их бесславных предшественников. Наиболее выдающимися из данной плеяды полководцев были Готфрид IV Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, и Раймунд IV, граф Тулузский. Остальными четырьмя вождями рыцарского крестового похода358, каждый из которых был отпрыском царственного рода и командовал собственной армией, были: Гуго, граф Вермандуа, младший брат короля Франции Филиппа I; Роберт II Коротконогий, герцог Нормандский, старший брат английского короля Вильгельма II Рыжего; Роберт, граф Фландрский и Боэмунд, князь Тарентский, старший сын прославленного Роберта Гвискара, герцога Апулии и Калабрии. Все эти принявшие крест люди в той или иной мере разделяли фанатизм эпохи, но никто из них не действовал исключительно из религиозных побуждений. Конечно, они были опрометчивыми, но не настолько, как Готье Санавуар; они были набожными, но их набожность была далека от исступления Петра Пустынника; они были жестокими, но их жестокость не шла ни в какое сравнение со свирепостью монаха Готшалька. Их воинственность сдерживалась осторожностью, религиозное рвение — мирскими воззрениями, а дикость — духом рыцарства. Понимая, куда течет стремительный поток народной воли, и не желая, да и не видя для себя выгоды в том, чтобы его сдерживать, они позволили ему подхватить себя в надежде, что он вынесет их туда, где их доселе невыполнимые притязания на увеличение богатства и расширение власти будут наконец-то удовлетворены. Под их знамена встало множество феодалов более низкого ранга, львиную долю которых составлял цвет дворянства Франции и Италии, а остальные были выходцами из Германии, Англии и Испании. Военачальники справедливо опасались, что в случае, если все столь многочисленные армии будут следовать друг за другом, у них неизбежно возникнут проблемы с продовольствием. Поэтому было решено разделиться и двигаться к Константинополю, где армии должны были соединиться вновь, разными маршрутами: Готфрид Бульонский шел через Венгрию и Болгарию, граф Тулузский — через Ломбардию и Далмацию, а остальные вожди — через Апулию. Численность подчиненных им войсковых соединений оценивается по-разному. Греческая принцесса Анна Комнина пишет, что крестоносцев было так же много, как песчинок на морском берегу или звезд на небе. Оценка Фульхерия Шартрского359более убедительна и не столь чрезмерна: он сообщает, что все подразделения, осадившие Никею, столицу Вифинии360, насчитывали порядка ста тысяч конных и шестисот тысяч пеших воинов, не считая священников, женщин и детей. Гиббон считает, что эта цифра преувеличена, но не намного361. Позднее принцесса Анна пишет, что под началом Готфрида Бульонского было восемьдесят тысяч пехотинцев и всадников, предполагая, что у остальных предводителей воинов было столько, что всего их было около полумиллиона. Принцесса скорее всего недооценивает армию Готфрида, поскольку она, по общему признанию, была самой крупной и меньше других пострадала от тягот пути.
Первой ступила на греческую территорию армия графа Вермандуа. После высадки у Диррахия362 он был принят представителями императора со всем возможным почтением и радушием, а его люди были вдоволь обеспечены провиантом. Однако неожиданно и без объяснения причин граф был арестован по приказу императора Алексея и под конвоем доставлен в Константинополь. Различные авторы объясняют предательский и неразумный шаг императора по-разному, единодушно осуждая при этом столь вопиющее нарушение гостеприимства и законности. Наиболее вероятной причиной подобного образа действий представляется та, которую предложил Гвиберт Ножанский. Он утверждает, что Алексей, опасаясь, что крестоносцы хотят свергнуть его с престола, пошел на эту крайность, с тем чтобы принудить графа дать ленную присягу в обмен на освобождение. Император, видимо, полагал, что примеру столь видного принца, как брат короля Франции, сразу же последуют остальные предводители крестового похода. В результате он испытал жестокое разочарование, которого заслуживает всякий, кто совершает несомненное зло для достижения цели, сомнительной с позиций добра. Но политика такого рода вполне соответствовала узости взглядов императора, который в расслабляющей атмосфере придворной роскоши страшился наплыва смелых и амбициозных воинов с Запада и с помощью недостойных средств старался укротить силу, встретиться с которой лицом к лицу ему не хватало смелости. Если пребывание крестоносцев в его владениях и несло в себе угрозу его власти, то он мог легко избежать опасности, просто возглавив крестовый поход и направив энергию его участников на открыто признанный объект их устремлений — завоевание Святой земли. Но вместо того чтобы стать повелителем и верховным вождем крестоносцев, которых он сам ранее в значительной степени воодушевил на поход, отправив к папе эмиссаров с просьбой о помощи, император стал рабом тех, кто его ненавидел и презирал. Несомненно, что относиться с презрением ко всем без исключения крестоносцам его заставляло варварство людей Готье и Петра Пустынника, но это было презрение ограниченного человека, радующегося любому оправданию своей нерешительности и любви к праздности.
Войско Готфрида Бульонского шло через Венгрию, соблюдая строжайшую дисциплину. Подойдя к Визельбургу, он обнаружил лежащие по всей округе искромсанные тела убийц евреев и потребовал от короля Венгрии объяснить, почему его подданные напали на них. Последний подробно рассказал о зверствах, которые те учиняли, и столь аргументированно доказал Готфриду, что венгры действовали исключительно из соображений самообороны, что этот великодушный вождь счел данное объяснение удовлетворительным и проследовал дальше, не напав на венгров и не подвергнувшись нападению с их стороны. По прибытии в Филиппополь363 он впервые узнал о заключении в тюрьму графа Вермандуа. Он немедленно отправил гонцов к императору, потребовав освободить графа и пригрозив в случае отказа опустошить страну огнем и мечом. Пробыв один день в Филиппополе, он выступил в направлении Адрианополя364, где был встречен своими гонцами, сообщившими, что император отказался выполнить его требование. Готфрид, храбрейший и решительнейший из лидеров крестового похода, был человеком, не уклоняющимся от исполнения своих обещаний, и страна была отдана крестоносцам на разграбление. Тут Алексей сделал еще одну большую ошибку. Как только ему стало известно, что предводитель крестоносцев не относится к тем, кто бросается пустыми угрозами, он согласился освободить узника. Поступив несправедливо в первый раз, он повел себя трусливо во второй и научил на свою беду врагов (каковыми крестоносцам теперь приходилось себя считать) тому, что, имея с ним дело, им следует полагаться не на его справедливость, а только на его страх. Годфрид несколько недель простоял лагерем в окрестностях Константинополя, доставив немало беспокойства Алексею, который любыми средствами пытался вырвать у него феодальную присягу, которую ранее получил от Вермандуа. Иногда он действовал так, будто находился с крестоносцами в состоянии войны, и посылал против них войска. Порой он отказывался снабжать их провизией и приказывал не пускать их на рынки, а порой, словно являясь воплощением миролюбия и доброй воли, слал Готфриду дорогие подарки. Наконец честного и прямолинейного крестоносца так утомило показное добродушие императора и настолько измучило его вероломство, что, дав волю своему гневу, он отдал окрестности Константинополя своим солдатам на разграбление. Шесть дней полыхавшие крестьянские дома наполняли Алексея ужасом; но, как и предчувствовал Готфрид, эти костры в конце концов убедили его в ошибочности избранной им тактики. Боясь, что следующим объектом нападения будет непосредственно Константинополь, император отправил к Готфриду гонцов, чтобы попросить о личной встрече и сообщить о своей готовности в доказательство добрых намерений отдать заложником собственного сына. Готфрид согласился встретиться с ним и — то ли затем, чтобы положить конец бессмысленной вражде, то ли в силу каких-то иных причин — принес Алексею вассальную присягу. После этого он был осыпан почестями и в соответствии с удивительным обычаем той эпохи подвергся церемонии «почетного усыновления» императором. Готфрид и его младший брат Балдуин вели себя по такому случаю с должной учтивостью, но им было не под силу обуздать дерзость своих соратников, не желавших вступать ни в какие союзы с человеком, в лицемерии которого они уже неоднократно убеждались. Один из военачальников, граф Роберт Парижский, дошел до того, что уселся на монарший трон, нанеся Алексею оскорбление, которое вызвало у того лишь презрительную ухмылку, но отнюдь не добавило ему доверия ко все прибывавшему крестоносному ополчению. Несмотря на присущее императору вероломство, невозможно отнестись к нему без сострадания, ибо на тот момент его жизнь была одной непрерывной чередой унижений со стороны самонадеянных крестоносцев и не вполне беспочвенных страхов перед злом, которое они могли бы ему причинить, если бы какое-нибудь неблагоприятное обстоятельство натолкнуло их на мысль захватить его империю. Его дочь Анна Комнина с сочувствием отзывается о том, как он тогда жил, и один ученый немец в одном из недавно опубликованных трудов365 повествует об этом, ссылаясь на записи принцессы, следующим образом:
«Чтобы ничем не обидеть крестоносцев, Алексей исполнял все их прихоти и (зачастую) бессмысленные просьбы, даже если это требовало от него значительных физических усилий, в то время, когда он страдал тяжелой формой подагры, которая в конечном счете свела его в могилу. Ни один пожелавший встретиться с ним крестоносец не получал отказа, и он с величайшим терпением выслушивал нудные и велеречивые разглагольствования, которыми они в силу своей болтливости или фанатизма постоянно ему докучали. Император стоически выносил неподобающие и высокомерные выражения, которые они позволяли себе в его адрес, и строго отчитывал тех своих сановников, которые пытались защитить его достоинство от грубых нападок, ибо панически боялся малейших разногласий, видя в них потенциальный источник более масштабных зол. Хотя иноземные графы зачастую являлись к Алексею со свитой, совершенно несовместимой как с их, так и с его титулом, — иногда с целым отрядом рыцарей, полностью заполнявшим монаршие покои, — император не выказывал ни малейшего раздражения. Он принимал их в любое время; чтобы выслушать их пожелания и требования, он нередко садился на трон на рассвете, и вечерние сумерки заставали его на том же месте. Очень часто у него не оставалось времени на еду. Он не мог как следует отдохнуть много ночей подряд, будучи вынужденным довольствоваться беспокойным сном на троне, положив голову на руки. И даже эта дрема непрестанно прерывалась появлением все новых бесцеремонных рыцарей. Когда все придворные, изнуренные дневными заботами и ночными бдениями, не могли больше стоять на ногах и падали от усталости кто на скамьи, а кто на пол, Алексей по-прежнему собирался с силами и с кажущимся вниманием слушал утомительную болтовню латинян366, дабы у тех не было никакой причины для недовольства. Как же мог Алексей, пребывая в состоянии страха и тревоги, вести себя с достоинством, подобающим императору?»
Алексей, однако, должен был в значительной мере винить самого себя в тех унижениях, что выпали на его долю: из-за его неискренности крестоносцы не доверяли ему настолько, что с течением времени расхожей фразой стало утверждение, что император Алексей и греки являются более ожесточенными врагами западных христиан, чем турки и сарацины367. Нет нужды описывать в данной главе, претендующей на статус истории не столько крестовых походов, сколько безумства Европы, население которой в них отправлялось, различные акты подкупа и шантажа, умасливания и враждебности, с помощью которых Алексей ухитрился по мере прибытия в Византию вождей крестоносных армий вынудить их всех стать к нему в ленную зависимость. Так или иначе он добился от каждого из них желанной присяги, принесение которой отнюдь не являлось гарантией ее выполнения, после чего им было дозволено проследовать в Малую Азию. Лишь один предводитель — Раймунд де Сен-Жиль, граф Тулузский, так и не признал византийского императора своим сюзереном368.
Пребывание в Константинополе не принесло крестоносцам никакой пользы. Мелочные разногласия и ссоры с одной стороны и влияние развращенного и утопавшего в роскоши двора — с другой разрушили их прежнее духовное единство и охладили первоначальный пыл. Одно время армия графа Тулузского находилась на грани расформирования, и если бы этот полководец энергично не переправил ее через Босфор, оно скорее всего имело бы место. Высадившись в Азии, крестоносцы в какой-то степени воспрянули духом, а наличие опасности и лишений придало им мужества для выполнения той миссии, за которую они взялись. Первой запланированной военной операцией была осада Никеи, для овладения которой были задействованы все имевшиеся силы.
Первыми к Никее, под стенами которой произошло объединение всех армий, прибыли силы Готфрида Бульонского и графа Вермандуа. В ее осаде принимали участие такие прославленные крестоносцы, как отважный и благородный Танкред369, чье имя и славные деяния увековечены в «Освобожденном Иерусалиме», доблестный епископ Адемар Монтейльский Ле-Пюи370, Балдуин (впоследствии иерусалимский король)371 и Петр Пустынник — простой солдат, лишившийся всех былых привилегий. Предводитель турок-сельджуков иконийский372 султан Кылыч-Арслан I, деяния которого, овеянные ореолом фальшивой романтики, знакомы читателям поэмы Тассо373, где он изображен под именем Сулейман, совершил переход, чтобы отстоять город, но в результате нескольких ожесточенных боев, в которых христиане продемонстрировали изумивший его героизм, был разбит. Турецкий военачальник ожидал увидеть дикую недисциплинированную толпу наподобие вояк Петра Пустынника — людскую массу, в которой нет лидеров, способных добиться повиновения, а вместо этого столкнулся с опытнейшими полководцами того времени, стоявшими во главе армий, фанатичных ровно настолько, чтобы быть жестокими, не являясь при этом неуправляемыми. В этих сражениях обе стороны потеряли многие сотни воинов, и с обеих сторон имело место самое отвратительное варварство. Так, крестоносцы, одержав победу, отрубили у погибших мусульман головы и в качестве трофеев отправили их в корзинах в Константинополь. После того как разгромленный султан временно отступил, осада Никеи возобновилась с удвоенной силой. Турки оборонялись с величайшим упорством и обрушивали на крестоносцев град отравленных стрел. Когда какой-нибудь несчастный погибал под стеной, они спускали железные крючья, подцепляли тело, втаскивали его наверх, а затем, раздев и изувечив труп, сбрасывали его обратно на осаждающих. Последние имели солидные запасы продовольствия, и осада длилась тридцать шесть дней без малейшего ослабления усилий с обеих сторон. Рассказывают множество историй о нечеловеческом героизме христианских вождей — о том, как один человек обращал в бегство тысячу, как стрелы правоверных всегда попадали в цель и др. Один эпизод о Готфриде Бульонском, поведанный Альбертом из Экса374, заслуживает пересказа не только как свидетельство высокого мнения о его доблести, но и как пример заразительного легковерия крестоносцев — легковерия, которое, воодушевляя их на победу, часто ставило их на самую грань поражения. Некий турок громадного роста день за днем появлялся на зубчатых стенах Никеи и, стреляя из огромного лука, убивал великое множество христианских воинов. Каждая пущенная им стрела несла смерть; и хотя крестоносцы раз за разом целились ему в грудь, а он занимал исключительно незащищенную позицию, их стрелы, словно отклоняемые от траектории некоей таинственной силой, падали к его ногам, не причинив ему никакого вреда. Турок казался неуязвимым, и среди крестоносцев вскоре распространился слух, что он — не кто иной, как сам Сатана, непобедимый для простых смертных. Готфрид Бульонский, не веривший в сверхъестественную природу мусульманина, решил по возможности положить конец смятению, от которого опускались руки даже у самых лучших солдат. Взяв огромный арбалет, он встал впереди армии, чтобы испытать на наводящем ужас лучнике твердость своей руки. Стрела, нацеленная прямо в сердце турка, убила его. Сраженный мусульманин пал под горестные стоны осажденных и крики «Deus adjuva! Deus adjuva!»375 — боевой клич осаждающих.
Наконец, когда крестоносцы решили, что преодолели все препятствия, и готовились овладеть городом, они, к своему великому удивлению, увидели развевающийся над крепостными стенами флаг императора Алексея. Его представитель Фатиций, или Татикий, умудрился попасть в город с отрядом греческих войск в том месте, которое крестоносцы не штурмовали и оставили открытым, и уговорил турок сдаться ему, а не латинянам376. Когда последние узнали об этой хитрости, их возмущению не было предела, и солдат с величайшим трудом удалось удержать от возобновления штурма и осады византийского уполномоченного.
Тем не менее армия продолжила свой поход и в силу тех или иных причин разделилась на две части. Одни историки пишут, что это произошло случайно377, а другие в один голос утверждают, что это было сделано для упрощения добывания провианта в пути378. Одно подразделение состояло из отрядов Боэмунда, Танкреда и герцога Нормандского; другим, удалившимся на некоторое расстояние вправо, командовали Готфрид Бульонский и другие вожди. Иконийский султан, который после поражения при Никее интенсивно, но без лишнего шума готовился сокрушить крестоносцев одним мощным ударом, очень быстро собрал под свои знамена все многочисленные племена, которые были ему преданы, и, встав во главе армии, насчитывавшей по самым скромным оценкам не менее двухсот тысяч воинов (главным образом конных), обрушился на первое из вышеупомянутых подразделений христианского войска в Дорилейской долине. Ранним утром 1 июля 1097 года крестоносцы увидели, как передовые отряды турецкой кавалерии мчатся на них по склонам холмов. У Боэмунда, не ожидавшего нападения превосходящих сил султана, едва ли было время, чтобы как следует изготовиться к бою и перевезти больных и раненых в хвост колонны. Христиане, армия которых состояла преимущественно из пехотинцев, отступали по всем фронтам и сотнями гибли под копытами турецких коней и от отравленных стрел мусульманских лучников. Потеряв своих лучших рыцарей, крестоносцы отошли к вещевому обозу, где их преследователи устроили страшную резню, не пощадив ни женщин, ни детей, ни больных, ни раненых. И именно в тот момент, когда положение христиан было хуже некуда, им пришли на помощь подоспевшие Готфрид Бульонский и граф Тулузский, вмешательство которых изменило ход сражения. После упорной схватки турки бежали, и их прекрасно оснащенный лагерь попал в руки врага. Крестоносцы потеряли убитыми около четырех тысяч человек, в том числе нескольких известных вождей, среди которых были граф Роберт Парижский и брат Танкреда Вильгельм. Потери турок, которые не превысили этой цифры, но все же были довольно ощутимыми, вынудили их изменить тактику. Султан был далек от поражения, его армия по-прежнему была гигантской, и он принялся опустошать земли на пути крестоносцев. Последние нашли в турецком лагере обильные запасы продовольствия, но, не зная о вражеской уловке, отнюдь не стремились его экономить и несколько дней подряд наедались до отвала. Вскоре они дорого заплатили за свою глупость. В разоренной Киликии379, через которую крестоносцы двигались к Антиохийскому эмирату, они ужасно страдали от нехватки еды для себя и подножного корма для скота. Над ними висело палящее солнце, лучи которого иссушили то, с чем не смогли справиться пожары, устроенные султаном, и уже на второй день пути воды не было нигде вокруг. Пилигримы умирали по пятьсот человек в день. Лошади разделяли участь людей, и багаж, который ранее везли они, либо перекладывали на собак, овец и свиней, либо бросали совсем. В некоторых бедственных ситуациях, постигших христиан позднее, они думали только о своих сиюминутных прихотях и предавались самому опрометчивому расточительству, но в тот раз они, не скупясь, делились друг с другом последним. Религия, о которой они зачастую забывали в периоды благополучия, служила им опорой в дни невзгод и утешала их на смертном одре, суля вечное блаженство.
Наконец они достигли Антиохийского эмирата, где вода и корм для скота, падеж которого принял к тому времени угрожающие размеры, имелись в изобилии. Обрадованные крестоносцы разбили лагерь и, ничему не наученные горьким опытом голода, вновь принялись пировать.
18 октября они обложили Антиохию380 — хорошо укрепленный город, осада которого и события, которым она послужила причиной, относятся к наиболее выдающимся эпизодам Первого крестового похода. Этот город, который стоял на возвышенности и омывался рекой Оронт381, был очень удачно расположен с точки зрения обороны, а имевшийся у турецкого гарнизона запас провизии позволял выдержать длительную осаду. Христиане также не испытывали недостатка в съестных припасах, но, к несчастью для себя, обходились с ним крайне неразумно. Их войско насчитывало триста тысяч бойцов, и от Раймунда Ажильского382 мы узнаем, что у них было так много продовольствия, что они, как завзятые гурманы, выбрасывали бóльшую часть туши каждого забитого животного и питались исключительно деликатесными частями. Их расточительность была настолько сумасбродной, что менее чем через десять дней голод вновь взглянул им в лицо. После безрезультатной попытки овладеть городом путем coup de main383, они, страдая от голода сами, осадили его, дабы взять измором врага. Но вместе с нуждой пришло охлаждение энтузиазма. Предводители начали уставать от похода. Балдуин ранее отделился от остальной армии и, проследовав к Эдессе384, стал ее правителем путем интриг. Другие вожди уже не чувствовали прежнего воодушевления. Стефан (Этьен), граф Блуа и Шартра, и Гуго Вермандуа, неспособные терпеть лишения, вызванные их собственной глупостью и расточительностью, начали проявлять нерешительность. Даже Петр Пустынник затосковал по дому. Когда среди христиан, доведенных голодом до последней черты, начались случаи каннибализма, Боэмунд и Роберт Фландрский отправились со своими отрядами в экспедицию на поиски провианта. Ее результаты были весьма скромными; но даже то, что удалось добыть, расходовалось неэкономно, и всего через два дня положение стало таким же плачевным, как и прежде. Под предлогом отыскания продовольствия дезертировал со своим отрядом Фатиций, командир греков и представитель Алексея, его примеру последовали некоторые подразделения крестоносцев.
Над оставшимися довлела жестокая нужда, и они старались облегчить свой удел неустанными поисками примет и предзнаменований. Всевозможные природные явления наряду с необыкновенными видениями исступленных фанатиков то воодушевляли, то угнетали осаждающих в зависимости от того, что, согласно их трактовке, они предвещали — победу крестоносцев или их поражение. Однажды пронесся неистовый ураган, поваливший огромные деревья и шатры христианских военачальников. В другой раз лагерь пострадал от землетрясения, которое было расценено как предвестие великой опасности, нависшей над «делом креста». Но появившаяся вскоре после него комета вновь наполнила христиан оптимизмом: живое воображение заставило их поверить в то, что она имеет форму горящего креста, который приведет их к победе. Голод был не самой худшей из выпавших на их долю напастей. Нездоровая пища и загрязненный воздух с окрестных болот вызывали заразные заболевания, которые сводили крестоносцев в могилу быстрее, чем вражеские стрелы. В день умирало по тысяче человек, и захоронение трупов стало в конце концов задачей крайней сложности. И без того незавидное положение крестоносцев усугублялось тем, что каждый относился к своему соседу с растущим подозрением, так как лагерь кишел турецкими лазутчиками, которые ежедневно сообщали осажденным о передвижениях и потерях противника. Со свирепостью, порожденной отчаянием, Боэмунд приказал поджарить заживо двух выявленных им шпионов на глазах у всей армии и в пределах видимости защитников Антиохии. Однако даже этот страшный урок, преподанный шпионам, не привел к уменьшению их числа, и турки по-прежнему были осведомлены обо всем, что происходило в лагере христиан, не хуже их самих.
Когда крестоносцы были доведены до крайней степени отчаяния, они получили благую весть о прибытии из Европы подкрепления с обильным запасом продовольствия. Долгожданный вспомогательный отряд высадился в антиохийской гавани св. Симеона, примерно в шести милях от города. Туда отправилась шумная толпа голодных крестоносцев, сопровождаемая Боэмундом, графом Тулузским и усиленными подразделениями их слуг и вассалов, которые должны были охранять провиант при его доставке в лагерь. Предупрежденный о высадке гарнизон Антиохии пришел в состояние повышенной боевой готовности, и из города вышел корпус турецких лучников, получивший приказ устроить засаду в горах и преградить путь возвращающимся крестоносцам. Турки неожиданно напали на нагруженного провизией Боэмунда в горном ущелье. Большое число его спутников было убито, а он сам, едва избежав гибели, прискакал в лагерь и сообщил о разгроме эскорта. До Готфрида Бульонского, герцога Нормандского и других военачальников уже дошел слух об этой битве, и в ту минуту они готовились прийти на помощь попавшим в засаду. Армия, вдохновленная как боевым духом, так и голодом, тотчас же отправилась в путь и двигалась со всей возможной быстротой, чтобы перехватить победивших турок, пока те со своей добычей не добрались до Антиохии. Это им удалось, и началась яростная битва, которая продолжалась с полудня до захода солнца. Христиане завладели преимуществом и удерживали его; каждый из них сражался так, словно исход боя зависел только от него. Сотни турок погибли в водах Оронта, и более двух тысяч полегло на поле брани. Все продовольствие было отвоевано и под охраной доставлено в лагерь, куда крестоносцы возвращались, распевая «Аллилуйя!» или выкрикивая: «Deus adjuva! Deus adjuva!».
Продовольствия хватило на несколько дней, а при должной экономии его хватило бы на гораздо более длительный период, но вожди не пользовались авторитетом и были не в состоянии осуществлять какой бы то ни было контроль за его распределением. Вот-вот должен был снова наступить голод, и Стефан, граф Блуаский, будучи не в восторге от такой перспективы, покинул лагерь с четырьмя тысячами своих вассалов и обосновался в Александретте385. Моральное воздействие этого дезертирства на оставшихся было чрезвычайно пагубным, и Боэмунд, самый нетерпеливый и честолюбивый предводитель, понимал, что если этому быстро не положить конец, то это приведет к полному провалу похода. Нужно было предпринимать решительные действия: армия роптала по поводу затянувшейся осады, а султан386 собирал войско, чтобы покончить с крестоносцами. Антиохия могла держаться еще месяцы, а измена в лагере христиан при сохранении ими прежней тактики вообще ставила под сомнение овладение городом.
Турецкому князю (эмиру) Антиохии Баги-Сиану служил армянин Фируз, которому была вверена защита башни в той части городской стены, что находилась на стороне горных перевалов. Боэмунд, пользуясь услугами принявшего христианство шпиона, которому он дал при крещении собственное имя, поддерживал с этим командиром постоянную связь и пообещал ему самую щедрую награду в случае, если тот сдаст свой пост крестоносцам. Кто первым сделал предложение о сдаче — Боэмунд или армянин, доподлинно неизвестно, но то, что они быстро пришли к соглашению, не вызывает сомнений. Исполнение задуманного было назначено на одну из ночей. Боэмунд в общих чертах сообщил о сговоре Готфриду и сказал, что пойдет на его осуществление лишь при условии, что в случае захвата города он как вдохновитель сего смелого предприятия удостоится титула князя Антиохийского. Другие лидеры колебались: честолюбие и зависть убеждали их отказать интригану в помощи. Однако по зрелом размышлении они неохотно приняли его предложение, и для вылазки было отобрано семьсот храбрейших рыцарей, истинная задача которых из страха перед лазутчиками держалась от остальной армии в глубокой тайне. Когда подготовка к экспедиции завершилась, был пущен слух, что этим семистам рыцарям приказано устроить засаду отряду армии султана387, который, как утверждали, приближался к Антиохии.
Предательству армянина, который на своей уединенной сторожевой башне принял условленный сигнал о подходе крестоносцев, благоприятствовало буквально все. Ночь была темной и ненастной, не было видно ни одной звезды, а ветер завывал столь яростно, что заглушал все прочие звуки. С неба низвергались потоки воды, и наблюдатели на башнях, ближайших к башне Фируза, не слышали топота рыцарей в полном боевом облачении из-за ветра и не видели их из-за непроглядной тьмы и ливня. Подойдя к стене на расстояние выстрела из лука, Боэмунд послал вперед переводчика для переговоров с армянином. Последний настоятельно попросил крестоносцев поторопиться и попасть в благоприятный интервал, поскольку каждые полчаса стена патрулировалась вооруженной стражей с факелами, которая в ту минуту как раз закончила обход. Военачальники незамедлительно подошли к подножию стены, Фируз спустил им канат, и Боэмунд привязал его к концу лестницы из кожаных ремней, который армянин затем втянул наверх и надежно закрепил. На какое-то мгновение авантюристами овладел страх, и никто не решался начать подъем. Наконец Боэмунд388, подбариваемый сверху Фирузом, начал взбираться наверх, и за ним последовали Готфрид, граф Роберт Фландрский и несколько других рыцарей. Пока они поднимались, за ними следовали другие, и когда на лестнице было около дюжины рыцарей, она под их тяжестью оборвалась. Одетые в тяжелые кольчуги, они полетели вниз и попадали друг на друга с громким лязгом. Сперва они думали, что все пропало, но ветер, проносившийся свирепыми порывами сквозь узкие горные ущелья, издавал такой громкий вой, а вздувшийся от дождя Оронт нес свои воды столь шумно, что стражники ничего не услышали. Лестницу быстро починили, и рыцари, поднимаясь по двое за один раз, благополучно достигали вершины стены. Когда на стену взобралось шестьдесят человек, в ее отдаленном углу замерцал факел патрульного. Спрятавшись за контрфорс389, крестоносцы, затаив дыхание, ждали его приближения. Как только он очутился от них на расстоянии вытянутой руки, его тут же схватили, и, прежде чем он отверз уста, чтобы поднять тревогу, их навсегда закрыло молчание смерти. Затем рыцари быстро спустились по винтовой лестнице башни и, открыв ближайшие ворота, впустили внутрь остальных. В этот момент Раймунд Тулузский, посвященный в план захвата и оставленный во главе основной части войска, услышал звук сигнального рога, означавший, что вторжение произошло, и ведомые им крестоносцы прорвались в город с другой стороны.
Невозможно вообразить зрелище более жуткое, нежели то, что представляла собой обреченная Антиохия в ту ужасную ночь. Крестоносцы бились со слепой яростью, вызванной равно фанатизмом и страданием. Они убивали всех без разбора — мужчин, женщин и детей, и по улицам текли реки крови. Темнота увеличивала число жертв: когда наступило утро, крестоносцы поняли, что отправили на тот свет множество товарищей по оружию, принятых по ошибке за врагов. Сельджукский эмир бежал: сперва в крепость390, а когда там стало небезопасно — в горы, где был пойман и убит. Его седая голова была доставлена в Антиохию как трофей. На рассвете резня прекратилась, и крестоносцы занялись мародерством. Они нашли много золота, драгоценных камней, шелков и бархата, но продовольствия, которое было для них важнее, в городе оказалось немного. Зерна, в частности, было настолько мало, что крестоносцы, к своему сожалению, обнаружили, что положение осажденных было в этом отношении ненамного лучше положения осаждающих.
Прежде чем они обустроились на новом месте и приняли необходимые меры для обеспечения продовольствием, город обложили турки. Персидский султан собрал огромную армию, во главе которой поставил мосульского эмира Кербогу, дав ему наказ стереть полчища неверных с лица земли391. Эмир объединился с Кылыч-Арсланом392, и две армии окружили город. Христианами овладели пораженческие настроения, и многие из них, каким-то образом обманув бдительность осаждающей стороны, бежали в Александретту к графу Стефану Блуаскому, которому они, крайне сгустив краски, поведали о перенесенных ими страданиях и о полной безнадежности продолжения войны. Стефан немедленно свернул лагерь и отбыл в Константинополь. В пути он встретился с императором Алексеем, который с крупными силами спешил овладеть территориями, завоеванными христианами в Азии. Как только император узнал об их бедственном положении, он повернул обратно и проследовал с графом Блуаским в Константинополь, бросив остальных крестоносцев на произвол судьбы.
Весть об этом отступничестве повергла завоевателей Антиохии в еще большее смятение. Все лошади, непригодные для армейских нужд, были умерщвлены и съедены, а собаки, кошки и крысы продавались по баснословным ценам. В пищу шла даже падаль, которой становилось все меньше. С усилением голода начался мор, и вскоре от тех трехсот тысяч крестоносцев, что начали осаду Антиохии, осталось всего шестьдесят тысяч. Но жесточайшие невзгоды, которые уничтожали боевой дух армии, только укрепляли сплоченность ее предводителей; Боэмунд, Готфрид и Танкред поклялись не изменять общему делу до самой смерти. Первый из упомянутых тщетно силился снова воодушевить своих подчиненных на борьбу. Ими овладели усталость и тоска по родине, и его угрозы и посулы не возымели действия. Некоторые из них заперлись в домах и отказывались их покидать. Чтобы заставить их выполнять свой долг, Боэмунд поджег целый квартал, и многие из них погибли в огне, в то время как остальная армия взирала на происходящее с величайшим равнодушием. Вдохновляемый мирскими устремлениями, Боэмунд не имел должного представления о характере рядовых крестоносцев и не понимал религиозного безумия, погнавшего их в таком количестве из Европы. Один более проницательный священник придумал план, который заставил их вновь поверить в собственные силы и вселил в них столь неимоверную доблесть, что всего шестьдесят тысяч исхудавших, больных и голодных фанатиков обратили в бегство откормленное и в шесть раз большее войско султана Персии393.
Этого монаха, уроженца Прованса, звали Петр Варфоломей, и мы никогда не узнаем, кем он был на самом деле — мошенником, религиозным фанатиком или и тем и другим, действовал ли он по собственной воле или же был орудием в чужих руках. Несомненно, однако, что он поднял осажденных на борьбу и стал вдохновителем конечного триумфа крестоносных армий. Когда силы крестоносцев были на исходе и никто из них уже не рассчитывал на победу, Петр явился к графу Раймунду Тулузскому и попросил о встрече по важному делу. Его немедленно пропустили. Визитер сообщил, что несколькими неделями ранее, когда христиане осаждали Антиохию, он спал в своей палатке и был разбужен землетрясением, которое так напугало войско. Охваченный ужасом, он смог лишь воскликнуть «Господи, помоги!» и, обернувшись, увидел, что перед ним стоят двое мужчин, в которых по исходившему от них сиянию он тут же признал святых духов. Один имел облик пожилого человека с тронутыми сединой рыжеватыми волосами, мрачными глазами и длинной седой бородой. Другой был моложе, выше и симпатичнее, а в выражении его лица было больше святости. Говорил только пожилой, который назвался святым апостолом Андреем и велел Петру разыскать графа Раймунда, епископа Ле-Пюи и Раймунда Ажильского и спросить их, почему епископ не увещевает воинов и не осеняет их крестным знамением. Затем апостол подхватил монаха, на котором была только исподняя рубаха, перенесся с ним по воздуху в самый центр Антиохии и привел его в церковь св. Петра, тогдашнюю сарацинскую мечеть. Апостол довел его до колонны рядом с лестницей, по которой они поднялись на южную сторону алтаря, где висели две лампы, светившие ярче полуденного солнца. Его более молодой компаньон, имени которого Петр в то время не знал, стоял в отдалении у ступеней алтаря. Далее апостол проник в толщу земли и извлек из нее наконечник копья, который вложил священнику в руку, сказав, что именно он пронзил грудь распятого Спасителя. Держа Святое Копье, растроганный до слез провансалец попросил апостола разрешить ему забрать реликвию и отдать ее графу Раймунду. Апостол ответил отказом, зарыл копье обратно в землю и сказал, что, когда город будет отвоеван у язычников, Петр должен вновь прийти на это место с двенадцатью избранными и выкопать копье еще раз. После этого апостол доставил его назад в палатку, и оба потусторонних создания растаяли в воздухе. Монах сказал графу, что в то время он не сообщил об этом из опасения, что особы столь высокого ранга отнесутся к его рассказу с недоверием. Когда через несколько дней он выходил из лагеря на поиски еды, ему вновь было видение. В этот раз более молодой святой взирал на него с укоризной. Петр умолял апостола найти более подходящую кандидатуру для возложенной на него миссии, но тот отказался и наказал его за непослушание расстройством зрения. Не понимая причины своего упрямства, он по-прежнему держал увиденное и услышанное в тайне. Третье явление святых состоялось, когда монах-слуга находился со своим рыцарем Вильгельмом в палатке у гавани св. Симеона. На сей раз св. Андрей велел передать графу Тулузскому наказ не купаться по прибытии к Иордану в его водах, а переплыть его в лодке одетым в рубаху и штаны из льняного полотна, которые следовало окропить священной водой из реки. Эту одежду графу надлежало впоследствии хранить вместе со Святым Копьем. Вильгельм, хозяин Петра, не видел апостола, но отчетливо слышал отдававший приказ голос. И вновь провансалец медлил с выполнением поручения, и вновь святые явились ему. Это произошло, когда он был в порту Мамистра и готовился отплыть на Кипр. Св. Андрей сказал Петру, что если тот будет упорствовать и дальше, то будет осужден на вечные муки. После этого монах наконец решился сделать все, что ему довелось пережить и узнать, достоянием гласности.
Граф Тулузский, который, по всей вероятности, состряпал эту небылицу вместе со священником, был, казалось, потрясен услышанным и немедленно послал за епископом Ле-Пюи и Раймундом Ажильским. Войдя в курс дела, епископ, не раздумывая, заявил, что не верит ни единому слову монаха и не станет предпринимать в связи с его рассказом ровным счетом ничего. Граф Тулузский, напротив, имел массу доводов в пользу если не веры, то создания ее видимости, и столь убедительно поведал епископу о выгоде, которую они могли бы извлечь из этой истории, вернув крестоносцам прежний боевой пыл, что последний скрепя сердце согласился организовать поиски священного оружия по всем правилам. Церемония была назначена на второй день после их беседы, и на все остававшееся до нее время Петр был вверен заботам Раймунда, духовника графа. Это было сделано с тем, чтобы лишить непосвященных возможности подвергнуть его, если можно так выразиться, перекрестному допросу и, поставив в тупик, уличить во лжи.
Для предприятия были незамедлительно отобраны двенадцать набожных мужчин, в числе которых были граф Тулузский и его духовник. В условленный день они начали копать с восходом солнца и сделали перерыв на отдых лишь незадолго до заката. Возможно, поиски копья так и не увенчались бы успехом, если бы сам Петр не спрыгнул в яму и не попросил Всевышнего явить реликвию взору ее искателей, дабы она придала осажденным сил и привела их к победе. Те, кто прячет, знают, где искать, и Петр не стал в этом смысле исключением, так как сразу же после его молитвы копье было найдено. Он и духовник Раймунд внезапно заметили в земле его острие, и Раймунд, вытащив оное, поцеловал его со слезами радости на виду у собравшейся в церкви толпы наблюдателей. Оно было тотчас же завернуто в принесенную с этой целью дорогую пурпурную материю и в таком виде показано правоверным, огласившим здание восторженными криками.
В ту же ночь у Петра было еще одно видение, после чего крестоносцы прозвали его «провозвестником воли небес». На следующий день он утверждал, что апостол Андрей и «молодой человек с божественным ликом» явились ему вновь и сообщили, что в награду за стойкую набожность граф Тулузский должен возглавить армию и нести впереди нее Святое Копье, а день, в который оно было найдено, должен считаться религиозным праздником во всех христианских странах. Кроме того, св. Андрей обратил внимание Петра на отверстия в ступнях и ладонях своего милостивого спутника, и монах сделал вывод, что оным является сам СПАСИТЕЛЬ.
Видения Петра настолько возвысили его в глазах крестоносцев, что среди них появились новые «провозвестники». Святые посещали других монахов и сулили победу воинству Христову, если оно будет храбро держаться до конца, и вечную славу погибшим с оружием в руках. Двое дезертиров, которые тайком покинули лагерь, не выдержав тягот и лишений войны, неожиданно вернулись и, разыскав Боэмунда, рассказали ему, что встретили в пути двоих призраков, гневно приказавших им вернуться. Один из дезертиров сказал, что узнал своего брата, убитого в бою несколькими месяцами ранее, и что его голова была окружена нимбом. Другой и вовсе заявил, что обратившийся к нему дух был самим Спасителем, который пообещал наградить его вечным блаженством, если он одумается и вернется к исполнению своего долга, и наказать геенной огненной в случае отказа от креста. О неверии этим людям никто и не помышлял. Армия немедленно воспрянула духом, отчаяние уступило место надежде, воины обрели былую мощь, и муки голода на какое-то время отступили на задний план. Энтузиазм, с которым крестоносцы отправлялись на Восток, воспылал в них с прежней силой, и они громогласно требовали вести их в бой. Вожди охотно откликнулись на их призыв. Битва была для крестоносцев единственным шансом на спасение; и хотя Готфрид, Боэмунд и Танкред отнеслись к истории с копьем с изрядной долей скептицизма, им хватило ума не подвергать сомнению мошенническую проделку, способную обеспечить победу.
Для начала Петр Пустынник был послан в лагерь Кербоги с предложением разрешить конфликт между двумя религиями путем схватки определенного числа самых лучших солдат христианской и мусульманской армий. Кербога с презрением отвернулся от парламентера и сказал, что не может соглашаться на предложения шайки презренных нищих и грабителей. С этим резким ответом Петр вернулся в Антиохию. Христиане тотчас же начали готовиться к нападению на врага, ибо последний был по-прежнему прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в их стане. С крепости, находившейся в стенах Антиохии и остававшейся в руках сельджуков, просматривался весь город, и начальнику гарнизона не составляло труда делать выводы о намерениях крестоносцев, наблюдая за их действиями. Утром 28 июня 1098 года на самой высокой крепостной башне был поднят черный флаг, оповестивший осаждающую сторону о том, что христиане собираются сделать вылазку.
Мусульманские полководцы знали, насколько противник пострадал от голода и болезней. Им, в частности, было известно, что у рыцарей осталось не более двухсот лошадей, а пехотинцы больны и истощены. Но они не знали о той невероятной доблести, которую вселило в сердца христиан суеверие. К истории с копьем они относились с величайшим презрением и, уверенные в легкой победе, не утруждали себя подготовкой к отражению атаки. Сообщается, что в ту минуту, когда поднятый над крепостью черный флаг предупредил осаждающих о приближении крестоносцев, Кербога играл в шахматы и с истинно восточным хладнокровием отказался уделить внимание нападению ничтожного, с его точки зрения, врага до завершения партии. Разгром передового сторожевого поста численностью две тысячи человек вывел его из состояния апатии.
Одержав эту первую победу, обрадованные крестоносцы продвигались к горам, надеясь заманить турок туда, где их конница будет неспособна маневрировать. Ведомые герцогом Нормандским, графом Робертом Фландрским и Гуго Вермандуа, они увидели богатый лагерь противника и испытали душевный подъем и прилив мужества от перспективы его захвата. Непосредственно за подразделениями вышеперечисленных вождей следовали силы Готфрида Бульонского и Адемара Ле-Пюиского. Последний был облачен в полный комплект доспехов и, находясь в поле зрения всей армии, нес Святое Копье. Замыкали колонну отряды Боэмунда и Танкреда.
Наконец осознав, что к неприятелю надо относиться со всей серьезностью, Кербога принял решительные меры, чтобы исправить свою ошибку, и, готовясь атаковать христиан с фронта собственными силами, направил им в тыл Кылыч-Арслана. Чтобы утаить данный маневр от противника, он велел поджечь сухую траву, которой была покрыта земля, и Кылыч-Арслан, описав со своей кавалерией широкую дугу за дымовой завесой, благополучно занял указанную позицию. Впереди завязалась ожесточенная битва; стрелы турок сыпались градом, а их хорошо обученные эскадроны топтали христиан копытами, как стерню. Исход сражения был, однако, еще не ясен, потому что христиане обладали позиционным преимуществом и быстро перехватывали инициативу. И в это время у них в тылу появились огромные силы Кылыч-Арслана. Готфрид и Танкред ринулись на подмогу Боэмунду и, стремительно напав на турок, внесли смятение в их ряды. Провансальцы епископа Ле-Пюи бились с воинством Кербоги, оставшись почти без поддержки со стороны других вождей, но присутствие Святого Копья делало героем даже самого захудалого солдата его отряда. Несмотря на это, численность врага по-прежнему казалась беспредельной. Атакуемые со всех сторон, христиане наконец дрогнули и начали отходить, и турки решили, что победа им обеспечена.
И тут один из крестоносцев закричал, что на их стороне сражаются святые. К тому времени поле боя очистилось от дыма сгоревшей травы, который клубами унесся прочь и, гонимый ветром, образовал белые облака причудливой формы, окутавшие отрог удаленного горного хребта. Какой-то фанатик с распаленным воображением, с трудом разглядевший эту картину сквозь поднятую бойцами пыль, призвал соратников взглянуть на армию святых в белых одеяниях и на белых лошадях, мчащуюся им на помощь по склонам гор. Все крестоносцы немедленно обратили взоры на отдаленный дым; вера была в каждом сердце; и по полю пронесся их старый боевой клич: «Так хочет Бог! Так хочет Бог!» Поверив, что на их глазах Господь послал им в подмогу свое войско, христиане взялись за дело столь рьяно, что мусульман охватила паника, и они стали беспорядочно отступать по всем фронтам. Напрасно Кербога пытался их образумить. Страх — чувство, еще более заразительное, чем энтузиазм, и они бежали через горы, как олень, преследуемый сворой гончих. Осознав бесплодность дальнейших увещеваний, оба мусульманских военачальника последовали примеру своих солдат. Оставив почти семьдесят тысяч погибших на поле брани, громадная армия рассеялась по Сирии, Месопотамии и Палестине.
Лагерь с обильными запасами зерна и стадами овец и коров достался неприятелю. Найденные в нем драгоценности, золотые монеты и дорогие бархатные ткани крестоносцы поделили между собой. Танкред преследовал беглецов в горах и награбил не меньше тех, кто остался в лагере. Спасаясь бегством, мусульмане побросали множество ценных вещей и столько чистокровных арабских скакунов, что ни один рыцарь не остался без боевого коня. Потери крестоносцев в сражении при Антиохии составили около десяти тысяч человек.
Их возвращение в город было поистине триумфальным: крепость была сдана, и многие воины турецкого гарнизона приняли христианскую веру, а остальных предали смерти. Епископ Ле-Пюи отслужил благодарственный молебен, к которому присоединилась вся армия, и каждый солдат лично подошел к Святому Копью и принес ему дань уважения.
Ликование длилось несколько дней, и армия шумно требовала вести ее к Иерусалиму — конечной цели крестового похода, однако на данном этапе ни один из ее предводителей этого не хотел. Более благоразумные (Готфрид и Танкред) считали, что в существующих условиях продолжение похода было бы преждевременным, а более честолюбивых (графа Тулузского и Боэмунда) удерживали на месте собственные интересы. Между вождями вспыхнули ожесточенные распри. Как только Раймунд Тулузский, который не участвовал в сражении, а остался в Антиохии для обороны города, увидел, что осады со стороны Кербоги можно больше не опасаться, он потребовал сдачи крепости; другие вожди по возвращении обнаружили, что над ее стенами развевается его знамя. Это сильно оскорбило Боэмунда, который ранее выговорил себе княжение в Антиохии как первоочередную награду за взятие города. Его притязания поддержали Готфрид и Танкред, и после длительных пререканий флаг Раймунда был спущен с башни, а вместо него был поднят стяг Боэмунда, который с этого момента стал князем Антиохийским. Раймунд, однако, настаивал на сохранении за собой одних из городских ворот и прилежащих башен, что очень разозлило Боэмунда и всю армию. В итоге граф стал крайне непопулярной фигурой, хотя его властолюбие было ничуть не менее оправданным, нежели амбиции самого Боэмунда или Балдуина, который в свое время поселился в Эдессе и стал ее первым графом.
Участь Петра Варфоломея заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Став после истории с копьем весьма уважаемой и почитаемой персоной, он счел своим долгом не останавливаться на достигнутом и продолжить череду сообщений о видениях, обеспечивших ему столь солидную репутацию. Ненадежность избранного этим монахом способа самоутверждения заключалась в том, что у него, как и у многих других лгунов, была очень плохая память, и его истории порой явно противоречили друг другу. Однажды ночью ему явился св. Иоанн и рассказал одно, а неделю спустя св. Павел поведал совсем другое и пообещал то, что никак не вязалось с посулами его собрата-апостола. Люди той эпохи были исключительно легковерными, и расхождения в рассказах Петра были, по всей видимости, действительно вопиющими, если те, кто в свое время поверил в чудо Святого Копья, отказывались верить в новые чудеса. В конце концов Боэмунд, намереваясь досадить графу Тулузскому, потребовал, чтобы бедный Петр доказал правдивость истории о копье, пройдя ордалию394 огнем. Петр не мог отказаться от обычного для тех времен испытания, тем более что оно было одобрено графом и его духовником Раймундом. Ритуал был назначен на один из ближайших дней. В ночь перед ордалией Петр, следуя обычаю, молился и постился, а утром вышел со злополучным копьем наружу и смело приблизился к костру. Собравшаяся вокруг армия с нетерпением ожидала результата; многие крестоносцы по-прежнему верили, что копье подлинное, а Петр — праведник. После того как Раймунд Ажильский прочел надлежащие молитвы, Петр вошел в огонь. Когда он уже почти прошел сквозь него, боль лишила его присутствия духа. Пламя, помимо прочего, поразило глаза, и, будучи не в силах терпеть мучения и не осознавая своих действий, он развернулся и снова прошел через огонь, вместо того чтобы выйти из него. В результате несчастный получил настолько сильные ожоги, что спасти его было невозможно, и, протянув еще несколько дней, он скончался в страшных муках.
Большинство солдат страдало от ран, болезней и переутомления, и Готфрид — негласный предводитель крестоносцев — решил, что, прежде чем идти на Иерусалим, армия должна отдохнуть. Был июль, и герцог предложил переждать жаркие август и сентябрь в стенах Антиохии и, восстановив силы и пополнив ряды новобранцами из Европы, продолжить поход в октябре. В конечном итоге этот совет был принят, хотя наиболее фанатичная часть войска, недовольная промедлением, продолжала роптать. Тем временем в Константинополь было отправлено посольство во главе с графом Вермандуа, чтобы выразить императору Алексею возмущение его подлым отступничеством от общего дела и заставить его прислать обещанные подкрепления. Граф добросовестно выполнил поручение (на которое Алексей, кстати, никак не отреагировал) и какое-то время оставался в столице Византии, пока его стремление в Святую землю, которое никогда не было особенно сильным, не улетучилось окончательно. Устав от крестового похода и решив больше в нем не участвовать, он сел на корабль и вернулся во Францию.
Несмотря на то что вожди решили остаться в Антиохии еще на два месяца, они не могли так долго ничего не предпринимать. Не будь в Сирии и Месопотамии турок, нападая на которых христианские военачальники давали выход своей запальчивости, они, по всей вероятности, напали бы друг на друга. Готфрид отправился в Эдессу, чтобы помочь своему брату Балдуину выгнать сарацин из его владений; самостоятельные вылазки против них совершали и другие движимые своенравием или властолюбием вожди. Наконец нетерпение стремившейся к Иерусалиму армии стало настолько сильным, что дальнейшее промедление грозило взрывом недовольства, и тогда Раймунд, Танкред и Роберт Нормандский выступили со своими отрядами в поход и обложили небольшой, но хорошо укрепленный город Маарру. Не прошло и недели с начала осады, как из-за присущей крестоносцам расточительности имевшиеся у них съестные припасы иссякли. В результате им вновь пришлось искать продовольствие на стороне и терпеть лишения до тех пор, пока Боэмунд не пришел им на помощь и не взял крепость штурмом. В связи с осадой Маарры Раймунд Ажильский рассказывает легенду, в правдивости которой он искренне убежден. Эта история, на которой основан один из самых красивых фрагментов поэмы Тассо, достойна внимания читателя как отражение духа времени и источник удивительной храбрости, которую проявляли крестоносцы в экстремальных ситуациях. «Однажды, — пишет Раймунд, — Ансельм де Рибомон увидел, как к нему в палатку вошел юный Энгельрам — сын графа де Сен-Поля, убитый у стен Маарры. “Как же случилось, — спросил его Ансельм, — что ты, погибший в бою на моих глазах, жив?” “Ты должен знать, — ответил Энгельрам, — что те, кто сражается за Иисуса Христа, не умрут никогда”. “Но откуда, — продолжал Ансельм, — исходит то необычное сияние, что тебя окружает?” И тогда Энгельрам показал на небо, и Ансельм, подняв глаза, увидел дворец из алмазов и хрусталя. “Оттуда, — сказал Энгельрам, — черпаю я красу, удивляющую тебя. Сие моя обитель, а еще более дивное жилище уготовано тебе, и ты скоро придешь, дабы в нем поселиться. Прощай, завтра свидимся вновь!” С этими словами Энгельрам вернулся на небеса. На следущее утро потрясенный видением Ансельм послал за священником, причастился и, несмотря на то что был совершенно здоров, попрощался с друзьями, сказав им, что скоро покинет сей мир. Когда несколько часов спустя вражеские солдаты сделали вылазку, Ансельм вступил с ними в бой с мечом в руке и был сражен камнем из турецкой пращи, который попал ему в лоб и отправил на небеса, в уготованный ему прекрасный дворец».
Захват Маарры вызвал новые разногласия между князем Антиохийским и графом Тулузским, которые были с величайшим трудом улажены другими вождями. Вновь имели место задержки продвижения армии. Особенно длительная из них произошла у Аркаса, и солдаты были настолько озлоблены, что собирались выбрать новых предводителей, которые повели бы их на Иерусалим. Вследствие этого Готфрид поджег свой лагерь у Аркаса и выступил в поход. К нему тотчас присоединились сотни провансальцев графа Тулузского. Последний, видя, какой оборот приняли дела, поспешил за ними, и все войско проследовало к Священному городу, который так долго манил крестоносцев даже во время лишений и опасностей. У Эммауса395 они встретились с делегацией христиан Вифлеема396, уповавших на скорейшее избавление от угнетения со стороны ненавистных язычников. Само слово «Вифлеем», название родины их Спасителя, звучало для крестоносцев как музыка, и многие из них плакали от радости при мысли о приближении к столь священному месту. Альберт из Экса пишет, что их воодушевление было таково, что в лагере никто не спал и что вместо того, чтобы тронуться в путь на рассвете, они, полные надежды и энтузиазма, выступили незадолго до полуночи. Более четырех часов легионы одетых в кольчуги крестоносцев неустанно продвигались сквозь тьму, и когда солнце озарило безоблачное небо, они увидели башни и бельведеры Иерусалима. Эта панорама привела их в умиление, и, превратившись из жестоких фанатиков в смиренных паломников, они становились на колени и со слезами на глазах кричали друг другу: «Иерусалим! Иерусалим!» Одни целовали священную землю, другие, желая максимально соприкоснуться с ней, ложились на нее в полный рост, а третьи громко молились. Женщины и дети, покинувшие Европу и разделившие с воинами все опасности, тяготы и лишения, выражали радость более бурно; первые — благодаря долго лелеемому религиозному пылу, а вторые — из обычного подражательства397. То, как они молились, плакали и смеялись, едва не заставляло краснеть их более сдержанных попутчиков.
Когда утихла первоначальная радость, армия подошла к городу и окружила его со всех сторон. Почти сразу же начался штурм, но после того, как христиане потеряли несколько самых доблестных рыцарей, они отказались от поспешных действий и стали готовиться к осаде по всем правилам. В сжатые сроки были изготовлены осадные орудия: камнеметные машины, передвижные башни, тараны и так называемая «свинья»398 — покрытый сыромятными кожами деревянный туннель, служивший укрытием тем, кто делал подкоп под стеной. Чтобы укрепить боевой дух и войсковую дисциплину, изрядно ослабленные низменными ссорами вождей, последние прилюдно помирились, пожав друг другу руки, а Танкред и граф Тулузский даже обнялись. Устранить разногласия помогло духовенство, которое горячо ратовало за единение и всепрощение. Кроме того, священники организовали торжественную процессию вокруг города, в которой приняла участие вся армия. При этом во всех местах, которые крестоносцы, руководствуясь евангелиями, считали наделенными особенной святостью, возносились молитвы.
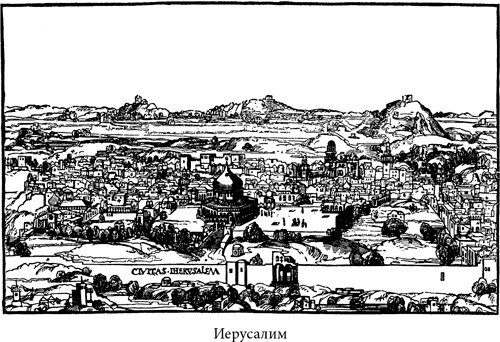
Вся эта активность нисколько не пугала осажденных сарацин. Чтобы как можно сильнее оскорбить презираемых ими христиан, они сколотили примитивные кресты и, закрепив их на стенах, оплевывали и забрасывали их грязью и камнями. Крестоносцев так разгневало поругание символа их веры, что храбрость уступила место свирепости, а воодушевление — безумию. Когда были готовы все осадные орудия, армия возобновила штурм, и каждый ее солдат сражался с решимостью, которую неизменно вызывает чувство личной обиды. Оскорблены были все без исключения, и родовитые рыцари налегали на тараны наравне с пехотинцами. На них обрушивался град стрел и зажигательных снарядов, но удары таранов по-прежнему сотрясали стены, а в это время самые меткие лучники и арбалетчики крестоносного войска, находившиеся на нескольких ярусах передвижных башен, энергично сеяли смерть среди турецкого гарнизона. Расположившись каждый на своей башне, Готфрид, Раймунд, Танкред и Роберт Нормандский часами сражались с неослабевающей энергией, часто встречая достойный отпор, но всегда готовые к возобновлению схватки. Поняв, что имеют дело с серьезным противником, турки оборонялись с величайшим умением и мужеством, пока наступившие сумерки не вынудили крестоносцев приостановить штурм до утра и вернуться в лагерь. В ту ночь христиане спали очень мало. Группы солдат сосредоточенно внимали священникам, служившим торжественные молебны о триумфе креста в последнем великом сражении; и как только наступил рассвет, все были готовы к бою. Женщины и дети оказывали сражающимся посильную помощь. Так, последние бесстрашно бегали туда-сюда под стрелами мусульман, принося воду мучимым жаждой бойцам. Христиане верили, что им помогают святые, и армия, вдохновленная этой мыслью, преодолевала трудности, под тяжестью которых втрое большее, но лишенное означенной веры войско пало бы духом и было бы разбито. Наконец отряд Раймунда Тулузского ворвался в город с помощью лестниц, и в ту же минуту люди Танкреда и Роберта Нормандского взломали одни из ворот. Турки бросились заделывать брешь, и Готфрид Бульонский, видя, что на стене осталось сравнительно мало защитников, спустил со штурмовой башни дощатый мостик и ринулся вперед, а за ним последовали все его рыцари. Мгновение спустя над стенами Иерусалима реял флаг с крестом. Издав еще раз свой грозный боевой клич, крестоносцы устремились в атаку со всех сторон, и город был взят. Несколько часов продолжались ожесточенные уличные бои, и христиане, помня об оскорблении своей веры, не щадили даже стариков, женщин и больных. Ни один из их предводителей не счел себя вправе отдать приказ о прекращении резни, а если бы такой приказ и прозвучал, ему бы никто не подчинился. Огромное число сарацин сбежалось в мечеть халифа Омара; но прежде чем они успели укрепить ее, на них напали христиане. Сообщается, что только в одном этом здании было убито около десяти тысяч мусульман.
Петр Пустынник, которого так долго окутывала пелена забвения, был в тот день вознагражден за все свое рвение и все свои страдания. Как только прекратились уличные бои, жившие в Иерусалиме христиане вышли из укрытий, дабы приветствовать своих освободителей. Они немедленно узнали в Пустыннике пилигрима, который годами ранее столь красноречиво напоминал им о тех унижениях и невзгодах, которые они тогда претерпевали, и обещал поднять на их защиту владетельных князей и простолюдинов Европы. В пылу благодарности они припадали к подолу его одежды и клялись молиться за него по гроб жизни. Многие из них лили слезы у него на плече и приписывали освобождение Иерусалима исключительно его доблести и упорству. Впоследствии Петр занимал в Священном городе какой-то церковный пост, но что это была за должность и какова была дальнейшая судьба амьенца, история умалчивает. Некоторые авторы полагают, что он вернулся во Францию и основал монастырь, однако данное утверждение не является достаточно обоснованным.
Грандиозная цель, ради которой сонмы европейцев покинули свои дома, была наконец достигнута. Иерусалимские мечети были превращены в церкви «истинной веры», а Голгофа и Гроб Господень больше не осквернялись присутствием и владычеством «язычников». Массовое неистовство выполнило свое предназначение и после этого, естественно, пошло на спад. Узнав о взятии Иерусалима, из Европы отправилось в путь множество новых паломников, в числе которых были стремившиеся искупить грех измены Стефан, граф Блуа и Шартра, и Гуго Вермандуа, но это был лишь отголосок прежнего энтузиазма399.
На этом заканчивается история Первого крестового похода. Для лучшего понимания читателем рассказа о Втором необходимо описать временной интервал между ними: совершить краткий экскурс в историю Иерусалима под властью королей-латинян, поведать о затяжных войнах, которые они вели против непокоренных сарацин, и сообщить о скудных, если не сказать ничтожных, результатах столь масштабных и кровопролитных кампаний.
Вскоре после овладения Иерусалимом крестоносцам потребовался признанный лидер, которого они могли бы называть своим королем, и Готфрид Бульонский, менее властолюбивый предводитель, чем Боэмунд или Раймунд Тулузский, неохотно согласился взойти на престол400, столь желанный для последних. Не успел он надеть королевскую мантию, как узнал, что к столице его королевства движется армия сарацин. Не обделенный решимостью и рассудительностью, он постарался развить достигнутый военный успех и, выступив в поход, чтобы сразиться с врагом, прежде чем тот успеет осадить Иерусалим, дал мусульманам бой у Аскалона401 и нанес им сокрушительное поражение. Ему, однако, было не суждено долго наслаждаться своим новым титулом: процарствовав всего девять месяцев, он умер от неизлечимой болезни. Ему наследовал его брат, Балдуин Эдесский402. Этот монарх многое сделал для усиления Иерусалимского королевства и расширения его территории403, но был не в состоянии обеспечить спокойное правление своим преемникам. Первые пятьдесят лет существования этого государства, представляющие большой интерес для студента-историка, крестоносцы постоянно воевали, часто выигрывая сражения и захватывая новые земли, но столь же часто терпя поражения и теряя завоеванное. При этом они с каждым днем становились все слабее и разобщеннее, в то время как сарацины, стремившиеся измотать и уничтожить своих заклятых врагов, делались все сильнее и сплоченнее. Битвы того периода носили в высшей степени рыцарственный характер, и несколько осевших в Сирии рыцарей совершили подвиги, едва ли имеющие аналоги в истории войн. С другой стороны, с течением времени христиане не могли не почувствовать уважения к храбрости сарацин и восхищения их изысканными манерами и относительно высоким уровнем развития, весьма выгодно отличавшимися от грубости и полуварварского состояния тогдашних европейцев. Разница в вероисповедании не смогла удержать их от брачных союзов с темноглазыми девами Востока. Одним из первых женился на сарацинке сам король Балдуин, и со временем среди тех рыцарей, которые решили поселиться на Востоке, такие браки стали не просто частыми, а почти поголовными. Тем не менее перед бракосочетанием с христианами девушкам-мусульманкам приходилось подвергаться обряду крещения. Естественно, что их мужья и дети не так ненавидели сарацин, как те фанатики, которые в свое время покорили Иерусалим и считали, что пощадить иноверца — значит совершить грех, заслуживающий кары Божьей. Вследствие этого при более поздних иерусалимских королях в самых кровопролитных сражениях участвовали те христиане, которые недавно прибыли из Европы, надеясь прославиться или повинуясь фанатизму, и еще не успели обжиться. Они не колеблясь нарушали перемирия, заключенные между поселенцами и сарацинами, и навлекали суровое возмездие на многие тысячи единоверцев, благоразумие которых преобладало над религиозной нетерпимостью и чьим основным желанием было мирное сосуществование.
Эта неутешительная картина имела место до конца 1144 года, когда Эдесса, мощный форпост христиан у северо-восточной границы их владений, была отвоевана сарацинами. Последними командовал эмир Мосула Имад-ад-дин Зенги, могущественный и хитрый монарх, которому после смерти наследовал его сын Нур-ад-дин (Нуреддин), не уступавший отцу во влиятельности и коварстве. Граф Эдесский предпринял попытку вновь овладеть крепостью, но Нуреддин с большой армией пришел осажденным на помощь, разбил графа наголову, вошел в Эдессу и приказал сровнять с землей ее укрепления, чтобы этот город больше никогда не был оплотом Иерусалимского королевства. Дорога на столицу последнего была теперь открыта, и христиан обуял ужас. Они знали, что Нуреддин ждет лишь благоприятной возможности для выступления к Иерусалиму, а ослабленные и разобщенные крестоносные армии были неспособны дать ему сколько-нибудь достойный отпор. Духовенство, снедаемое печалью и тревогой, неоднократно писало папе и государям Европы, убеждая их в целесообразности нового крестового похода для поддержки защитников Иерусалима. Львиную долю палестинских священников составляли французы, которые, разумеется, уповали в первую очередь на соотечественников. Просьбы о помощи, которые они слали Людовику VII, были частыми и настоятельными, и рыцарство Франции вновь заговорило о необходимости защиты родины Иисуса. Европейские короли, предшественники которых не участвовали в крестовом походе из-за того, что это не входило в их планы, начали себя к этому побуждать. Сверх того, нашелся человек, который, обладая красноречием Петра Пустынника, вдохновил простой народ, как это сделал до него амьенский проповедник.
Мы, однако, обнаруживаем, что энтузиазм населения Европы в отношении Второго крестового похода был слабее оного в связи с Первым. Фактически крестоносная мания достигла высшей точки во времена Петра Пустынника и с тех пор неизменно шла на убыль. Третий крестовый поход уступал в массовости Второму, Четвертый — Третьему, и так далее; и в конце концов стремление европейцев в Святую Землю сошло на нет, а Иерусалим перешел к своим прежним хозяевам, что не вызвало в христианском мире никакого потрясения. Существуют различные гипотезы о причинах этого явления. Самая расхожая из них гласит, что Европе надоели вражда с Востоком и «натравливание на Азию». Месье Гизо404 в своих замечательных лекциях по истории европейской цивилизации подвергает этот аргумент справедливой критике и приводит собственный, гораздо более убедительный. В его восьмой лекции говорится следующее: «Согласно распространенному мнению, Европа устала от неоднократных вторжений в Азию. Данное утверждение кажется мне крайне ошибочным. Люди не устают от того, чего они не делают, и их не изнуряют деяния предков. Утомление — ощущение приобретаемое, а не наследуемое. Европейцев тринадцатого столетия не утомили крестовые походы двенадцатого — просто у них были иные устремления. Значительно изменились воззрения, мироощущение и условия жизни. Былые желания, нужды и идеалы остались в прошлом. Люди отказывались верить в то, в чем их прародители были убеждены».
Это скорее всего и есть причина происшедших перемен. Данный вывод становится еще более очевидным при изучении истории крестовых походов и сравнении массовых умонастроений тех периодов, когда предводителями крестоносцев были Готфрид Бульонский, Людовик VII и Ричард I. Сами крестовые походы вызвали кардинальные изменения национальных приоритетов и в значительной мере способствовали развитию европейской цивилизации. Во времена Готфрида дворянство было всевластным и всеугнетающим и одинаково раздражало королей и податные сословия. Находясь в изоляции от этой наиболее невежественной и суеверной общественной прослойки, и короли и простолюдины боролись с деспотизмом аристократии и по мере освобождения делались цивилизованнее. Именно в ту пору во Франции — стране, где крестоносное безумие приняло наибольшие масштабы, — начали набирать силу коммуны405, а монарх стал приобретать реальную власть. Жизнь становилась безопаснее и комфортабельнее, поэтому в период агитации за Второй крестовый поход люди испытывали гораздо меньшее желание сниматься с насиженных мест, чем их предки, которым проповедовали Первый. Пилигримы возвращались из Святой Земли, придерживаясь более либеральных взглядов и обладая более широким кругозором, чем в то время, когда они туда отправлялись. В местах паломничества они столкнулись с цивилизацией, более развитой, нежели их собственная, больше узнали об окружающем мире и, пусть не до конца, но в какой-то мере избавились от предрассудков и порожденного невежеством фанатизма. Позитивное влияние оказал и рыцарский кодекс чести, который, успешно выдержав испытание крестовым походом, значительно облагородил нравы аристократов. Труверы406 и трубадуры407, воспевая любовь и ратные подвиги рыцарей в стихах, приятных всем сословиям, способствовали искоренению мрачных суеверий, которые во времена Первого крестового похода питали, независимо от степени здравомыслия, практически все европейцы. Вследствие этого люди уже не столь рабски внимали увещеваниям церковников и были гораздо самостоятельнее в принятии решений.

