III

Сменяют одна другую безликие явки, следом тянутся длинной чередой полные окурков пепельницы. Гостиничные номера с непременным континентальным завтраком превращаются во взятые напрокат автомобили. Города, людные, грязные, задымленные, распускаются, точно ядовитые цветы. Волны толпы становятся щупальцами гигантского спрута с присосками в виде ботинок, брюк, пиджаков, лиц. Человек входит в лифт, прыгает в такси, ныряет в метро. Это может быть кто угодно. Но внимательный наблюдатель заметит, что он не ходит посреди тротуара, а держится у стен, защищая левый бок. То и дело поглядывает в стекла, следит за отражениями города. Он бывает только там, где много народу. Плывет в толпе, невозмутимый и бдительный. В баре он выбирает столик поближе к запасному выходу. Появляется другой человек, тоже самый обыкновенный на вид, но с таким же настороженным взглядом. Садится рядом с первым. Оба потягивают джин с имбирным тоником, грызут орешки и не сводят глаз с входной двери.
— Что-то у меня с головой неладно, я все время считаю про себя. Днем считаю машины, прохожих, туристов, всех, кто кажется мне подозрительными. Не меньше сотни насчитываю. Вечером, когда я один, все равно считаю: два кресла, четыре стакана, десятая страница газеты, двенадцать часов десять минут. Тони, я, кажется, схожу с ума, как Джек!
— Расслабься. Не с тобой первым такое случается. Ты устал. Два года не был в отпуске.
— Да не могу я взять отпуск! Стоит мне остановиться, я впадаю в депрессию! Это еще хуже, чем сходить с ума.
— Не мучай себя. Ты сильный, выдержишь.
— Как это выдержать?
— Хороший вопрос. Не знаю, Билл. Раньше знал, а теперь не знаю. Но я-то ведь выдержал.
— Есть новости про Джека?
— Он в психиатрической больнице. Ему лучше. Вниз не смотри. Подними голову, гляди на небо. Так не закружится голова.
— Небо… Вся моя жизнь проходит в небе, в утробах летучих гробов… Однажды я просто не вернусь на землю.
На другом конце зала кто-то уронил вилку. Нагибается за ней. Когда выпрямляется, в руке у него пистолет. Гром выстрелов, звон разбитого стекла. Билл стонет и открывает глаза. Убийца исчез. Он слышит мерный гул и узнает шум двигателей летящего самолета. Это был просто кошмарный сон.
Билл Каплан встает, быстрым взглядом окидывает салон. Ничего необычного. Ни одного тревожного знака. Он идет в туалет умыться. Щелкает засов, загорается свет в кабинке, и зеркало отражает его покрытый испариной лоб. Кивком головы он приветствует себя нынешнего. Плещет в лицо водой, машинально повторяя про себя дату рождения Джонатана Джулиана, руководителя проекта компании программного обеспечения. Опускается на унитаз, продолжая припоминать подробности своей биографии, анкетные данные родителей, даты их рождения и смерти. Мысленно проходит весь свой путь — в учебе, в профессии, в «Земном Мандате».
Вернувшись в салон, он обводит взглядом лица пассажиров, начинает вспоминать свои разговоры с Аямэй.
В проходах, катя перед собой тележки, появляются стюардессы. Хорошенькая смуглая девушка с раскосыми глазами улыбается ему. Он читает имя на бейджике: Линда. У нее кошачья фигурка, а ягодицы, наверно, похожи на два спелых манго.
Двадцать минут спустя, стоя у автомата с напитками, Линда рассказывает Биллу Каплану свою жизнь.
Линда, а знаешь ли ты, что перед тобой человек, которому случалось убивать? — мысленно обращается он к ней, а вслух так и сыплет шутками. Она смеется.
Линда, знаешь ли ты, что, заигрывая с тобой, я даю себе короткую передышку между осточертевшими упражнениями памяти, которую я должен ежедневно тренировать? Знаешь ли ты, что я забываюсь и расслабляюсь, глядя на твою белозубую улыбку?
Линда отрывает клочок салфетки, пишет на нем номер мобильного телефона и название отеля, в котором будет ночевать. Билл Каплан прячет его во внутренний карман пиджака. Сделав несколько шагов по проходу, оборачивается. Она улыбается ему.
Линда, знаешь ли ты, что твоя улыбка адресована незнакомцу, который подарит тебе два часа своей жизни и канет навеки?
Билл Каплан возвращается к ней.
— My name is Peter Schwab.
— Good bye, Peter, see you tonight.
* * *
Пекин. Белая «тойота» едет по третьему кольцу.
— Bill, you look terrific!
— I’ve been doing some meditation.
— И как? Помогает?
— Неплохо, чтобы проветрить голову. Как поживает Хелен?
— Она ушла от меня полгода назад. Вернулась в Бостон.
— Извини.
— Ты же знаешь Хелен, она хотела детей, собак, домик за красивой белой оградой. Я еще не готов выйти в отставку.
— У нас с Изабеллой была та же проблема.
— Не бери в голову. Я сплю с китаянкой в Пекине, с австралийкой в Шанхае, с кореянкой в Харбине, с англичанкой в Гуандуне. Помнишь, что ты сказал мне, когда от тебя ушла Изабелла?
— Нет, Джон, не помню.
— «Мы слишком свободны, чтобы отказаться от свободы».
— Я так сказал? Четыре года назад я, однако, был оптимистом! Надо же, думать, будто мы свободны!
— Ты жалеешь об Изабелле?
— Жалею ли? Сам не знаю. Такие люди, как я, живут одним днем. Сожаление — это слишком благородное чувство. Я его не заслуживаю.
— Ты изменился, Билл. Прежде ты не был так суров к самому себе.
— Когда Джек сломался, я был рядом. Он бросался на прохожих и кусал их, то еще было зрелище. Как можно уважать себя, зная, что в один прекрасный день кончишь, как он?
— Я слышал, его выписали из больницы три недели назад. Жена ухаживает за ним. Он не скучает. Целыми днями строит домики из спичек и разрушает их вечером.
— Наверно, он счастливее нас.
— Это одному Богу известно. Ты сейчас откуда?
— Из Куала-Лумпура.
— Сколько пробудешь в Пекине?
— Меньше суток. Сейчас уже суббота. Я должен вылететь из Пекина завтра на рассвете — Сингапур, Куала-Лумпур и Париж. В понедельник утром надо быть на работе.
— Радуйся, что есть я. Кто еще согласится устроить тебе такой вояж? Контора в курсе?
— Конечно нет. Пока бы я подал запрос, пока бы они его рассмотрели и в итоге все равно отказали бы, сам знаешь, как это делается… Когда инициатива исходит не от них, они все принимают в штыки. Просто чтобы тебе жизнь медом не казалась и чтобы показать, что решают они.
— Век бы их не видеть. Просиживают штаны в кабинетах и играют в компьютерные игры между телефонными конференциями. А мы здесь вкалываем, здесь и подохнем. Совсем недавно я потерял трех своих людей. Китайцы послали специалистов по боевым искусствам, те били их в адамово яблоко, а потом выбросили из окна — все чисто, самоубийство. Теперь ты понимаешь, почему я отпустил Хелен. Ну не мог я ее удерживать.
— Ты по-прежнему работаешь с Триадами?
— С кем я только не работаю! И конца этому не видно! После «холодной войны» — звездные войны. Сражаться надо со всеми — с исламистами, с крестными отцами, с промышленными супершпионами и, конечно, с «кротами».
— Осади назад, Джон, не надо спешить на тот свет.
— Да, тут ты прав. Я всегда спешу. Это плохо. Вот, возьми, это цветные контактные линзы, а на голову надень бейсболку. Снимать ее не надо. В этом году все китайские кинозвезды носят такие на пресс-конференциях. Мода. Держи обручальное кольцо, надень на палец. Вот твоя визитная карточка. При встрече с китайцем всегда обмениваются визитными карточками, это церемония. С тех пор как ты уехал в Европу, ничего не изменилось.
— «Кристофер Лизард, продюсер. Две тысячи один, десять тысяч семьсот семьдесят, Уилшир-бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния девяносто-ноль-двадцать четыре». Лизард? Терпеть не могу ящериц.
— Извини, мне иной раз не хватает фантазии. Меня зовут Джордж Бургер, я твой ассистент. Как только я увидел его, мне стало ясно, что с этим типом надо идти напролом. Я сказал ему, что ты — независимый продюсер, делаешь документальный фильм о Тяньаньмынь. Заверил, что это ему ничем не грозит: его мы снимать не станем. Его имя нигде не будет упомянуто. Нам нужно только, чтобы он рассказал об Аямэй. Он на все согласился.
— Как его английский?
— Ничего, лопочет бойко. А ты-то не забыл китайский?
— Нет… еще не забыл.
— Этот твой тип — первый строительный подрядчик в Пекине. Сам увидишь, в его кабинете стены из чистого золота! У богатых китайцев всегда дурной вкус. Ты готов? Его офис на двадцатом этаже. Я заеду за тобой в отель в семь часов, прокатимся по Пекину.
— Thanks! — говорит Джонатан, хлопнув по плечу своего бывшего напарника.
* * *
235, улица Вечного Спокойствия.
Золоченые перила, сияющее зеркало, розовый мрамор. Освещение в лифте меняется на каждом этаже; наконец двери бесшумно открываются. Гигантский феникс раскинул золотые крылья над внушительной стойкой ресепшена, за которой сидят рядком семь прехорошеньких китаянок в наушниках и с микрофонами.
— 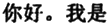 Кристофер Лизард
Кристофер Лизард 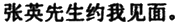 (Добрый день, я Кристофер Лизард, у меня встреча с господином Чжан Ином.)
(Добрый день, я Кристофер Лизард, у меня встреча с господином Чжан Ином.)
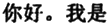 Кристофер Лизард
Кристофер Лизард 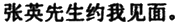 (Добрый день, я Кристофер Лизард, у меня встреча с господином Чжан Ином.)
(Добрый день, я Кристофер Лизард, у меня встреча с господином Чжан Ином.)— 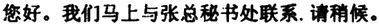 (Добрый день, мы сейчас свяжемся с секретариатом господина председателя. Будьте любезны, подождите.)
(Добрый день, мы сейчас свяжемся с секретариатом господина председателя. Будьте любезны, подождите.)
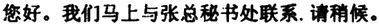 (Добрый день, мы сейчас свяжемся с секретариатом господина председателя. Будьте любезны, подождите.)
(Добрый день, мы сейчас свяжемся с секретариатом господина председателя. Будьте любезны, подождите.)Одна из девушек провожает его в угол, где стоят кресла и диванчики.
Десять минут спустя лакированная дверь отъезжает в сторону. На пороге появляется еще одна китаянка в форменном костюме.
— 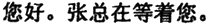 (Добрый день. Председатель Чжан ждет вас.)
(Добрый день. Председатель Чжан ждет вас.)
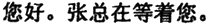 (Добрый день. Председатель Чжан ждет вас.)
(Добрый день. Председатель Чжан ждет вас.)Следом за своей провожатой Кристофер идет по тихому коридору под надзором многочисленных камер видеонаблюдения. Справа и слева обитые кожей двери чередуются с фотографиями небоскребов на щитах двухметровой высоты. Он входит в еще один лифт, обшитый черным деревом, который трогается после того, как китаянка набирает код.
Двери открываются. Он выходит в просторное помещение, залитое странным радужным светом. Свет идет из трех источников: кроме окна шириной метров двадцать и высотой пять, светятся золотые стены и четыре хрустальные люстры, висящие в ряд под потолком. Человек за письменным столом говорит по телефону; стол непростой: танцовщицы в национальных китайских одеяниях — из бронзы с эмалью — поддерживают тяжелую мраморную столешницу. Председатель Чжан — маленький, хлипкий, в полосатом костюме и фиолетовом галстуке, с желтым платочком в кармане. Напомаженные волосы аккуратно причесаны на прямой пробор. Очки в золотой оправе, темные круги под раскосыми глазами и тонкие усики в стиле бель-эпок над женственным ртом. Повесив трубку, он направляется к Кристоферу Лизарду. Протягивает ему руку.
— I’m Zhang Ying, — говорит он на хорошем английском. — Nice to meet you.
— 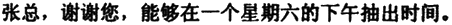 (Спасибо, господин председатель, что приняли меня, тем более во второй половине дня в субботу.)
(Спасибо, господин председатель, что приняли меня, тем более во второй половине дня в субботу.)
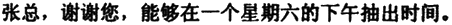 (Спасибо, господин председатель, что приняли меня, тем более во второй половине дня в субботу.)
(Спасибо, господин председатель, что приняли меня, тем более во второй половине дня в субботу.)Услышав, что иностранец знает его язык, Чжан Ин широко улыбается и переходит на китайский:
— Я всегда работаю по субботам и воскресеньям. Конкуренция в нашей отрасли очень жесткая.
Чжан Ин достает из внутреннего кармана золотую коробочку, извлекает из нее визитную карточку и протягивает Джонатану; тот в ответ вручает свою. Покончив с протоколом, мужчины усаживаются в кресла друг против друга.
— Господин председатель, спасибо, что согласились сотрудничать с нами. Поверьте, я восхищен вашим мужеством. Согласно вашей договоренности с моим ассистентом, я не взял с собой ни блокнота, ни магнитофона. Все, что вы мне скажете, останется между нами.
— Вы превосходно говорите по-китайски. Мои поздравления. Тайбэйский университет?
— Извините за акцент.
Чжан Ин снисходительно улыбается.
— Задавайте ваши вопросы. На что смогу, отвечу. Только прошу заранее простить, у меня мало времени. Следующая встреча через полчаса.
— Полчаса мне хватит. Спасибо. Мой ассистент вам уже все объяснил. В репортаж, который я делаю, мне хотелось бы поместить портрет Аямэй. Показать ее не как политическую фигуру, но как китаянку, свидетельницу эволюции Китая. Я знаю, что вы были с ней знакомы. Расскажите мне немного о ней.
— Вы хорошо осведомлены, раз нашли меня. Это она вам обо мне рассказала?
— Она рассказала мне о вашем брате, Мине.
— Что будете пить? Коньяк? Виски? Или предпочитаете кока-колу, кофе, чай?
— Чай, пожалуйста.
Ин встает, звонит по телефону, распоряжается. Достает из ящика стола фотографию.
— Слева Минь, мой младший брат.
Бумага пожелтела. Снимок сделан в студии. На нем стоит дата: 1 июня 1980. Два мальчика. У обоих почти наголо обритые головы. На них белые рубашки и красные галстуки юных пионеров. Справа Ин, без очков, улыбается так широко, что узкие глаза и вовсе превратились в две щелочки. У Миня большие уши. Лицо напряжено. Глядя на него, так и слышишь треск вспышки и голос фотографа: «Улыбнитесь!» Глаза Миня пристально смотрят на Кристофера Лизарда — он же Джонатан Джулиан, он же Билл Каплан. Мальчик как будто хочет поведать ему свою короткую жизнь.
— Вы можете рассказать мне о вашем брате?
Чжан Ин берет в руки фотографию, смотрит на нее.
— Мои родители — инженеры. Когда мы были детьми, они часто уезжали. Минь был на два года младше меня, и я очень рано стал сознавать свою ответственность старшего. Минь не слушался меня. После школы, вместо того чтобы делать уроки, он кропал стихи и малевал картинки. Учился он из рук вон плохо, всегда был последним в классе. В восемьдесят втором году родители решили отдать нас в лицей Восходящего Солнца. Там я и встретил Аямэй в первый раз…
Звонит телефон, Ин вскакивает.
— Извините!
Через три минуты он вешает трубку и снова садится в кресло.
— На чем я остановился?
— Лицей Восходящего Солнца.
— С восемьдесят третьего года я впервые рассказываю эту историю. Двадцать два года прошло…
В дверь стучат. Молодая женщина ставит чайный поднос на низкий столик.
— Чай с Высоких гор. Вы, конечно, знаете. Мой партнер прислал мне его с Тайваня.
Кристофер отпивает из крошечной чашечки.
— Превосходно!
— Лицей Восходящего Солнца готовил лучших учеников к национальному конкурсу для поступления в университеты. Родителям пришлось задействовать все свои связи, чтобы нас туда приняли. Учеников там заставляли заниматься по десять часов в день, а экзамены устраивали каждый месяц. Результаты вывешивались на большом стенде у входа. Мы подходили к этим спискам с замиранием сердца, на ватных ногах. Я готов был рвать на себе волосы, если не видел своего имени в первых строчках. Минь же никогда не обманывал ожиданий: его имя всегда стояло последним и было написано красными чернилами. Он приводил в отчаяние родителей, которым хотелось, чтобы мы пошли по их стопам и поступили в Цин Хуа, лучший политехнический университет в Китае. Даже в лицее Восходящего Солнца Минь продолжал лодырничать. Ясно было одно: он не только не поступит в Цин Хуа, но и вообще не пройдет национальный конкурс и останется без высшего образования.
Вдруг выражение лица Ина меняется, рука хватается за сердце. Из внутреннего кармана пиджака он достает вибрирующий мобильник. Отвечает на звонок, идет к столу, набирает номер на городском телефоне. Говорит одновременно с двумя собеседниками. Наконец возвращается.
— Извините. Миню было четырнадцать лет, конкурс ему предстоял через три года. Не мог же он наверстать упущенное в последний момент! Двенадцать учебников по всем предметам помножить на шесть лет средней школы, ему пришлось бы вызубрить целых семьдесят два! Я вас напугал своими подсчетами? А вы знаете, почему Китай так быстро развивается?
— Интересно. Скажите почему?
— В нашей стране мужчины и женщины с самого детства приучены к соревнованию. Когда я был ребенком, моим родителям приходилось бороться буквально за все: получить квартиру, купить три метра материи, позволить себе цветной телевизор, не говоря уж о повышении зарплаты, — это была битва не на жизнь, а на смерть. Я до сих пор помню интриги сослуживцев, в которых мои родители, слишком честные и запуганные, неизменно оказывались жертвами. Мама часто плакала. Отец выходил из себя по любому поводу, кричал и бил посуду. Мы были их надеждой на долгожданный реванш — а Минь надежд не оправдывал! Понимаете, в Китае все очень просто. Нас так много, что выбора нет: беги быстрее всех или сойдешь с дистанции.
Новый телефонный звонок прерывает его речь. Вернувшись, Ин продолжает:
— Аямэй носила две косы, была маленького роста, плотненькая. По дороге из лицея домой я часто видел ее с моим братом. Они катили рядом на велосипедах и говорили без умолку. Поначалу меня это радовало, Аямэй хорошо училась, ее имя всегда стояло в списках одним из первых. Однако оценки брата не стали лучше. Видя их все время вместе, ученики начали судачить. Сегодня жизнь в Пекине совсем другая. В лицее, где учится моя дочь, ученики на людях держатся за руки, я сам видел. А в наше время «отношения» между школьниками карались немедленным исключением…
Мобильный телефон издает короткий писк. Прервавшись, Ин жмет на кнопки, отправляет сообщение. И вновь возвращается к воспоминаниям:
— Вам это может показаться бесчеловечным… Но наше поколение воспитано в строгости. Для развлечения у нас было только кино про войну. Можно по пальцам одной руки пересчитать иностранные фильмы: советские, югославские, северокорейские. Нас учили мужеству, дисциплине и самопожертвованию. Никто и слыхом не слыхал о Фрейде, де Токвилле, Ницше. Нам говорили, что школьные правила придуманы для нашего блага, это подразумевало беспрекословное повиновение. Вот только один пример — дресс-код, как сказали бы сейчас: каждое утро у школьных дверей нас встречали дежурные с линейками и измеряли длину волос и ширину брюк каждого; при малейшем нарушении волосы немедленно подрезали, брюки тоже. Судите сами, какой скандал вызвали «отношения» моего брата с Аямэй!
Опять пищит телефон. Снова ответив сообщением, Ин продолжает:
— Их учитель поднял на ноги наших родителей и родителей Аямэй. Все выступили единым фронтом, чтобы разлучить двоих детей, посмевших преступить закон. Да что говорить, мы были какой-то другой породы. Это сегодня мы с женой потакаем любым прихотям нашего единственного ребенка. А в ту пору мои родители, как все родители в традиционных китайских семьях, были суровы и непреклонны. Несмотря на запрет, Минь и Аямэй продолжали встречаться, чем вызвали страшный гнев со стороны взрослых. Мои родители обратились в профсоюз с просьбой перевести их в провинцию. Мы переехали в городок на юге. Минь стал совсем чудным. Ни с кем не разговаривал, плакал без причины. Я то и дело бранил его, срывая досаду: ведь мне пришлось сменить лучший лицей в Китае на дерьмовую школу, и я боялся, что не пройду национальный конкурс.
На столе трезвонит телефон. Чжан Ин привстает, но тут же снова садится.
— Аямэй… эта девушка не давала мне покоя! Как я ненавидел ее за то, что она украла душу моего брата! Она рассказала вам, что произошло? У них правда были «отношения», если он решился умереть?
— Я думаю, они ничего такого не сделали.
— Не может быть. Почему же тогда он убил себя?
— Не знаю… Минь был такой ранимый… и они любили друг друга.
— Любовь? Ну конечно, вы ведь из Голливуда. Там на любовных историях делают деньги. Вы действительно верите, что у них была любовь, у четырнадцатилетних детей? Мне будет сорок в этом году, и я никогда не был влюблен — даже в мою жену. Вечно работа, перегрузки, бессонница. Любовь — это для животных: если они не пожирают друг друга, то любятся. У людей слишком сложно устроена голова: они любят деньги, власть, войну, секс, алкоголь…
Снова звонит телефон. Ин встает, снимает трубку, отдает короткий приказ и тут же вешает ее. Но не садится в кресло, а принимается расхаживать вокруг Кристофера.
— Однажды я включил телевизор и увидел Аямэй. Девочка, ставшая взрослой женщиной, пробудила во мне безмерную боль. Я расплакался при мысли, что, будь Минь жив, ему уже исполнилось бы двадцать лет. В следующие дни я записывал все выпуски новостей, где говорилось о ее действиях, и по ночам прокручивал пленки. В замедленном режиме высматривал перемены в ней. Я говорил себе, что Миню не понравились бы ее жесткий взгляд и хриплый голос. А потом я принял решение поговорить с ней.
Ин ослабляет узел галстука, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Снимает очки, протирает их платочком и снова водружает на нос.
— Один активист раздобыл мне пропуск, и я смог пройти через кордоны студентов в центр площади Тяньаньмынь. По памятнику Героям свободы струилась вода…
Настойчиво звонит мобильник. Ин смотрит на дисплей, отвечает:
— Я тебе перезвоню. Да… Нет, в восемнадцать тридцать в «Аромате рисовых полей». Когда доедете до перекрестка Дун Дань, сверните на восток. Езжайте по второму кольцу. У «Санлайта» поверните налево, на запад, через пять минут еще раз налево и сворачивайте в переулок, когда увидите красный фонарик на дереве. Все понятно? Руководители приедут в девятнадцать часов. Будь там вовремя. Я на десять минут опоздаю.
Он поворачивается к Кристоферу:
— Так на чем мы остановились? На постаменте стояла времянка, крытая железом, в ней укрывались от дождя лидеры движения. Я увидел Аямэй издалека. Она отвечала по-английски на вопросы иностранных журналистов. Вокруг тысячи голодающих студентов лежали прямо на земле на пластиковых пакетах. И до меня вдруг дошло, как я смешон. Самое время было спрашивать ее, почему Минь выбрал смерть! Так и не сказав ей ни слова, я ушел.
Городской телефон звонит, смолкает, надрывается снова. Ин снимает трубку.
— Как? Уже приехали? Пусть подождут меня. Еще две минуты.
Он опять поворачивается к Кристоферу Лизарду:
— Мне очень жаль, но я вынужден вас оставить. Важная сделка: мы покупаем участок земли рядом с Великой стеной под постройку восьми пятидесятиэтажных башен, самых роскошных в Северном Китае. Это будет комплекс с инфраструктурой: магазины, офисы, жилой массив.
— Спасибо. Ваше свидетельство очень ценно.
— Не стесняйтесь, звоните, если я вам еще понадоблюсь. Поскольку я знал, что вы придете сегодня, то кое-что для вас приготовил.
Он берет со стола кусок картона.
— Возьмите, отдайте этот рисунок Аямэй. Это ее портрет, написанный моим братом.
Акварельными красками изображена молодая девушка, сидящая на пороге. На ней белая рубашка и ярко-красная юбка, босые ноги лениво вытянуты. В руке она держит книгу, но не читает. Ее взгляд устремлен вдаль, где проступают смутные очертания города.
— Вы можете перевернуть рисунок… Видите? Здесь две надписи. Вот это почерк моего брата: «Аямэй не умеет позировать. Все время вертится, — чтобы она сидела на месте, приходится рассказывать ей сказки и петь песни». А в этом углу написала Аямэй: «От нас виден весь Пекин. Улицы словно гигантская паутина. На западе золотые крыши Запретного города, на востоке развалины Дворца вечной весны. Я вижу даже наш лицей и одноклассников, крошечных, как муравьи, на футбольном поле. Минь говорит, что этот мир внизу — открытая книга и, чтобы прочесть ее, надо забраться высоко, к самому небу».
Ин вздыхает:
— Отдайте это Аямэй. Вчерашний Китай умер вместе с Минем. Идемте, я покажу вам Китай сегодняшний.
За оконным стеклом колышется город под белесым задымленным небом. Паутина теперь не та, которую видела Аямэй подростком. Она обрела третье измерение и добралась до неба, цепляясь за башни-небоскребы, протянувшиеся, насколько хватает глаз. Кристофер тщетно ищет в этой безбрежности хоть одно цветное пятнышко. Этот мир соткан из серебристых линий, серых изгибов и миллионов приглушенно-черных пятен.
— Есть у меня одна мысль насчет причин смерти брата, — говорит Ин, будто бы заглядевшись на город. — Почему он отказался от будущего, когда всего-то и надо было немного потерпеть? Он стал бы писателем, или художником, или бизнесменом; женился бы на Аямэй… Минь был слабак. Он не выносил соревнования, потому и покончил с собой. — Ин поворачивается к Кристоферу. — У них родился бы ребенок. Мы бы все вместе встречали Новый год… Ладно… какой смысл жалеть. Минь выбрал удел дезертира, а я — образцового солдата. Я сражался до конца — против конкурентов, против биржевых крахов и политических кризисов.
— Берите иногда отпуск, — советует Кристофер.
Чжан Ин улыбается. В этой улыбке — и гордость, и смирение, и безнадежность. Снова звонит его мобильник. Он отвечает. Обсуждая с собеседником поправки к какому-то контракту, свободной рукой указывает Кристоферу на небоскребы, носящие его имя. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь… бесчисленные клоны, кубы и цилиндры, вздымаются вдоль автострад, ходов лабиринта, выхода из которого нет.
* * *
На середине озера Хоу-Хай, на катамаране.
Вдали из баров вырываются звуки джаза, оперной музыки и рока. Билл и Джон крутят педали. Вокруг их ног лежат пустые банки из-под пива.
— Do you still believe in America, the world’s bright future, the bastion of democracy?
— I don’t believe in anything anymore, — отвечает Билл. — Я выступал в стольких ипостасях, что не верю больше даже в себя.
— Билл, мне тридцать девять лет, и меня это достало! Никто не знает, кто я. Когда я иду по улице, никто меня не узнает. Когда я умру, даже не знаю, под каким именем меня похоронят.
— А все люди, вон, хотя бы те, что едят и пьют там, — ты что-нибудь знаешь о них? Думаешь, они оставят след? Посмотри на небо. Ладно, брось, над Пекином больше нет звезд. Закрой глаза и представь себе летнее звездное небо. Звезды — они повсюду, во всей Вселенной. А ты знаешь лишь единицы, потому что им дали имена. Так и человек. Всего лишь безымянная звезда в ночи.
— Хочешь знать, как ушла Хелен?
Билл вздыхает:
— Валяй, рассказывай.
Джон залпом высасывает банку пива и морщится.
— Мы лжем все время и во всем.
— Естественно, профессия обязывает.
— А больше всего мы лжем в незначащих мелочах, чтобы скрыть, кто мы есть на самом деле: вы умеете играть в шахматы? Нет! Вы говорите по-китайски? Нет! Вы пьете? Нет! Вы знаете Харбин? Нет! Вы танцуете? Нет!
Билл улыбается горькой улыбкой:
— Я почти как ты, только время от времени говорю правду — чтобы запутать следы.
— Полгода назад Хелен приготовила спагетти под соусом болоньез и спросила, нравится ли мне. Я обожаю спагетти, и она прекрасно это знает. Но я был так вымотан в тот вечер, что машинально ответил: «Нет!» Она перебила всю посуду и ушла…
— Джон, забудь ее. Женщины знают свой предел страдания.
— Женщины? Зачем они вообще? Понимаешь, я теперь задаю себе массу вопросов. А смерть? Вот ты понял, что это такое?
— Я думаю об этом иногда. Смерть — это наша головная боль, вот и все.
— С тех пор как ушла Хелен, я больше не трушу, как раньше, не боюсь, что умру и оставлю ее одну на свете или что ее убьют мои враги. Вот только трахаться спокойно не могу. Когда лежу сверху, мне все время кажется, что сейчас кто-то войдет и всадит мне нож в спину. Понимаешь, я готов на все, лишь бы не умереть так — в чем мать родила и член торчит. Вопрос не в том когда, вопрос в другом: смешно или не смешно.
— Ты что-то много думаешь о смерти, Джон. Это твои сорок лет дают себя знать. У тебя кризис среднего возраста!
— Не знаю. Меня все достало. Помнишь, как мы в прошлом году в том баре в Бангкоке влезли на стол и устроили стриптиз?
— Девушки визжали от радости, а хозяйка хотела заключить с нами контракт.
— Ну вот, в тот вечер все и началось. Я вдруг понял, что мне от этого веселья скучно. С тех пор у меня не получается кончить. Что-то во мне сломалось. Я не могу забыться. Я существую… Почему, черт побери, я существую? В двадцать лет я верил в Америку, верил в демократию. Теперь я не верю больше ни во что! Я лгу ради лжецов, которые нас используют, я борюсь с лжецами, несогласными с нашей ложью. Это замкнутый круг, Билл. Меня достало!
Пьяный Джон горько рыдает.
* * *
В номере отеля «Кунь Лунь».
Билл Каплан просыпается и смотрит на часы. Четыре часа двадцать три минуты. В ногах кровати беззвучно мерцает телевизор. На экране мужчина мастурбирует над открытым женским ртом.
Ему вспоминается, что он пришел сюда мертвецки пьяным и трахнул стюардессу, включив для разогрева порнофильм. Он косится на кровать. Девушка с раскосыми глазами еще спит. Как бишь ее зовут? Имя уже забылось. Он бесшумно одевается в потемках и выскальзывает из номера, будто вор.
Снаружи — не знающий отдыха Пекин. Сквозь легкую пелену смога над мегаполисом, вмещающим семнадцать миллионов коренных жителей и иммигрантов, проступают строительные леса в огоньках, слышен далекий гул стройки, перемежающийся визгом шин проносящихся по эстакадам автомобилей. Билл подзывает такси. К счастью, название своего отеля он не забыл.
Стоя под душем, он энергично намыливается. И тут перед его мысленным взором вдруг возникает лицо Аямэй. Он отчетливо видит ее густые брови, прямые ресницы, придающие ей вид девочки-дикарки. Ее взгляд устремлен на него. Глаза такие же, как у лабрадора, когда он глядит на своего хозяина, — полные страсти и снисхождения. Билл трясет головой, и видение исчезает.
Чемодан лежит на кровати, уже собранный. Перед тем как спрятать в портфель портрет Аямэй, полученный от Чжан Ина, Билл еще раз смотрит на него. Улыбается, отметив, что ноги у нее были тоньше, а грудь совсем плоская. Она сидит, отвернув голову. Ему виден только затылок. Но он угадывает счастливое выражение на ее освещенном солнцем лице, обернутом к Пекину, которого больше нет. Это безмятежное счастье словно затягивает его, и он оказывается вместе с девочкой на вершине холма. Она бежит к нему, кидается на шею. Свободной рукой показывает ему на золотые крыши Запретного города и развалины Дворца вечной весны.
Захлопнув дверь номера, Билл ныряет в лифт.
Ловит такси и мчится в аэропорт.
Прощай, Пекин, город о шести кольцевых дорогах, город, взбудораженный в преддверии Олимпийских игр, город, в котором живут под одним небом Ин и Джон, строитель и шпион, оба накрытые с головой его невыносимой безмерностью.
* * *
Париж, 21, площадь Эдмона Ростана, четвертый этаж.
Джонатан бросает багаж на пол в прихожей.
Распахивает окна и ставни.
Перед ним серое небо. Лениво накрапывает дождь над Люксембургским садом. Аллеи пусты. Сад еще не открыт. Только одна перемена в этом незыблемом пейзаже: большой каштан покрылся листвой. Больше не видно Эйфелеву башню.
Идет дождь. Тысячи, миллионы капель, прозрачных иголочек, незрячих глаз. Они разбиваются о его голову, катятся по лицу, затекают в рот, сползают на грудь. В самолете на обратном пути Джонатан продумал мизансцену и приготовил двусмысленную речь для Аямэй. Его обычные шуточки скроют закодированное послание: он по ней скучал. Выйдя из-под душа, он приступает к бритью. Лицо в зеркале напоминает ему отцовское. Как может он не презирать себя? Нет. Он этого не сделает. Не поднимется к ней, не скользнет ужом в ее постель, не стиснет ее в объятиях. Он позвонит ей с работы, сообщит, что вернулся. Эта квартира — не его. Имя Джонатан тоже чужое, временное. Он не знает, где будет жить и как зваться через год. Он даже не вполне уверен, что сегодня его день рождения.
Он помнит даты рождения тех, кем ему приходилось быть. Знает наизусть дни именин своих фиктивных родителей. Некому напомнить ему, в какой день он появился на свет. Некому, с тех пор как его отец, бывший шпион ЦРУ, исчез в Вене, чтобы всплыть затем в Москве, а мать, страдающая болезнью Альцгеймера, окончательно потеряла память.
«Человек спасется, если перестанет смотреть в зеркало», — сказал однажды его объект. Она права. Там, в зазеркалье, другой мир, в котором живут Аямэй, навеки недоступные Джонатанам.
* * *
Аямэй целует его, обнимает, прижимается всем телом и убегает куда-то. Потом возвращается. Краснея, садится напротив него.
— Ты вернулся утром?
— Да.
— Работал сегодня?
— Да.
— Устал?
— Нет.
— Почему ты не дал мне приготовить ужин?
— Я все заказал в ресторане по дороге. Так быстрее.
— Ты какой-то странный сегодня… тебе грустно. Почему?
— Мне грустно? Может быть… Устал немного.
— Я сделаю тебе массаж.
Она встает и склоняется над ним сзади. Мнет его плечи, обхватывает руками голову. Он не противится, позволяя пальцам китаянки гладить его виски, закрывает глаза. Ему хочется быть с ней ласковым. Хочется рассказать ей о своей поездке. Хочется поделиться с ней всем, что он увидел, узнал, пережил с рождения до сегодняшнего дня. Хочется рассказать о необыкновенных людях, с которыми он встречался, о странных женщинах, которыми прельщался. Хочется рассказать, сколько раз он рисковал и каких избежал опасностей. Он бы и не солгал. Разве что преувеличил бы, немного приукрасил факты, чтобы поразить ее. Увидеть бы, как округлятся ее глаза, услышать ее смех и восторженные ахи. Пусть она сойдет с ума от восторга.
Увы, он не герой. Ему не хватает мужества даже признаться самому себе, что он счастлив, когда она его массирует. До кончиков ногтей он чувствует негу, но принять это блаженство не имеет сил.
Подняв руку, он перехватывает ее запястье. С его губ срывается ложь:
— Сегодня день рождения моей матери. Я хочу отпраздновать его с тобой.
Запрокинув голову, он смотрит на приближающееся лицо Аямэй. Ее черные глаза жгут его.
— Я счастлива, что мы отпразднуем его вместе.
Ему тоже хочется улыбнуться. Но он хмурит брови и говорит ворчливо:
— Сядь. Давай поужинаем. Я проголодался.
Сидя напротив него, она щебечет, не скрывая радости от встречи, и вертится, как девчонка.
— Тебя так долго не было! Я думала о тебе. Каждую минуту, каждую секунду. Что ты делал? Где был? Ты там хорошо спал? Что тебе снилось? Ты изменил мне с хорошенькой стюардессой? Я ревновала, воображала себе такое… Но это не страшно. Ты же говорил мне, что истинная любовь свободна от собственничества. Я должна этому научиться. Чтобы соответствовать тебе. Каждый день я ждала твоего звонка. А ты ни разу не позвонил. Как сгинул! Я так испугалась, напридумывала, что с тобой произошел несчастный случай, или тебя похитили, или «Земной Мандат» велел тебе остаться в Азии и я больше никогда тебя не увижу. Я страдала из-за тебя. — Она вздыхает и улыбается: — Это было так приятно…
Ему хочется смотреть на нее влюбленно. Хочется сказать ей, что он тоже о ней думал, может быть, не каждую секунду, но по нескольку раз за день, и даже побывал в Китае, и привез ей Миня. Но голос снова становится палачом его мысли. Он цедит сквозь зубы:
— Я никогда не звоню из командировок.
Лицо Аямэй мрачнеет, но тут же снова расцветает улыбкой.
— Ты прав. Нас могли прослушивать.
Почему она так ласкова? Разве можно влюбиться в такую мразь, как Билл Каплан? Его голос леденеет:
— Однажды, может статься, я уеду навсегда.
Ее глаза устремлены на жареную курицу.
— Я знаю, но… — Она закусывает нижнюю губу. И вдруг выпаливает: — Сегодня ты здесь! Я хочу насладиться этим сполна! Не хочу ни о чем жалеть завтра, когда ты уедешь. Я не боюсь разлуки, Джонатан. Жизнь состоит из разлук.
Он взволнован и невольно завидует мужеству этой женщины. Она влюблена в человека, который и сам себя не любит.
— Когда я впервые увидела тебя у лифта, — начинает она робко, но отчетливо выговаривая каждое слово, — ты сразу покорил меня! Джонатан, ты подарил мне немного радости! Твое лицо, твой голос, твоя кожа не давали мне покоя! Почему я решилась украсть бумаги у Филиппа Матло? Почему переспала с ним, не испытывая к нему ни тени чувства? Я тебе кое в чем признаюсь. Все это вовсе не потому, что я верю в проповеди «Земного Мандата». Я сделала это для тебя! Я хочу служить тебе, хочу доставлять тебе удовольствие, я хочу смирить свою гордыню, унизить свое «я» — первый и единственный раз в жизни! Отдать человеку лучшее, что у меня есть, и ничего не просить взамен. Идти ему навстречу с закрытыми глазами, зная, что рискую споткнуться, упасть и не подняться больше. Так я люблю. Почему тебя? Что будет со мной, когда ты уедешь? Эти вопросы выше моего понимания, я знаю только, что однажды, если мне суждено прожить достаточно долго, я открою альбом моей памяти и увижу тебя. Я скажу: «Вот человек, которого я любила всем сердцем, человек, о котором я ничего не знала, ни его имени, ни прошлого, ни будущего. Этого человека я встретила у Люксембургского сада и тот короткий срок, что мы были вместе, любила его как умела!»
Теперь очередь Джонатана смотреть на жареную курицу. Ему нечего ответить на это признание.
Он вдруг слышит смех Аямэй.
— А ты, случайно, не шпион? Со всеми твоими штучками ты наверняка работаешь на ЦРУ. Не бойся, я теперь повязана и для тебя не опасна. Скажи мне правду, кто ты?
Джонатан не отвечает. Медленно поднимает на нее глаза. Дает себе время подумать. Рано или поздно Контора пришлет кого-нибудь, чтобы окончательно сделать эту женщину пешкой на шахматной доске американской разведки. Почему же не сейчас? Почему не он?
Он смотрит ей прямо в глаза — так у него лучше всего получается лгать.
— Я всего лишь обыкновенный программист, вступивший в «Земной Мандат», чтобы иметь хоть какое-то убеждение, идеологию, веру. Я делаю что могу, чтобы наше общество стало лучше. Вне «Земного Мандата» я — ничто. Прости, но я не Джеймс Бонд, не супергерой, не спаситель человечества.
Она обрушивает на него град вопросов:
— Ты поселился в этом доме, чтобы познакомиться со мной? Ты заранее спланировал нашу встречу? Ты спал со мной, чтобы добраться до Филиппа Матло? Я для тебя только орудие или ты все-таки испытываешь ко мне хоть какое-то чувство?
Она ерзает на стуле. С трепетом ждет его ответа. Ему рвет сердце этот взгляд, заклинающий набраться мужества и сказать правду. Он должен сделать ей это признание: «Да, я играл с тобой, я тебя обманул. Да, я безумец и циркач, ты станешь презирать меня, когда увидишь мое истинное лицо. Да, я воспользовался твоей наивностью и твоим пылом. Я отдал тебя на поругание, я причинил тебе зло. Спасибо тебе за то, что пробудила мою нечистую совесть. Спасибо, что полюбила такого — одинокого, сумасшедшего, проклятого. Прости меня!»
Но вслух он отвечает молодой женщине только одно слово:
— Нет.
Ложь ведь может быть и проявлением сострадания.
— Ты любишь меня хоть немного? — настаивает она.
В его прошлом были женщины, уже задававшие ему этот вопрос. Он что-то изобретал, уходя от прямого ответа. Почему она, почему Аямэй, героиня Тяньаньмынь, тоже хочет от него обещания, которого он не может дать?
— Да, — невольно вырывается у него.
— Спасибо! — всплескивает она руками. — Спасибо! — И, украдкой смахнув слезы, улыбается ему: — Ну, давай поедим. Что тебе положить? Крылышко или ножку?
Джонатан машинально жует. Через силу шутит и рассказывает о своей поездке в Малайзию, измышляя на ходу тысячу несуществующих подробностей. Она смеется. Он думает, отдать ли ей рисунок Миня. И стоит ли говорить, что он ездил в Китай из-за нее? Как объяснить ей это? Нельзя допустить ни в коем случае, чтобы она поверила, будто он влюблен!
Поздний вечер, свет в кухне погашен, на столе именинный пирог. Она зажигает свечу. Спрашивает:
— Сколько лет исполнилось бы твоей матери в этом году?
Он наобум говорит цифру.
— Задуй. Ну, давай же!
Он дует.
Она хлопает в ладоши.
Он находит ее впотьмах. К черту осторожность, расчет, маскировку. Ему хочется удивить ее и удивить себя. Хочется быть добрым в свой день рождения. Пусть она обретет Миня, чтобы наконец похоронить его. Этот портрет разорвет узы, привязывающие ее к мертвецу. Освободившись, она почувствует свое тело, познает наслаждение, а он, Джонатан, сможет исчезнуть.
— Идем в гостиную, — шепчет он ей на ухо, — у меня есть для тебя подарок.
Он усаживает ее посередине дивана. Просит закрыть глаза и кладет акварель Миня ей на колени.
— Что это?
— Посмотри.
Улыбаясь, она берет рисунок в руки:
— Кто эта девочка?
У него темнеет в глазах.
— Ты нашел это в Малайзии? — пробивается сквозь дурноту ее голос. — Какая прелесть! Спасибо!
До него вдруг доходит, что надо немедленно отобрать у нее рисунок. Поздно. Она уже перевернула его и увидела надписи по-китайски.
Вот она читает, медленно, опустив голову. Сосредоточенно изучает тексты, не такие уж и длинные.
Джонатан боится дышать.
Так же медленно она поднимает голову. Он видит ее глаза — в них новый, злой огонек. Он чувствует, как напряжены ее мускулы, как натянуты нервы. В ее неподвижности есть что-то звериное: так выглядит хищник, готовый броситься на жертву. Он тоже замер: нет, он ее не боится, это она боится его! Ей невдомек, как к нему попал этот портрет. Ей невдомек, что он был в Пекине. Ей невдомек, что он и не подозревал, что она не узнает акварель. Ей невдомек, что никто не в курсе, никто не стоит за Джонатаном. Ей невдомек, что это не мизансцена, не ловушка, что их разговор не записывается.
Не двигаясь с места, он улыбается ей. Женщина, выдающая себя за Аямэй, смотрит на него испытующе. Ей нужно сообразить, что значит эта улыбка, и оценить таящуюся за ней опасность. Вдруг ее напряженное лицо смягчается. Она встает и подходит к нему.
— Зачем ты привез мне Миня, когда я приняла решение его забыть? Ты играл со мной, Джонатан. Ты меня не любишь.
Неужели паранойя снова сыграла с ним злую шутку? А что, если она настоящая, эта фальшивая Аямэй? Что, если она просто забыла какие-то моменты из того периода своей жизни, о котором больно вспоминать? В конце концов, ей ведь было тогда всего четырнадцать лет, а сейчас ей тридцать семь.
Джонатан нерешительно делает шаг ей навстречу и протягивает руки. Он должен ее удержать. Должен удостовериться. Она не может быть ложью. Это было бы катастрофой для него, для его начальства, для всех, кто наблюдает за ними из тени!
Она неотрывно смотрит на него. Две слезинки стекают по ее щекам. Господи Боже, почему она плачет?
Вдруг она круто поворачивается и идет к двери. Ему не хватает мужества броситься за ней. Пока он решается, хлопает дверь — и ее уже нет.

