II
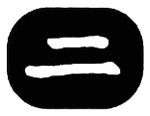
Взгляд Филиппа Матло обшаривает пустую гостиную. Он срывает галстук, швыряет на диван пиджак. Ему хочется кричать.
Открывается дверь спальни.
— Добрый вечер.
Он пятится.
— Ты… ты здесь?
— Я подумала, что ты, наверно, нуждаешься в утешении. Не очень-то приятно быть одному в пятницу вечером. Извини, я вошла без стука.
Филипп тяжело оседает в кресло.
— Она уехала.
— Знаю.
— Забрала детей.
— Знаю.
— Вот, прочти, она оставила мне письмо.
— Я его читала.
— Браво. Я ничего не заметил.
— Вскрывать письма — первое, чему учатся, осваивая азы профессии.
Филиппу думается, что надо бы воспылать праведным негодованием. Но он так устал сегодня. В конце концов, эта женщина хотела влезть в его жизнь и добилась своего. Не только в жизнь — в самые потаенные глубины сознания проникла. Тысячу раз она вторгалась в его личные дела, и тысячу раз это было с его согласия.
— Ну? — спрашивает он.
Зато на нее можно опереться, иначе ему не устоять.
— Она вне себя. Я ее понимаю. Мало приятного — узнать, что у мужа есть любовница. Ты сказал ей, что едешь в Брюссель, а сам ужинал тет-а-тет с девицей в ресторане в Монако, где — вот не повезло-то! — тебя заметила ее подруга. Очень неосторожно, особенно для неверного мужа!
Она потешается, а Филипп Матло готов рвать и метать. Но сохраняет спокойствие: чему-чему, а терпению он научился за долгие годы работы в министерствах.
— Если она захочет развода, я не буду возражать, — холодно произносит он.
— А как ты объяснишь это премьер-министру? Коль скоро он узнает, что ты содержишь call-girl на деньги его будущей предвыборной кампании…
— Что? Ты следишь за мной? — Филипп вскакивает и, тыча в собеседницу пальцем, повышает голос: — Я тебе уже говорил: оставь меня в покое! У нас деловые отношения. Я не могу работать на вас в таких условиях! Да все в правительстве гуляют от жен направо и налево, это ни для кого не секрет. Я встречаюсь с проституткой, это даже не измена.
— Все, но не ты, Филипп. Твой министр метит в президенты, и его избирателям известна твоя политическая позиция. Это же надо додуматься — взять в любовницы украинскую девку! А вдруг она работает на русских? Вдруг тебе ее подсунули? Недоброжелатели запросто могли установить видеокамеру в вашем номере в отеле. Подумай о карьере твоего министра, да и о своей тоже!
Филипп кидается к письменному столу, где лежат письмо жены и оставленная ею стопка фотографий. Он рассматривает их одну за другой. Поворачивается к гостье:
— Ты послала эти фотографии моей жене, да? Не было никакой подруги в Монако. Это ты установила за мной слежку! Зачем?
— Я? Конечно нет!
В ее голосе — обезоруживающая искренность профессиональных лжецов. Ее честный и добрый взгляд напоминает ему его министра, которого он только что сопровождал на телепередачу.
— Я сегодня пришла давать урок детям и застала твою жену в слезах. Она показала мне фотографии, и я ей сказала, что если она не может больше этого терпеть, то надо уходить. Я посоветовала ей оставить фотографии, чтобы пристыдить тебя. Хорошее дело я сделала, правда? Она могла прихватить их с собой и потребовать опеки над детьми, когда подаст на развод.
Филипп Матло раздавлен.
— Должны же у меня быть хоть какие-то радости в жизни! Ты что, не видишь, что я всего лишь лакей? Я должен потакать капризам премьер-министра, который только и думает, как бы перебраться из Матиньона в Елисейский дворец. Мне всего лишь тридцать восемь, а у меня уже седые волосы! Надо же мне расслабляться хоть иногда!
Она смеется ему в лицо ледяным смехом.
— Приходится выбирать — секс или карьера, одно из двух. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы тебя удалили из ближайшего окружения премьер-министра. Мы ни в коем случае не хотим тебя потерять. Ты — самый одаренный из твоего поколения. В две тысячи седьмом году тебе исполнится всего сорок лет и ты будешь министром. Мы тебя продвинем. Филипп Матло, тебе никогда не хотелось стать президентом республики?
Какой политик не думает о президентском кресле?
Филипп Матло становится шелковым:
— Ладно, признаю, я был неосторожен. Отныне буду довольствоваться прелестями моей жены… если она вернется.
Не забывает он и польстить своей собеседнице:
— Ты ведь знаешь, все последние годы я хотел только тебя. На тебя одну у меня встает. Только потому, что ты мне отказываешь, я ищу утешения на стороне.
Аямэй сдержанно улыбается:
— Лгунишка. Идем, я приготовила ужин.
Она встает. Шелковая юбка хлещет его по коленям, остроносые лодочки на шпильках подбираются к его ногам. Она протягивает ему руку. Поколебавшись, он подает ей свою. Решительным движением она тянет его к себе. Он поддается — как всегда. Она направляется в кухню, ведя его за собой, словно щенка на поводке. Оборачивается и улыбается ему. Он угадывает насмешку в ее глазах. И удовлетворение. Как же он ее ненавидит!
В кухне накрыт стол. Их ждут салат из шпината и грейпфрутов, копченая лососина и горячие блины. Все, что любит Филипп. Она достает из холодильника бутылку водки.
— Выпьем за твое будущее!
— За тебя, Аямэй, за верного друга, который желает мне добра. И за твое будущее тоже.
— У меня нет будущего. Я кану в забвение, без семьи, без детей, без славы. Ну, да здравствует Франция!
Она залпом осушает свою рюмку. Филипп наливает ей еще.
— Где моя жена?
— В Ницце.
— Я звонил ее матери, она сказала, что ее там нет.
— С каких пор ты веришь всему, что тебе говорят?
— То есть…
— Твоя жена вернется в воскресенье вечером.
Аямэй, запрокинув голову, осушает вторую рюмку.
— Я посоветовала ей съездить к родителям, чтобы мы с тобой провели этот вечер вдвоем.
— Откуда ты знаешь, что она вернется в воскресенье?
— Это я сказала ей, чтобы, чем закатывать сцены, припугнула тебя. Не беспокойся, на развод она не подаст. Без тебя она ничто. Мари Вертю никто не знает, все знают Мари Матло… Без тебя она не будет желанной гостьей на показах мод, премьерах и званых ужинах. Без тебя она будет разведенкой с двумя детьми. Ее кругом общения станут так называемые женщины в поиске. Она увидит, что годы летят быстро, а богатые и влиятельные мужчины засматриваются на молодых и красивых. О твоей карьере она будет узнавать из газет. Увидит тебя на обложке журнала с новой супругой, скорее всего актрисой или телеведущей. У этой женщины будет все. Если ты станешь министром, все твое министерство будет курить ей фимиам. Когда-нибудь, быть может, она станет первой леди Франции и к ее услугам будет президентский самолет, в то время как Мари Вертю так и будет летать эконом-классом на регулярных рейсах и состарится, забытая всеми и Францией. Я напомнила ей девиз баронессы де JIa Рок, столь любимый в парижском высшем обществе: «Лучше быть вдовой, чем разведенной». Ты позвонишь ее родителям и попросишь у нее прощения. Она простит тебя.
— Какая прозорливость! Я не знаю никого циничнее тебя.
Улыбнувшись, она опрокидывает третью рюмку.
— Прагматизм, как говорят на футболе… Ты-то ведь тоже напрямик объясняешь своему министру, почему та или иная реформа бесполезна, если она не нравится его электорату. Полно, Филипп, ты же не мальчик. Налей мне еще водки!
Филиппу совсем не хочется есть. Он ковыряет в тарелке для вида.
— Ты спровадила мою жену, чтобы переспать со мной?
— Очень смешно. Ты просто сексуальный маньяк. Тобой заинтересовались, Филипп Матло! Кое-кто разнюхивает про поставки оружия в Китай. Кое-кто думает, что ты — связующее звено между Пекином и Парижем. Кое-кто надеется благодаря тебе найти зацепку, чтобы это доказать. Послушай меня и запомни раз и навсегда: надо быть очень осторожным.
Он ударяется в панику:
— Кто эти люди? Почему я? Почему не Симон, уполномоченный от Европарламента? Почему не Иду, первый поставщик французского оружия, двоюродный брат президента? Кто я в сравнении с ними — мелкая сошка, обслуга. Как на меня вышли?
— Как тебя засекли? Пока не знаю. Во всяком случае, у тебя есть одна слабость, которую не спрячешь!
— То есть?
— Я!
— Почему ты?
— Потому, что я Аямэй. Разве недостаточно моего имени? Тебе это больше ничего не говорит — Тяньаньмынь, права человека, коммунистическая диктатура в Китае? В моем доме поселился некий человек, имеющий паспорт на имя Джонатана Джулиана. Я сообщила о нем Цзу Чжи. Они попросили меня закрутить с ним роман, чтобы выяснить его намерения. Он попался на крючок. И поведал мне, что является членом «Земного Мандата». Его миссия — разоблачать незаконную торговлю оружием. Он задумал использовать меня, чтобы добраться до тебя. Он хочет знать все: о твоих контактах — то есть наших контактах, о твоем образе жизни, о заторможенных делах, о сомнительных счетах, об иностранных банках, обо всех твоих грязных тайнах, которые могут дестабилизировать власть во Франции.
— Секта «Земной Мандат»! Как раз сейчас они заколебали правительство делом о ядерных отходах. Что им еще надо?
— Лучше спроси меня, что надо нам! Цзу Чжи очень интересуется этой американской сектой, связанной с ЦРУ. Они решили, что представился редкий случай внедрить туда нашего человека. И этот человек — я.
Он усмехается:
— Ты — двойной агент? Я — объект и источник? Абсурд.
— Этот мир вообще абсурден.
Аямэй опрокидывает четвертую рюмку водки. Филипп нервничает все сильней.
— Это опасно, вы просто с ума сошли! Вы погубите меня. Лучше пусть его спровадят. Или убей его!
— Невозможно. «Друг пришел издалека, это ли не радость?» — сказал Конфуций. Не было бы Джонатана Джулиана — был бы кто-то другой, другая разработка. В нашем деле лучше знать проблему, чем пребывать в неизвестности. Будь спокоен, живи как жил. За тебя, за вас я готова хоть в ад…
Эти словеса ему неинтересны, и он перебивает ее:
— Ты с ним спала?
— Угу.
— Ну и как?
— Неплохо. Под импотента они не стали бы меня подкладывать.
— Ты спишь с кем попало! Два месяца назад был посол Надэ, а у него воняет изо рта.
— А тебя каким боком касается моя сексуальная жизнь? Я переспала с ним, чтобы он пригласил меня в Южную Африку. Всю жизнь мечтала увидеть жирафов и носорогов.
— Как же! Жирафы и носороги… Вы продаете бракованное оружие мятежникам из Кот-д’Ивуара…
— Вы тоже! Как бы то ни было, с тобой я больше не сплю. Хочешь совет? Помалкивай и займись своей женой. Ей это нужно.
Он не остается в долгу:
— С моей сексуальной жизнью все в порядке. Меня беспокоит твоя. Скажи, ты с ним кончала?
— С кем? С послом или с американцем?
Он меняет тон на сочувственный:
— Бедняжка моя, ты же превратилась в проститутку, как ты можешь?
— Это часть моей профессии. А сам-то ты? В правительстве разве не тем же занимаешься?
Бесполезно продолжать этот спор. Бог умер, а люди утратили понятия добра и зла. Филипп умолкает и вновь принимается за еду. Аямэй бросает взгляд на часы, висящие на стене.
— Уже десять!
Она быстро встает и направляется к двери.
— Куда ты?
Она не отвечает. Он идет следом.
В туалете, согнувшись над унитазом, она засовывает два пальца в рот. Содрогается в рвотном спазме. Стоя в дверях, он смотрит на нее с брезгливой жалостью. Хочет и никак не может возненавидеть ее. А ведь она — раковая опухоль его жизни. Она в его мыслях, в его снах, в его сперме, когда он кончает.
Он протягивает ей пачку бумажных салфеток.
— Спасибо… Я сказала Джонатану Джулиану, что не пью. Аллергия на алкоголь.
— Почему?
— Потому что с ним я — Аямэй, чистая, наивная душа, раненая бунтарка.
— А со мной?
Она поднимает голову.
— Можешь радоваться, я не играю. С тобой я такая, какая есть, увы.
— Ты сейчас идешь к нему? Поэтому вызвала рвоту?
— Нет, идиот. Мне надо протрезветь, работа ждет. У нас вся ночь впереди. Давай сюда свой ежедневник и записную книжку. Достань из моей сумки ежедневник и записную книжку, они такие же, как твои, только чистые. И завари мне зеленого чаю, пожалуйста, а я пока приму душ.
Он идет за ней в ванную.
— Что ты хочешь сделать?
— Запутать следы. Составь список людей, которых терпеть не можешь… Слушай, выйди, а? Дай раздеться.
* * *
Филипп Матло не верит в бессмертие души. Не верит в Страшный суд. Ошибка христианства, думает он, в том, что нам внушают, будто мы живем на земле, а между тем мы уже в аду.
Он познакомился с Аямэй семь лет назад, на каком-то партийном празднике, под сводами шатра в Венсеннском лесу. В толпе гостей его глаза вдруг наткнулись на нее. В черном плаще, держа руки в карманах, она стояла за колонной. Брови нахмурены, лицо непроницаемо, взгляд рассеянно скользил по танцполу. Ее прямая фигурка выделялась среди француженок, которые накачивались белым вином и шумно здоровались, хлопая друг друга по плечу. Не надо было ему рассматривать ее так внимательно. Скользнул бы взглядом — женщина и женщина, — как по тысячам других на протяжении своей политической карьеры. Увидел и забыл — она осталась бы пылинкой среди мириадов других таких же в этом огромном мире. Его жизнь потекла бы по-прежнему, но судьба сложилась бы иначе.
Но у нее был красивый профиль, и он смотрел, пока она не повернула голову в его сторону. Увидела его и улыбнулась. Ему было скучно. Нет зрелища глупее, чем эти предвыборные праздники, на которых партия лакирует свой популистский имидж. Он через силу побродил среди гостей, пожал кому-то руки, с кем-то обнялся, выпил три рюмки, доел паштет по-деревенски и потихоньку направился к выходу.
— Филипп, ты уже уходишь?
Он обернулся и увидел Жака Отбуа, депутата от департамента Сена-и-Марна, защитника прав человека в Китае, тибетцев, индейцев Амазонки и беженцев из Руанды.
— Ты знаком с Аямэй?
Депутат посторонился. За его спиной стояла женщина восточной внешности в черном плаще.
— Аямэй, разреши представить тебе Филиппа Матло. Он работает в Министерстве промышленности и на той неделе летит в Китай. Филипп, ты все еще не узнаешь Аямэй? Ну же, Тяньаньмынь, восемьдесят девятый год, мы все видели ее по телевизору.
— Ах да, действительно, это она десять лет скрывалась в китайской глубинке, а потом добралась до Гонконга вплавь?
— Да, это она!
Жак Отбуа подтолкнул ее к нему. Филипп протянул ей руку, она подала свою. Пока они здоровались, Отбуа скрылся в толпе.
Надо было задать ей хотя бы один вопрос, прежде чем тоже ретироваться.
— Вы теперь живете в Париже?
— Да.
— Что ж, прекрасно…
— Вы летите на той неделе в Китай?
— Да, для подготовки первого визита моего министра в вашу страну. Рад был с вами познакомиться. И еще раз браво… за то, что выбрали Францию.
В глазах молодой женщины мелькнуло разочарование.
— Вы уже уходите?
— Да, мне надо еще поработать, — соврал Филипп (на самом деле он собирался наведаться в мансарду к одной японской студентке, прежде чем вернуться к семейному очагу).
— Я тоже ухожу. Мне, как и вам, скучно на таких праздниках.
— Откуда вы знаете, что мне скучно?
Она улыбнулась и ничего не ответила.
— Вы не подвезете меня? Я живу около Инвалидов.
Филипп отметил некоторое очарование в улыбке, на миг озарившей ее суровые черты.
— Мне по дороге. Идемте.
Поездка заняла двадцать минут. Филиппу помнится, что в то время она говорила по-французски с акцентом. Он расспрашивал ее о Тяньаньмынь, о бегстве, о жизни в Париже. До сих пор он не может понять, когда у него щелкнуло в мозгу. За всю дорогу она не распахнула плащ, сидевший на ней мешком, не распустила волосы, собранные в «конский хвост». Не было между ними ни одного двусмысленного жеста, поощрительного слова, кокетливого взгляда. Он довез ее до дома и записал телефон. Зашел к японке, которая ждала его в бюстгальтере, клетчатой юбочке и белых носочках. На следующей неделе он улетел в Пекин. Это была его первая поездка в Китай. Отель, где он жил, располагался в двухстах метрах от Тяньаньмынь. Солдаты несли караул у памятника Освобождения, там, где Аямэй и ее друзья объявили голодовку. По площади прогуливались туристы, щелкая фотоаппаратами, дети запускали воздушных змеев.
В Шанхае ему показали экономический рост Китая во всей красе. В Чунцине, в последний вечер, после банкета и обильных возлияний с местными тузами, он прогуливался неподалеку от своего отеля и случайно забрел в чайный салон. Шел дождь; красные фонарики покачивались на ветру. Голос Аямэй вдруг зазвучал у него в ушах. Вспомнились ее слова: «Современный Китай родился на площади Тяньаньмынь. Вы можете работать с моей страной, не испытывая чувства вины. Напрасно Жак требует санкций против Пекина. Он чист, омытый кровью студентов». В тот вечер Филипп сказал себе: героиня Тяньаньмынь — почему бы нет, все равно японки уже приелись.
Он позвонил ей через неделю после возвращения из Китая. Они встретились в кафе. Она пришла без плаща, с распущенными волосами, в платье, выгодно подчеркивавшем соблазнительную грудь. Еще через неделю он пригласил ее поужинать. В тот же вечер они оказались в постели, в ее квартирке с видом на позолоченный купол Инвалидов.
В ту пору, два года спустя после рождения Камиллы, его старшей дочери, Филипп начал пользоваться успехом у женщин. Впервые вкусив запретного плода с одной стажеркой из министерства, он вскоре перестал считать свои походы налево. Филиппа тянуло к двадцатилетним девушкам, незрелым и пылким. Японка открыла ему нежность и изощренность восточных женщин. Встреча с Аямэй стала апофеозом его преображения: робкий студент дорос до мужских игр и в альковах, и в коридорах власти.
Китаянка была всего лишь одним приключением из многих, которым он с дотошностью экономиста отводил в своей жизни ровно столько места, сколько требовалось. Он приходил к ней раз в неделю. Они ужинали у нее на кухне — это было безопаснее, да и дешевле, чем вести ее в ресторан. Закончив ужин, сразу же ложились в постель. Со временем он стал управляться в неполных два часа на все про все, успевал домой до полуночи и, ложась под бочок к Мари, не чувствовал за собой особой вины. Китаянка отнюдь не была самой разнузданной из его пассий. Ему было хорошо с ней по другой причине. Она подвергалась преследованиям в своей стране, приехала в Париж без багажа и без документов. С ней он сам себе казался сильным и добрым. Занимался любовью, чувствуя себя благодетелем: в его понимании эта женщина, много выстрадавшая, заслуживала в гостеприимной стране лучшего оргазма.
Однажды она уговорила его прочесть лекцию в Обществе друзей демократии в Китае. Он согласился. От имени своей организации она вручила ему конверт с тысячей евро. Он взял деньги, не чинясь. Потом она попросила написать вступительное слово к каталогу какой-то выставки. За эту ерундовую работу он получил четыре тысячи наличными. Аямэй жила скромно, хоть и говорила, что активисты китайской диаспоры регулярно вносят пожертвования в пользу ее организации. На открытии выставки она познакомила его с китайским бизнесменом из Гонконга, одним из ее щедрых спонсоров. Он хотел импортировать во Францию махровые полотенца, и за два месяца Филипп нашел ему партнера. В благодарность китаец пригласил его на ужин и вручил коробку шоколадных конфет, в которой оказалось двадцать банкнот по пятьсот евро. Филипп дал себе три дня на размышление. Мари была мотовкой, они ожидали второго ребенка, Жюльетту, он взял ссуду, чтобы купить квартиру. К концу каждого месяца от его зарплаты не оставалось ровным счетом ничего. Почему бы не взять комиссионные, которые он считал честно заработанными? Потом было много других китайских предпринимателей, борцов за права человека. Аямэй стала ему необходима, поскольку обеспечивала приятный побочный доход. В тот день, когда она открыла ему правду: на самом деле он работал на Пекин, а ей был известен номер счета в Лихтенштейне, на который поступали комиссионные от клиентов, Филипп Матло понял, что назад ходу нет. Он уже продал душу дьяволу.
В тот день она дала ему знать, что он у нее в руках; с тех пор к телу его больше не допускали, и всякие сексуальные отношения у них прекратились. Камилле было всего четыре года, когда Аямэй стала учить ее китайскому и сидела с девочками по вечерам, если Филипп и Мари выходили в свет.
Он стал пешкой, которую Пекин передвигал на большой шахматной доске рукой Аямэй. Его знание Китая и компетентность в стратегиях заметили, заместитель министра промышленности представил его министру финансов, и тот поручил ему разработку досье по вооружениям. Допущенный в сонм великих, Филипп Матло развернулся в полную силу. Он больше не маялся одиночеством и комплексом вины, не чувствовал себя мелким воришкой: теперь его место было в рядах повелителей войны, ряженных в слуг государства. Он тайно продал партию оружия в Китай. Комиссионные, поделенные между политическими кланами, заставили его забыть все страхи. Его партия победила на выборах, заместитель министра промышленности стал министром финансов. Год спустя он сменил премьер-министра, ушедшего в отставку после стодневной забастовки транспортников. Вслед за своим шефом Филипп перебрался на улицу Варенн. Он начал думать, что Аямэй — его счастливая звезда.
После терактов 11 сентября, поражения талибов и войны в Ираке ее вечная песня, которой она прожужжала ему все уши, вдруг показалась не лишенной смысла.
Китай — единственная сила, способная противостоять Соединенным Штатам.
Вооружать Китай — значит ослаблять Соединенные Штаты.
Франция останется на карте мира, только вписавшись в любовный треугольник с Китаем и США.
Китай — будущее Франции.
Китай — будущее Филиппа Матло.
Филипп Матло работает на будущее Франции.
* * *
Час ночи. Мари Матло извиняется за позднее возвращение и предлагает Аямэй остаться ночевать. Та предпочитает вернуться к себе, и Филипп вызывается отвезти ее.
— Понравилась опера? — спрашивает Аямэй, устроившись на пассажирском сиденье его машины.
— Я спал, чтобы выдержать торжественный обед, — отвечает он, поворачивая ключ в замке зажигания.
— Как у тебя с Мари, лучше?
— Терпимо, после того скандала. Мари женщина простая. Закатит сцену и успокоится. Я поклялся ей, что фотографии с анонимкой — монтаж, дело рук моих противников, мол, они копают под меня через нее.
— И она поверила?
— Конечно, а что ей оставалось?
Ожидая, пока откроются двери гаража, он кладет руку на бедро Аямэй. Она берет ее и аккуратно возвращает на руль.
— А как ты объяснялась со шпионом из «Земного Мандата»? Что наврала? Он ведь, конечно, заметил, что ты не ночевала дома в прошлую пятницу!
Она запрокидывает голову. Полосы света от фонарей скользят по ее лицу, она улыбается.
— Я сказала ему, что спала с тобой.
— Можно узнать почему?
Филипп злится еще сильней, читая откровенную гордость на ее лице.
— На следующий день после нашего с тобой вечера он, разумеется, не преминул заметить, что я вернулась только утром. Он спросил, где я была, и я ответила ему презрительным взглядом. А потом достала видеокамеру, которую он мне подарил.
Она смеется.
— Этот человек — прекрасный актер! Он вот так вздернул подбородок и внимательно посмотрел на меня своими большими голубыми глазами. Кто мог бы устоять перед таким взглядом? В нем было столько страха и боли, он будто молил меня молчать… Конечно же я не сделала ему такого подарка. Мне хотелось доставить себе удовольствие. Я ответила ему взглядом суровым и холодным, взглядом человека, только что совершившего убийство, и рассказала в подробностях о том, что произошло.
— Ничего не произошло…
— Все-таки у тебя начисто отсутствует воображение! Твоя жена решила свозить детей к своим родителям на уик-энд. Уезжая, она попросила меня дождаться тебя, потому что ты забыл ключи и должен был за ними заехать. Такой случай я упустить не могла. Я начинающая шпионка, копалась ужасно долго, сердце у меня отчаянно колотилось. Квартира, в которой я бывала много лет, вдруг стала незнакомой планетой. Испытывая стыд и какое-то странное возбуждение, я исследовала книжные реки, бумажные горы, ущелья, полные одежды, фотографий, игрушек, открыток, сувениров. Я надеялась найти государственные тайны, а обнаружила личные…
— Какова сочинительница! — угрюмо комментирует Филипп.
— Я читала какие-то бумаги в твоей спальне и вдруг услышала хлопок входной двери и шаги в квартире. Я ударилась в панику. Из спальни есть только один выход, в гостиную. Выйти мне было не успеть. Я не знала, куда спрятаться. Что я скажу, если ты войдешь и увидишь меня? Я совсем не умею лгать! А ты уже вошел в гостиную. И кажется, направляешься к спальне. У меня кружится голова. Сердце бьется так сильно, что я вот-вот задохнусь.
Аямэй смеется.
— Ну? Что же дальше? — холодно спрашивает Филипп.
— Я вскочила. Сорвала с себя платье, лифчик, трусики. Все это с таким шумом, что ты из-за двери позвал Мари. Я не ответила. Ты толкнул дверь. Я лежу на кровати голая, руки на животе, а между грудями связка ключей. «Что вы делаете?» — воскликнул ты. «Вы ищете ключи? Подойдите же!»
— Недурно, представляю себе эту сцену.
— Я избавила его от дальнейших подробностей. Не по доброте душевной, а чтобы не выйти из образа, ведь Аямэй в его глазах целомудренна. Потом ты ушел на какой-то ужин. Я сфотографировала твой ежедневник. Ты вернулся. В два часа ночи я нашла в кармане твоего пиджака маленькую записную книжку. Ее я тоже сфотографировала в туалете… Он слушал меня. Я как могла сохраняла мрачное выражение лица. Он молчал, а я пыталась представить, как реагировала бы на его месте. Изобразить страдание, желая дать понять женщине, что она ему дорога? Или печаль и смирение человека, получившего жестокий удар по собственной вине? Непростое упражнение, тут нужно действовать тонко и с умом, ни в коем случае не винить и не обижать женщину, иначе она замкнется в себе. Тепло подбодрить ее? Скрепя сердце похвалить? Но нельзя и уподобляться сутенеру, выпустившему свою подопечную на панель! Я с нетерпением ждала, что же он сымпровизирует…
Филипп перебивает ее:
— Почему ты непременно хотела заставить его ревновать?
— Я?
— Могла бы наплести что-нибудь попроще. Ты, холодная и безжалостная, непревзойденная мастерица простых и эффективных ходов, зачем ты вдруг нагромоздила целый лабиринт?
— Затем… — Она отворачивается к стеклу. — Чтобы вернее проникнуть в его организацию, чтобы лучше и дольше его использовать. Для этого нужно, чтобы он влюбился в меня. Так влюбился, что стал бы глух и слеп.
— Он — в тебя? — Филипп прыскает со смеху. — Ты забываешь, что он — тоже орудие. Если он, как думаешь ты и твои хозяева, послан ЦРУ, то это шахматист, видящий мир через призму математики. Чтобы он влюбился? Забудь…
Она хмурится.
— Что ты знаешь о шпионах? Можно подумать, тебе известно, где их слабое место? — Она показывает на левую сторону груди: — Здесь! Как у тебя, как у Мари, как у всех мужчин и женщин на свете. Именно здесь находится сейф, со сложным замком или не очень, у кого как. Профессионал высокого класса сумеет подобрать шифр к любой модели.
— Хочешь сказать, что ты — лучший профессионал, чем он? Ты еще не рассказала мне, что было дальше. Как он отреагировал на твою ложь?
С минуту подумав, она отвечает:
— Силен, блестяще сыграл. Очень силен! — Она опускает стекло, подставляет ветру лицо и волосы. — Он долго молчал, а потом пристально посмотрел мне в глаза. Я выдержала его испытание, не дрогнув. И знаешь, что он мне сказал? «Есть универсальная любовь, она противоположна любви эгоистической. В основе ее лежит равновесие между „давать“ и „получать“, „брать“ и „дарить“. Ты обокрала Филиппа Матло и взамен подарила ему несколько часов удовольствия. Это поступок тем более верный, что совершен он был спонтанно, без самокопания. Браво!»
— Он сумасшедший!
— Немыслимо, что и говорить. Я даже задумалась, шпион ли он в самом деле. Чтобы прояснить ситуацию, изобразила отчаяние: «Я легла с ним в постель ради тебя. Занимаясь с ним любовью, я думала о нас. Мне так жаль. Прости меня!»
Задетый за живое, Филипп хмуро бросает:
— Надеюсь, он не слишком обиделся.
— Он спросил, получила ли я удовольствие.
— Нет конечно же.
— Да, немножко.
— Он тебе поверил?
— Сказал: «Очень хорошо, продолжай».
— Вот видишь, — радуется Филипп, — он не влюблен в тебя.
— Он накрыл мою руку своей и добавил: «Твое тело еще недостаточно восприимчиво. Я помогу тебе раскрыть его до конца. Мы — всего лишь орудия Высшей Истины. Когда ты поймешь это, Тяньаньмынь отпустит тебя».
— Чушь!
— Мне вдруг показалось, что Цзу Чжи ошибся, что мы имеем дело с обыкновенным фанатиком секты «Земной Мандат». Я решила уколоть его в больное место. Сказала наивным голоском маленькой девочки: «А ты достигнешь когда-нибудь той ступени Истины, на которой „Земной Мандат“ отпустит тебя?» Вот тут-то я убедилась, что дело нечисто. Он помедлил, потом улыбнулся мне: «Ты слишком много думаешь. Слушай свое сердце, а не голову». — Аямэй смеется. — Почему он помедлил? Настоящий адепт не задумываясь ответил бы, что «Земной Мандат» — не тюрьма. Сам видишь, в этом американце нет истинной веры. Тем не менее он опасный противник. То-то я развлекусь! В этом соревновании победит сильнейший и умнейший.
— Вся эта игра похожа на кино по твоему и только твоему сценарию. Этот человек явился, чтобы уничтожить тебя, думаешь, он будет развлекать тебя и любить? Ты что, дура?
— Ты видел, чтобы я хоть раз оплошала? Я знаю, что делаю.
— Это все твои фантазии. Слишком часто ты ввязывалась в запутанные игры, которые ведут твои хозяева, у тебя просто ум за разум зашел. Ты совсем одна. Тебя гложет одиночество. Ты спишь с кем попало, чтобы добыть информацию. Когда тебе встречается фокусник, безумец, живой мертвец, для которого люди — пешки, который спит с тобой, чтобы прибрать к рукам, тебя тянет к нему как к собственному отражению в зеркале. Ну кому все это нужно? Он не знает, кто ты. Ты знаешь, кто он. Ты дергаешь его за ниточки, а не наоборот. Зачем ты ввязываешься в соревнование, в котором уже победила?
— Можешь высадить меня у светофора. Мне здесь только улицу перейти.
— Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?
— Ты ревнуешь к нему.
— Я — к нему? А почему не к бедняге Надэ, спроваженному в Южную Африку?
Она не отвечает, молча распахивает дверцу.
Он удерживает ее.
— Я ни разу не был в твоей новой квартире. Как там у тебя в гнездышке? Уютно?
— Я как-нибудь приглашу тебя в мое «любовное гнездышко». Пока! Спасибо, что подвез.
С этими словами она выскакивает из машины.
В свою бытность политической беженкой она была для него игрушкой. Став вышестоящей инстанцией, превратилась в палача. Она — самая близкая и самая далекая из всех людей в его жизни. Он не знает, как ее завербовала компартия, когда она стала их агентом. Не знает, какие она любит духи, какой цвет, где предпочитает отдыхать. Он никогда не делал ей подарков, они никуда не ездили вместе. Кто ее любимые писатели? Когда она в последний раз была в кино? Ни разу она не говорила ему, во что верит, чего боится, на что надеется. Они жили в одном мире, шли одним путем, не глядя друг на друга.
Филипп объезжает Люксембургский сад и едет назад по бульвару Сен-Мишель. Дом Аямэй возникает впереди, растет, надвигаясь. Он даже не знает, на каком этаже она живет. И забыл спросить, на каком этаже тот неизвестный, с которым она играет в любовь. Теперь он, враг, узнает, какие духи она любит и какими писателями зачитывается. Он поведет ее в кино и купит ей мороженое.
Терзаемый душевной мукой, Филипп едет в ночь.
* * *
Встречать Новый 1990 год Филипп был приглашен в три места. В час ночи он пришел к другу друга своего друга, который жил около Сорбонны. Дверь открылась. Он увидел толпу пьяных студентов, непонятно как разместившуюся в чердачной комнатке для прислуги. Оглушительно гремела музыка. Он никого не знал и хотел было сразу уйти. Какая-то девушка передала ему стакан, другая налила вина. Он потанцевал, стало жарко; в окно он увидел парня, карабкавшегося по пожарной лестнице, и последовал за ним. На крыше, стуча зубами от холода, тусовалась компания студентов. Из рук в руки переходили бутылка и косяк. Филипп сел, прислонясь спиной к дымоходу. Он мог бы устроиться и в другом месте, но сел именно там. И именно там его ожидала политическая карьера.
Рядом с ним оказалась девушка. Ее звали Мари Вертю. Она училась на факультете современной филологии в парижском Католическом институте. Была недурна собой. В ту пору у нее имелось и другое немаловажное достоинство: она была дочерью личного шофера тогдашнего президента, который к тому же был одно время любовником ее матери. Год спустя Филипп и Мари поженились. Этот брак привел Филиппа, не имевшего никаких связей, прямиком в большую политику. Молодой и перспективный, он стал надеждой правящей партии и стремительно поднялся по служебной лестнице.
Со временем, подобно многим женщинам, которые выходят за мужчин с большим будущим, Мари подурнела, Филипп же, наоборот, делался все представительнее. Муж и жена становились чужими друг другу. Он сохранил стройную фигуру, она расплылась. Он сияет неотразимой улыбкой, она вечно ходит хмурая. Он энергичен, она рохля. Он элегантен в темных костюмах с однотонными галстуками, она носит костюмы кричащих расцветок и обувь без каблуков. Он выглядит лет на пять моложе ее и смотрится коренным парижанином. Она ни дать ни взять провинциальная клуша.
В тридцать восемь лет Филипп чувствует себя в свете как рыба в воде, свободно плавает в этом просторном аквариуме, где золотые рыбки — баронессы, наследницы, телеведущие, литераторши — так и кишат вокруг зубастых акул. Ему лестно подцепить одну из них на званом ужине, но он с радостью возвращается вечером домой к жене. Мари знает, откуда он пришел. Она всегда с ним, в радости и в горе. Мари похожа на инвестиционный трест-фонд, который прибыли не приносит, но и никогда не обесценивается.
Оригиналам, не носящим обручального кольца, Филипп завидует. Ему стыдно своего окольцованного пальца, свидетеля его слабости. Мари — тюрьма, которую он выбрал по доброй воле. Она мать его детей, его нянька, сиделка, жилетка, в которую можно поплакаться. Мари сносит его крики и выслушивает жалобы. Она входит в ванную, когда он чистит зубы и думает о своем будущем в политике. Она знает наизусть все его привычки, все выражения его лица. Видит его в трусах и домашних тапочках, усталым и грубым. Филипп давно свыкся с тем, что Мари — его половинка. Он любит ее той же любовью, что и самого себя: замешанной на снисходительности, презрении, жалости и отчаянии.
Женщины, выходя из дома, держатся за сумочку, а Филипп на жизненном пути держится за Мари и не расстанется с этой тростью, пусть коротковатой и допотопной.
* * *
С балкона шестого этажа Филипп Матло рассматривает Люксембургский сад. Он недолюбливает этот сад, лишенный тайны, его широкие аллеи и круглый водоем. Не нравится ни его геометрическая холодность, ни натужная элегантность, ни счастливый хозяин Сената председатель Лабель, который, вместо того чтобы ухаживать за цветочками и заниматься музеем, активно вмешивается в политическую жизнь, несмотря на свой более чем почтенный возраст — восемьдесят восемь лет. Старейшина партии консерваторов, сидя в своем дворце, замышляет козни и критикует на корню реформы, начатые премьер-министром.
— Ну, как тебе вид?
— Очень красиво. Представляешь, я ни разу не был у тебя с тех пор, как ты переехала. Уже три года!
— Четыре. Ну, идем же. У тебя мало времени, а мы вроде бы должны переспать. Ты принес документ, который я просила?
— Он у меня в портфеле.
— Покажи-ка. Отлично! Именно то, что мне нужно. Итак, вот что происходит: у тебя совещание в девятнадцать часов, ко мне ты приехал в семнадцать тридцать. Мы занимались любовью. Потом ты принял душ. Я тем временем залезла в твой портфель, и мне попался этот документ. Я сфотографировала его и положила на место. Ты покинул мою квартиру в восемнадцать двадцать, ничего не заметив. Нравится тебе мой сценарий?
— Угу.
— Теперь немного музыки, чтобы не тревожить соседей страстными воплями!
Аямэй ставит диск: китайские песни. Несколько раз щелкает фотоаппаратом. Филипп достает из кармана сигареты.
— Ты разве куришь?
— Бросил, а теперь снова начал.
— На, убери бумагу в портфель и возьми, пожалуйста, в кухне чашку. У меня нет пепельницы.
Филипп тащится в кухню. Вернувшись, он видит, что Аямэй стелит постель. Потом она скрывается в ванной, откуда уже слышен шум воды.
— Не забудь намочить полотенце, — бросает ей Филипп, облокотясь о дверной косяк.
— Сама знаю!
— В котором часу он придет с проверкой?
— Это не твоя забота.
Стоя перед зеркалом, она запускает руку в волосы и ерошит их. Он бросает на нее недобрый взгляд.
— Ты не похожа на женщину, которая только что занималась любовью.
— А я и не должна выглядеть удовлетворенной. Ты что, забыл? В ту пору, когда мы были, так сказать, любовниками, ты забегал ко мне перед поездом или по дороге из аэропорта. Делал свое дело по-быстрому, даже не кончал. Твой рекорд: тридцать три минуты включая душ.
— Как бы то ни было, — защищается он, краснея, — ты спала со мной из корысти. Тебя вполне устраивало, что я не задерживался надолго.
Он выбрасывает окурок в унитаз.
— Не спускай воду! — кричит она.
Вздохнув, он вытряхивает из пачки новую сигарету.
— Идем в гостиную. У тебя есть еще немного времени.
Филипп устало опускается на китайский диванчик.
— Хочешь стакан воды или чаю? Извини, я не держу здесь спиртного.
— Нет, спасибо. Ничего не надо.
Она садится напротив него в кресло.
Диск начинает потрескивать. Звучит шанхайский джаз тридцатых годов.
— Скажи ему, что мы занимались любовью на ковре.
— Там будет видно.
Они снова умолкают. После долгой паузы он решается задать вопрос:
— Почему ты работаешь на Пекин?
Она хмурится.
— А почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас?
— Ты считаешь нормальным, что я до сих пор тебя об этом не спрашивал?
Она смотрит на часы.
— Я не хочу говорить о политике. У нас есть еще девять минут. Спроси меня о чем-нибудь другом.
Он вздыхает.
— Ты когда-нибудь думала, чем бы тебе хотелось заняться, если бы ты не работала по этой части?
— Ты хочешь сказать: если бы я не родилась на Тяньаньмынь? Если бы я не была Аямэй? Слишком поздно об этом рассуждать. Я — Аямэй. У тебя осталось восемь минут.
— А ты не думала уйти в отставку? Я хочу сказать: можешь ли ты уйти в отставку?
— Меня просто вышвырнут на улицу. Это будет досрочная отставка.
— Ты боишься смерти?
— Слишком много вопросов на сегодня, Филипп.
— Ты кого-нибудь в жизни любила?
— Ты что, послан французскими спецслужбами разоблачить меня? — бросает она, смерив его взглядом, и встает.
Не спрашивая разрешения, сноровисто обыскивает его.
Филипп отбивается:
— Что ты делаешь?
— Проверяю.
— Ну хватит, Аямэй, это уже паранойя. Ничего у меня нет. Я работаю на тебя!
— Лучше перебдеть, чем недобдеть, — отвечает она и, ничего не найдя, снова садится в кресло.
— Тебе лечиться надо, — после короткой паузы шипит Филипп.
Аямэй снова поглядывает на часы. Вот сейчас она выставит его за дверь, думает Филипп, но она вдруг говорит:
— Да, я любила одного человека.
— Кого?
— Тебя! Когда я впервые тебя увидела, там, в шатре, мне запали в душу твои глаза. В них был огонь, напомнивший мне о Жюльене Сореле, Рюбампре, Растиньяке, этим, наверно, и объясняется мой романтический порыв. Ты хотел жить. И я твердо решила, что приведу тебя к той жизни, которая тебе нужна. Анонимное письмо судье с разоблачением беззаконий, творящихся на корсиканской вилле бывшего министра финансов, соперника твоего патрона, кто, по-твоему, это сделал? Я! А фотографии Мишеля Дорада в Таиланде с мальчиками? Тоже я! Если это не любовь, то что?
Нет, им не договориться. Филипп обреченно вздыхает, слушая перечень своих долгов. Она наверняка занималась любовью здесь, в этой квартире, с агентом ЦРУ. Но где? На кровати, само собой, но есть еще кресло, китайский диванчик, кухонный стол. А может, и под душем, почему бы нет, повалявшись сперва на полу? И после душа: она — держась за раковину, он — вставляя ей сзади, и оба при этом смотрелись в зеркало…
Интересно, как любовник он лучше его, Филиппа? Этого ему не узнать, но она изменилась. В глазах появился блеск. Это железное и несгибаемое создание примирилось с женственностью. Скажите пожалуйста, она и одевается теперь в розовое. Это не по правилам! Тюремщица обязана хранить верность своему узнику. Ей — рай со шпионом, а Филиппу — ад с женой? Она не имеет права. Так нечестно. Так не должно быть!
Не исключено, что этот америкос ее уже перевербовал! Для чего ей эти подложные документы? Не послужат ли они американским козням против французов? Или китайцы хотят деморализовать американцев? Или же китайцы с американцами отвлекают внимание французов, а сами уже спелись? С какой целью? Что за игру ведет шпионка? С кем? Против кого?
Голос Аямэй прерывает размышления Филиппа:
— Время закончилось. Тебе пора.
Он молча берет портфель и направляется к двери.
— Ты не попрощаешься со мной?
Филипп резко оборачивается:
— На каком этаже он живет?
— До свидания, Филипп.
Дверь захлопывается.
* * *
В какой-то прошлой жизни Филиппа Матло звали Жильбером Тюрбо. Его отец Клод Тюрбо держал рыбную лавку в порту Сен-Тропе.
В этой прошлой жизни, когда наступало лето, ставни по утрам не открывали, чтобы сохранить немного прохлады в квартирах с растрескавшимися стенами и скрипучими стульями. Там были высокие потолки и узкие железные кровати. В туалетном бачке плавали куски соленой трески: чем чаще спускали воду, тем лучше они вымачивались. Там и сям под мебелью стояли мышеловки. В кухне блестели разве что медные кастрюли. Маленький Жильбер во фланелевой рубахе делал уроки за круглым столом, посреди которого красовалась ваза на вязанной крючком салфетке. Убедившись, что родители заняты в лавке, он шел к окну и приоткрывал ставни. В щелку ему были видны паруса яхт и полуголые блондинки под ними. Вооружившись скаутским биноклем, он улетал в окно, парил с чайками, садился на мачты, прохаживался по бронзовым плечам, ягодицам и грудям. Лето сменялось зимой. Отец клевал носом за прилавком, а мать, в бигуди и с сигаретой «Голуаз» во рту, играла в тарок в соседнем кафе. Ставни были распахнуты, но набережная пустовала. Дул мистраль, и разбушевавшееся море швыряло прямо в небо рыбацкие ялики.
Подростком, благодаря школьному другу, сыну местного врача, Филипп бывал на летних молодежных вечеринках. С напомаженными волосами и расстегнутым воротом, он курил, строил из себя сумрачного красавца, а сам боялся на шаг отойти от своей компании. В полночь огни фейерверка озаряли небо над заливом, вылетали пробки из бутылок шампанского, и девушки прыгали в бассейн одетыми. Эти ночи были бы похожи друг на друга, не появись в одну из них Эльет. Она сама подошла к нему, он так и не понял, с какой стати. Попросила сигарету, и они заговорили, словно были знакомы всю жизнь. Она призналась, что это ее первые каникулы в Сен-Тропе. Он сказал, что знает здешние места как свои пять пальцев. Ей было скучно на вилле, и они договорились встретиться завтра на площади Де Лис: он обещал научить ее играть в петанк.
В тот день на ней было ситцевое платье, голубое в мелкую гвоздичку, соломенная шляпка с букетом сухих роз на тулье и голубые в полоску полотняные сандалии. Лучи полуденного солнца пронизывали кроны деревьев, и легкие тени плясали на площадке. Бросая шар, Эльет приседала, открывала рот и высовывала язык. Сердце юного Жильбера отчаянно колотилось в груди. Никогда в жизни он не видел таких тонких лодыжек, таких золотистых запястий, такого милого личика. Он впервые оказался наедине с девушкой и последовал примеру опытных соблазнителей из «Чинечитта». Угостил ее мятным лимонадом, ванильным мороженым и пригласил на рыбалку на своей плоскодонке. Она смеялась над его южным акцентом, но ее черные глаза смотрели на него с восхищением. Он добился нового свидания на завтра, и тут вдруг она спросила, чем занимается его отец. Он поколебался между ложью и правдой и предпочел не усложнять себе жизнь. За ней приехал шофер. Она села в машину, помахала ему рукой из-за стекла. Назавтра она не пришла на свидание. Через три дня Жильбер увидел ее издали на вечеринке с каким-то парнем. Он пробился к ней, прошел совсем рядом. Она грациозно повернулась спиной, будто не видела его. Так Эльет де Ландверт изменила судьбу Жильбера Тюрбо.
Он понял, что правда делает слабых еще слабее. На вечеринки ходить перестал. Уехал в Париж учиться и больше не вернулся в Сен-Тропе. Его родители ушли на покой и поселились в Драгиньяне. Поступив в Национальную административную школу, он официально сменил фамилию на материнскую.
Став Филиппом Матло, он проводит отпуска в Бретани, невзирая на тамошние дожди и туманы. Он похоронил плоскодонку в глубинах памяти и учит своих дочерей управлять яхтой. Приняв приглашение богатых друзей, он однажды приехал в Сен-Тропе, будучи экономическим советником премьер-министра. На улицах никто его не узнавал, и сам он не узнал родные места. Ювелирные магазины и дорогущие бутики вытеснили кондитерские, мясные лавки и сапожные мастерские. Отцовской рыбной лавки тоже больше не было. Ее сменили висящие рядами мини-юбки, футболки и сине-белые шарфы болельщиков «Олимпик де Марсель».
На каком-то званом ужине он встретил Эльет и не узнал бы ее, если б не карточка на столе рядом с ее бокалом. Он даже чуть-чуть приударил за ней. Она рассказывала ему про свой недавний развод. Натужно улыбалась силиконовыми губами. В кафе она сунула ему бумажку с номером телефона. На следующий день он пришел к ней в отель; они выпили, и он поднялся в ее номер взглянуть на забарахливший ноутбук.
Аямэй ошибалась, когда говорила, что он был одержим жаждой успеха. Он жаждал одного — яростно, отчаянно жаждал реванша. А утолив эту жажду, продолжал покорять вершины, и манипулировать, и быть предметом манипуляций. Это стало привычкой.
* * *
Филипп Матло набирает код и открывает входную дверь. В холле тихо и сумрачно, как в склепе.
В лифте Филипп смотрится в зеркало и приглаживает волосы.
Кто такая Аямэй? Этот вопрос не дает ему покоя.
Какое оно, скрытое за жестким взглядом и деланной улыбкой ее истинное лицо?
Кого видит она в этом самом зеркале — жертву, чудовище, безумную?
Испытывает ли она муки совести, горе, радость?
Каков ее самый страшный ночной кошмар?
Когда она плачет? Да и плакала ли когда-нибудь?
Знакомо ли ей отвращение к себе, это желание истерзать плоть, чтобы вырвать из нее душу?
Ненавидит ли она свое тело — тело продажной, бесплодной женщины?
Задумывалась ли она хоть раз, кем хотела бы быть, если б не была Аямэй?
Засматривалась ли на улице на женщин, делающих покупки, гуляющих с собаками и детьми, живущих спокойной жизнью?
Обращала ли внимание, что в Люксембургском саду каждый день встречаются мужчины и женщины? Нравятся друг другу, сходятся, женятся, обзаводятся детьми?
Замечала ли она, что по телевизору говорят о вещах, не имеющих к ней никакого отношения: о пожарах и наводнениях, судебных процессах, браках августейших особ, выборах Папы? Неужели она принимает себя всерьез? Как вообще можно принимать себя всерьез?
Знает ли она, что смех выражает радость? Что слезы облегчают горе? Она как-то сказала ему, что ненавидит спать, потому что сон обезоруживает — во сне она уязвима. Сколько же ей выпало спокойных ночей?
А что она думает о смерти — это ведь тоже досадная потеря контроля?
Итак, теперь два шпиона живут в одном доме. Китаянка спит над американцем. Их сны витают рядышком. Лестница с бронзовыми перилами соединяет их жизни подобно пуповине. Влюблен ли он? Влюблена ли она? Если так, то ей конец. А если ей конец, то Филиппу нужно принять меры, чтобы она не увлекла его за собой в своем падении.
Но разве может она влюбиться? Разве такие слова, как «Бог», «любовь», «доброта», не придуманы людьми для порабощения себе подобных? Бог, если Он существует, может быть лишь диффузной энергией, магнитным полем — за гранью добра и зла. Да и существуй Он на самом деле, Ему было бы не до людей, не до зверей, не до звезд. Бог есть. Он оставляет нас в безумии наших заблуждений: мы ненавидим, думая, будто любим, творим зло, когда хотим добра, говоря правду, лжем и страдаем, наслаждаясь.
Двери лифта открываются. Филипп глубоко вдыхает и нажимает кнопку звонка.
— Привет!
В предвечернем свете появляется Аямэй. На ней ярко-розовая рубашка, в большом вырезе почти целиком видна грудь. Выглядит она великолепно. Он целует ее в щеку, стараясь не смотреть ниже. Направляется к балкону.
— Налей мне чего-нибудь. Пить хочется.
— Чего налить? — доносится до него голос Аямэй.
— Воды. Больше ведь у тебя ничего нет.
— Хочешь кока-колы? Я купила целую упаковку.
Взгляд Филиппа окидывает Люксембургский сад и задерживается на Сенате. Сегодня в утренней газете председатель Лабель опять открыл огонь по премьер-министру.
— О чем задумался? Вот твоя кока-кола.
— Ни о чем, любуюсь видом.
Выскользнув на балкон, она встает рядом.
— Красиво, правда?
— Угу…
Голос Аямэй понижается до едва слышного шепота:
— Не оборачивайся. Говори тихо и продолжай смотреть на сад. Джонатан установил у меня в комнате камеру.
— Что?
— Только не двигайся. Пей и успокойся. Смотри, вон там медицинский факультет. А вон Монпарнасская башня…
Поднятая рука Аямэй медленно описывает полукруг.
— Джонатан хочет заснять нас. Его можно понять, это рутинная процедура. Вот тебе случай возобновить наши игры. Ты должен радоваться.
— Я не могу, — отвечает Филипп сухо. — Я не хочу, чтобы меня засняли в чем мать родила, и не желаю давать ему повод для шантажа. Я не могу трахаться перед камерой. Это невозможно, и не проси.
— А мы с тобой уже делали это перед камерой, — выдыхает Аямэй. — Когда ты приходил в мою квартирку у Инвалидов…
Филипп поворачивает голову, вопрошает взглядом. Она кидается ему на шею и целует. Шепчет ему в ухо:
— Надо показать ему нас с тобой за делом, чтобы он клюнул на нашу удочку. И не спорь. Твои старания будут вознаграждены. Судья Вано получит письмо с доносом. Тебе ведь хотелось, чтобы твоего заклятого врага Жака де Вальера привлекли по делу о злоупотреблениях? Давай раздевайся. Да поскорей.
* * *
Невыносимый свет!
Филипп видит, как дергаются его ноги и сокращаются мышцы внизу живота. Чувствует, как течет пот по спине и груди. Читает исступление в улыбке на лице Аямэй. Она торжествует. Демонстрирует абсолютную власть женщины над мужчиной. По ее мановению восстает и опадает его плоть. Его душа куплена ею, его тело ею продано. Она возбуждает его и унижает, возносит на небеса и низвергает в ад. О чем она может думать здесь и сейчас, с раздвинутыми ногами, распростертыми руками, запрокинутой головой? Какие макиавеллевские радости кипят под этим черепом, покрытым волосами? И ее лицо из тканей и костей, нервов и мускулов — почему оно улыбается?
— Встань на колени, — командует он: мстит за эту улыбку.
Она повинуется беспрекословно.
Он закрывает глаза. Аямэй теперь — только пара ягодиц, круп в его руках, самка на случке.
Только ощущение. А что есть этот мир, как не ощущения: горечь, усталость, жар, холод…
Где же этот американец спрятал камеру? Филиппу представляется собственное лицо на большом экране, лоснящийся от слюны подбородок, и эти звуки, брачный крик оленя, свинское сопение. От этой картины хочется бежать без оглядки. Но куда? Его душа пригвождена к телу, он сам к себе прикован. Надо двигать руками и ногами. Быть здесь и получать удовольствие.
Животные спариваются, чтобы произвести на свет потомство, почему же люди ложатся в постель с контрацептивами? Зачем вся эта акробатика, эта бесполезная возня, если не для продолжения рода? Сколько людей на планете совокупляются в эту минуту? Сколько среди них гомосексуалистов, педофилов, садомазохистов, сколько предпочитают оральный секс, пользуются вибратором?
Властным жестом Филипп обхватывает бедро Аямэй. Надо сосредоточиться, иначе ничего не выйдет. Она переворачивается, ложится на спину, задирает ноги. Он ускоряет темп, но возбуждение не растет. Ему недостает убежденности для финального аккорда. Нет, он не даст слабину перед другими мужчинами, бросающими ему вызов через это лоно. К счастью, форму он сохранил. Это преимущество жизни в Нейи, рядом с Булонским лесом, и установленного в квартире, вопреки протестам Мари, велотренажера. Ему пока нет нужды скрывать брюшко, невзирая на завтраки в министерстве, обеды с возлияниями и званые ужины. Удел политика — булимия. Поэтому лишний вес — пунктик Филиппа. Он встает на весы по два раза в день. Крутит педали и бегает, сжигая жиры и с ними угрызения совести за обжорство. Мари не нравится, что он так зациклен на своей внешности. Но ведь растолстеть — значит постареть. Стать похожим на своего министра: три подбородка над узлом галстука, жирная рука в пятнышках «гречки» с сигарой. Лишиться мужской силы, не хотеть и не кончать. Постареть — хуже, чем умереть.
— Сядь сверху, — отрывисто бросает он ей.
Она молча кивает.
Он ложится на спину, чуть раздвинув ноги, уронив руки. Ступни Аямэй холодят ему бока. Она озирается — взгляд полон восторга, — и, согнув колени, садится на него. Он зажмуривается. Влажное тепло окутывает его, стискивает. Он хрипит, изображая упоение. Мужское естество болит, но он продолжает двигаться — пусть думает, будто так возбудила его, что ему не остановиться. Приподняв веки, он видит капли пота на лбу Аямэй. Красная, распатланная, закусив губу, она ритмично подпрыгивает на нем.
— Быстрее! — хрипит он.
Она ускоряет темп. Раскрыв рот, он мотает головой вправо-влево. Его крики переходят в частые свистящие вздохи.
— Давай, сука! Быстрее! Хорошо! А-ах! А-ах!
Не зная, что он наблюдает за ней в щелку из-под опущенных век, она поворачивает голову и улыбается висящей на стене гравюре с китайскими иероглифами. Ее губы растягиваются, открыв два ряда мелких зубов. Пьянея от досады, он дает ей увесистого шлепка по ягодицам.
— Давай же, ну! Быстрее! Кончим вместе… Ты готова? Я уже готов! Да! А-ах!
Он испускает протяжный вопль.
Она обмякает на нем, думая, что он кончил.
Он лежит, ошеломленный. Никогда за всю свою жизнь он не позволял себе так кричать.
Крик опустошил его и принес чувство освобожденности.
Кричать, оказывается, лучше, чем кончать.
* * *
Площадь Сен-Сюльпис. Первая летняя жара; с женщин, как листья с деревьев, облетели одежки. В «Кафе-де-ла-Мэри» Филипп проходит через зал, полный гула голосов и сигаретного дыма, к узкой лестнице слева от туалета. Поднимается по крутым ступенькам.
На втором этаже тихо, ни души. За окном густая листва старого каштана и шпиль церкви.
Она приходит с опозданием. На ней зеленое муслиновое платье. Вбежав, опускается на диванчик.
— Здесь нам не помешают.
Он начинает с комплимента — привычка политика:
— Ты великолепно выглядишь. Какое красивое платье.
— Тебе нравится? С тех пор как я вступила в «Земной Мандат», приходится носить каждый день другой цвет, в строго определенном порядке. Семь дней недели — семь цветов радуги.
— Вот как?
— Ты не находишь, что мне это на пользу?
— И да и нет.
— Послушай, Филипп, сколько ты меня знаешь, я всегда носила черный цвет. Исключение делала только для красного. Ни синего, ни зеленого, оранжевого, желтого — никогда. Теперь я чувствую себя не такой мрачной, более открытой миру.
— Может быть… Не помню…
— Конечно, ты не помнишь. Для тебя женщины — так, мебель в зале приемов. Чтобы было куда присесть, стряхнуть пепел, положить газеты и журналы. Ты когда-нибудь рассматривал мебель на улице Варенн?
— Это обвинение?
— Это попытка объяснить тебе, что «Земной Мандат» придумали не дураки. Мне почти хочется по-настоящему обратиться. Ты давно смотрел на себя в зеркало, Филипп? Сколько лет ты ходишь с кислым лицом, презрительным взглядом, ехидной улыбочкой. Ты ведь был красавцем, когда я с тобой познакомилась. А теперь стал копией твоего министра, брызжешь слюной и размахиваешь руками в точности как он.
— Прекрати меня поучать, — ворчливо отбивается Филипп. — Где официанты, почему к нам никто не подходит? У меня в пять встреча в Сенате.
— Сейчас придут. Расслабься. Погода прекрасная, всем хорошо. Давай порадуемся жизни. Надо жить настоящим.
Филипп усмехается:
— Аямэй, ты влюблена.
Она равнодушно пожимает плечами.
— Да, конечно. Ты всегда прав.
— Он белокур, как серфингист, и красив, как голливудский актер. Его научили улыбаться. Этакий сборный автомат для обольщения, мужчина-биг-мак, загорелый, спортивный, не без «духовности». Полная противоположность упертым революционеркам вроде тебя. Он не мог тебе не понравиться.
— Где ты его видел?
— На прошлой неделе, когда выходил от тебя, встретил у подъезда. Мы улыбнулись друг другу. А ты чего хотела? Надо было поцеловаться?
Аямэй смотрит на него с презрением:
— Подарок принес?
— Да.
Он берет стоявший на полу бумажный пакет от «Луи Вюиттона». Она достает из него дамскую сумочку, встряхивает ее.
— Спасибо, милый!
Целует воздух у его лица и шепчет:
— Ты все сделал, как я просила? Подписал письма, даты поставил?
Он отвечает кивком головы и, помолчав, спрашивает:
— Ты можешь мне сказать, зачем эта подложная переписка между китайскими руководителями и правительством?
— Увидишь.
— Зачем сливать американцам дезинформацию?
— Затем, что это нам на руку.
— Чем это может быть нам полезно? — настаивает он.
Она устало отмахивается:
— Слишком много задаешь вопросов. Чем меньше будешь знать, тем дольше проживешь. Так ты говорил, что я влюблена…
Его злит, что она уходит от прямых ответов, произвольно меняя тему, но спорить нет сил.
— Да, я говорил, что такой извращенке, как ты, любовь доступна только неправедным и извилистым путем лжи.
— Браво, отлично сказано. К сожалению, это он влюблен в меня.
— Как ты можешь быть уверена в его чувствах? Он живет под чужим именем, с фальшивым паспортом. Ты выяснила, кто он такой? Можешь сказать мне его псевдоним, подлинное имя, настоящую дату рождения?
— Пока нет, но мы все узнаем. Он у меня на крючке. Я вытяну из него признание. И выйду на его агентурную сеть.
Взгляд Аямэй скользит к окну, останавливается на кроне каштана.
— Ах, любовь, — вздыхает она. — Ты можешь сказать мне, что это такое?
— Лучше спроси об этом сопливых школьниц и неверных жен.
— Вот и я тоже не знаю, что такое любовь, — говорит она с горькой улыбкой. — Никто не любил меня, и я никого не любила. Когда мне было пять лет, я увидела на углу улицы труп нищего и поняла, что однажды кончу, как он: безымянным телом, гниющим там, где упало. Никто не заплачет надо мной, никто обо мне не вспомнит, никто не узнает меня. За мной приедет телега. Меня сожгут в печи и выбросят мой прах в мусорный бак, который отправится на городскую свалку. Я лишена права жить, как все люди, и не ропщу на судьбу. Но ведь есть в этом мире мужчины и женщины, которые любят и любимы. За них я и борюсь…
Он перебивает ее:
— Кончай пудрить мне мозги своими коммунистическими идеалами. Любовь — иллюзия. Люди любят только себя и ничего больше. В этом мире выживают лишь сильные, а слабые сходят с дистанции. Твой американец ловко притворяется, а ты ему веришь! Между вами никогда не будет чувств. Только соревнование.
Она качает головой:
— Филипп, мы с тобой из одного теста: мы едим, чтобы ощутить вкус, занимаемся любовью, чтобы получить удовольствие или информацию, мчимся вперед, убегая от прошлого, от настоящего, от вечности. Чтобы никогда не дать промашки, мы должны прежде всего выхолостить наши эмоции, запереть на замок чувства. Любовь есть… но эта вершина недосягаема для нас.
Филипп больше не слушает ее бред. Они перестали понимать друг друга. Она изменилась. С чего вдруг эта апология любви? Аямэй, которую он знал, была змеей, удавом. Джонатан Джулиан загипнотизировал ее своими байками о духовности. Похоже на то, что она взбунтовалась против Китая, против Франции, против себя самой — порождения ненависти. Филипп не забыл, что она была лидером демократического движения и что, перевербованная правительством, стала шпионкой-коммунисткой. Что же происходит сейчас — новый вираж?
Аямэй с Тяньаньмынь, преследуемая солдатами, Аямэй, замученная полицейскими, потом — заброшенная в Париж, без багажа, без документов, без знания языка, Аямэй, построившая жизнь в противовес своему прошлому, Аямэй, которая лгала, воровала, продавалась, плела агентурную сеть, кажется, наконец устала. Американцам, судя по всему, удалось нащупать ее слабое место. Поманив ее утопией любви, Джонатан Джулиан сулит ей исцеление от навалившегося отчаяния и нажитой шизофрении.
Аямэй встретила человека, похожего на нее. Оба они мифоманы и мошенники. Оба предатели и убийцы. Филипп содрогается, представив себе счастливые часы, проведенные фальшивыми любовниками вместе в доме 21 на площади Эдмона Ростана. Вот она накрасилась, надушилась, надела кружевные трусики. Тысячу раз посмотрелась в зеркало: красива ли? Он стучит в дверь. Входит. Они лгут друг другу, точно пара воркующих голубков. Она показывает ему свои трофеи: смотри, что удалось раздобыть сегодня! Довольный, он целует ее: продолжай в том же духе! Заливаясь краской от гордости, она морочит его, позволяя себя целовать. Они раздеваются, падают, обнявшись, на постель, повторяют, как заученный урок, пламенные тирады и влюбленные шепоты. Сойдясь в игре иллюзий, ослабив бдительность, оба забывают о реальном мире, в котором они враги. Персонажи, которых они воплощают, влюблены — и она влюбилась! Почему бы нет? Она знает, что у них в багаже одинаковый опыт, одни и те же рецепты для жизни, что они терзаются одинаковыми страхами и обречены на одно и то же одиночество. У нее есть фора. Ей жаль его. Но что может быть для шпионки опаснее жалости?
Как узнать наверняка, переметнулась ли она в лагерь Джулиана?
— Что с тобой? О чем ты думаешь?
Она буравит Филиппа подозрительным взглядом.
— Ни о чем… Я просто пытался представить себе твое детство, ту маленькую девочку, еще не знавшую, что ее ждет участь образцовой шпионки.
— Ты слишком много думаешь, Филипп. Что это ты вдруг мной заинтересовался?
Он не знает, что ответить.
— Без восьми пять. Тебе пора.
Вот и долгожданный случай отыграться.
— Ты постоянно смотришь на часы. По-твоему, можно подчинить свою жизнь стрелкам? Расслабься.
Она будто не слышит.
— А официант так и не пришел, — язвит Филипп. — Ему-то спешить некуда. Ну да ладно.
Он наклоняется за стоящим на полу портфелем. Видит бумажный пакет под столом и решительно подхватывает его.
— Я только сейчас вспомнил, что дал маху с заключительными формулами вежливости в письмах. Они не совпадают с принятыми в министерстве, мы рискуем попасться. Надо их исправить.
Аямэй вырывает пакет у него из рук:
— Не беспокойся. Фальшивой подписи твоего министра мне достаточно. Фирма Джонатана посылает его в командировку в Куала-Лумпур. Завтра у него самолет. Он должен отправить это досье сегодня вечером.
— Но…
— Никаких «но»! Иди, ты опоздаешь. Закажи для меня чай с лимоном, если встретишь внизу официанта.
Выйдя из кафе, Филипп направляется к площади. Вдруг начинают звонить церковные колокола.
«Если Аямэй станет „кротом“ американцев, что мне делать?» — терзается он вопросом.
Взлетает, хлопая крыльями, стая голубей.

