Книга: Мурлов, или Преодоление отсутствия
Назад: Глава 54. Дурила среди одуванчиков
Дальше: Глава 56. Гера. Кому таторы, а кому ляторы, или Полет духа без трусов
Глава 55. Nihil humani
«Магистрат вечно вольного города Галеры» – было написано справа и слева от парадного подъезда на семи языках, включая арабскую вязь и китайские иероглифы.
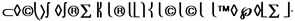
– а эта абракадабра занимала фронтон над входом.
– Дурила, это ваш язык?
– Это язык символов, Боб. Наш язык. Хочешь понять нас, учи язык. Иначе бесполезно что-либо тебе объяснять.
– Видно, помру неучем, – вздохнул Боб. – Мне всегда с трудом давались языки. Скользкие они.
– Рассказывай… А заливные говяжьи языки, широкие, как заливные, они же пойменные, луга, а павлиньи языки под острым маринадом «Херейро»? – Рассказчик облизнулся и остро, как маринад «Херейро», посмотрел на Боба. Тот обмяк от воспоминаний.
– Смотри, а то есть курсы языка символов. Здесь я оставляю вас одних, господа «херейры», – сказал Дурила. – Прямо, потом налево. Там вас ждут. И пойменные луга и еще многое.
– Как тебя звать-то, друг? – спросил Боб, но мужичок, ничего не ответив, покачал головой, повернулся и быстро ушел.
Перед входом сидело должностное лицо в ливрее. «Должностное лицо» – называется так потому, что по его лицу сразу видно, что оно должностное. Это как твердый сорт сыра – сразу видно, что он твердый. К твердым сырам относится, например, сыр «Советский». Его до сих пор не переименовали в сыр «Российский», наверное, оттого, что сыр «Российский» уже есть, а «Буржуазного» пока нет. Кстати, не обращали внимания на словосочетание «сухой сыр»? Не правда ли, странно: сухой сыр. Сочетание не сочетаемого. А ведь в этом сочетании и весь цимус. Так вот, оно (должностное лицо) внимательно посмотрело на нас круглыми, как дырочки в сыре, глазками и, ничего не сказав, нажало на кнопочку и пропустило нас в здание. Вертушка в проходе завертелась и пропустила нас в просторный вестибюль без какой-либо мебели, без плакатов, надписей и ковровых дорожек. Было такое ощущение, что нам сейчас предложат раздеться. Впрочем, в туннеле мы это уже проходили. Мы пошли налево, как говорил Дурила, и уткнулись в зарешеченное окошко «Бюро пропусков». Слава богу, надпись на человеческом языке. В окошке торчала табличка «Перерыв». Стандартная ситуация: всегда приходишь к концу или, в лучшем случае, к перерыву.
Мы матюгнулись: Боб баритоном, Борода басом, Рассказчик славянизмом, я про себя. И тут же, как от заклинания, окошко вместе с решеткой открылось и из него вылезло на длинной шее длинное любезное лицо.
– Вы с перевала? – улыбнулось оно. – Одну минуточку.
– С перепила, – буркнул Боб.
Лицо – длинное, любезное и официальное одновременно, но не такое, как должностное, а помягче, наподобие плавленого сырка «Дружба» – вышло к нам, поздоровалось за ручки, пригласило в кабинетик и усадило на деревянные, как в электричке, скамейки, обитые вагонкой. Я пытался найти отметку «МПС» и лицо пару раз косо посмотрело на меня.
– Заполним анкеточки…
– Опять! – воскликнул Боб.
– Как? – удивилось лицо. – Вы уже заполняли? Где?
– Да тыщу раз! Я столько потратил времени, расписывая, что холост и владею английским со словарем, что за это время мог бы пять раз жениться и овладеть английским в совершенстве.
– Так в чем же дело? – улыбнулось лицо. – Почему вы вместо этих благородных занятий занимались заполнением анкет? Это была ваша работа? Впрочем, можете не отвечать, но если сочтете нужным, заполните графу «Прочее». Вы же у нас еще не были? Не были. Так что пустая формальность: несколько вопросиков. И вы свободны, и вы свободны.
– О, совсем?
– Ну, разумеется. В рамках нашего города. Что за пределами города – это не в нашей компетенции. Пройдете месячный карантин под наблюдением врачей. После чего вам выдадут справки о пройденном карантине и вакцинациях. Получите доступ на прием к заместителю мэра по миграционной службе. Там решится ваша дальнейшая судьба.
– О! – Рассказчик поднял бровь и многозначительно посмотрел на нас, но ничего более не добавил и положил руку Бобу на плечо.
– Нам бы в баньку да поесть, а уж потом можно и о свободе поговорить, – жалобно сказал Боб.
– Понимаю, понимаю, – сказало лицо. – Вас проводят, вас проводят.
– Достаточно одного раза, – буркнул Боб.
Лицо не поняло.
– В вашем распоряжении двадцать минут. Других чистых бланков нет. Исправления и помарки не допускаются. С ними анкета считается недействительной, уничтожается по акту за тремя подписями, и анкетируемый возвращается к тому месту, откуда прибыл в Галеры, со всеми вытекающими для него последствиями. Последствия, предупреждаю, могут быть самого неприятного свойства. Например, вы навечно теряете благорасположение местных властей и вследствие этого впоследствии попадаете под следствие.
Мы стали заполнять анкеты, и тут раздался из-за ширмочки ужасно неприятный звук. Короче – скрежет, от которого в голове становилось мутно, а на душе муторно. Чиновник подошел к ширмочке и передвинул ее в сторону. За ширмой был верстак и мужик в фуфайке свирепо сдирал драчовым напильником с большой трубы ржу. Труба лаяла, у нас сводило зубы, а эхо как-то самостоятельно отдавалось непонятно где далеким скулом.
– Вы свободны, – сказал чиновник и передернулся от железных тех звуков. Мужик отряхнул с себя ржу, с грохотом кинул напильник на верстак и, поклонившись, вышел.
– Это наш лучший электронщик в дворцовой охране, – пояснил сырок «Дружба».
Он подравнял перекосившийся на стене ковер, похожий на флаг Саудовской Аравии. А может, то был флаг, похожий на ковер? Чиновник вернул ширмочку на прежнее место.
Вопросы были обычные, в основном надо было подчеркивать или «да», или «нет». Только в одной строчке ответ не предполагал выбора: на вопрос – были ли Вы раньше в Галерах? – следовал ответ – нет. Его тоже следовало подчеркнуть. Если не подчеркивать, можно было впоследствии схлопотать последствия, а из них и следствие.
– Позвольте вопрос? – поднял голову Рассказчик. – А то мне плохо.
– Что такое? – спросил служитель анкетного культа. – Не ясен вопрос? Вопросы подобраны для среднего Ай Кю. У вас какой Ай Кю?
– Тридцать пять сантиметров.
Боб вспыхнул радостью.
– Так в чем же дело?
– А дело, сударь, видите ли, в том, что я должен ответить на вопрос «Ваш любимый писатель».
– Ну и отвечайте, – пожал плечами служитель. – Что же тут сложного? Фамилию забыли?
– Сложность вопроса и состоит в его простоте. «Ваш любимый писатель» – это как «ваша любимая пища или песня»…
Боб толкнул меня локтем и подмигнул: дает Рассказчик! Он им тут сейчас разнообразит всю эту сухотень. 35 сантиметров!
– Сегодня любимая пища одна, завтра другая. Утром муторно от той еды, что съел вечером, а вечером смотреть не хочешь на ту, что давали утром в буфете. Вот сейчас мне, кроме Кафки или Мисимы, никто не идет на ум.
– Не говорите ужасов!
– А вот если взять шире…
– У вас кончится ваше время, – предупредил служитель.
– Все мое ношу с собой. Куда оно без меня денется? Так вот, если взять пошире, а только так надо ловить мысли и рыбу, как только я беру шире, тут мне и становится плохо. Я начинаю говорить и тогда плохо становится всем. (Чиновник вертел в пальцах карандаш.) Когда я голоден, как волк, – что может быть лучше Рабле? Когда мне ноздри щекочет воображаемый запах дичи – я читаю Гомера. Когда мне хочется сладкого, но с горьким осадком, – я беру Гоголя. Когда я хочу чего-то такого изысканного, чему и слов нет, – я капля по капле цежу Хименеса. Когда мне надо набить брюхо – я читаю Плутарха. Когда я болен и мне не до еды – у меня на столике Акутагава. Когда я сыт и мне хорошо – я читаю «Гека Финна», «Остров сокровищ», «Человека-невидимку», несравненного мастера. Когда меня тошнит от сладости – я беру Сервантеса или Свифта. Последний, кстати, незаменим при изжоге. Когда же, напротив, меня тянет на сладкое – нет ничего лучше Фицджеральда. Когда я хочу горбушку с чесноком – я беру Чехова и Толстого. Пощелкать орешки – Оскара Уайльда. Если тянет на солененькое – изумителен Борхес. Когда живот бурчит и хочется всего, и ничего нельзя – помогает Достоевский. Когда хочу забыться – хорош папа Хэм. Ну, а шампанское заменяет Пушкин. Я могу продолжать. И продолжать еще очень нудно и долго. Ведь есть еще Маркес, Звево, Камю, Грины разных оттенков… О! А Мэтьюрин, Потоцкий, Хуан Рульфо! Последний сейчас как раз отвечает моменту. Ведь есть еще пропасть писателей, чьи произведения напоминают определенную диету или очистительные курсы, совершенно несъедобную мякину или ценные пищевые добавки, соусы или хрен с редькой… Вот мне и плохо, оттого что я не знаю, кого же мне произвести в генералы. Запишу, пожалуй, все же Кафку. Я, похоже, сегодня наелся вот у его Брательника мухоморов.
– Пишите Кафку, – согласилось лицо. – Только не ошибитесь в написании слова. Пушкин – было бы попроще.
– Может, подскажете? – залебезил Рассказчик.
– Неположено! – отрезал чиновник, но тут же смилостивился, как классный руководитель на экзамене в школе. – Не знаете – пишите Пушкин или, кто там еще, такой же, Демьян Бедный, например.
– О! Как это я о нем забыл! Благодарю! Пишу: Демьян Бедный. Благозвучное имя. И, кстати, после него в нашей литературе заварилась вся эта демьянова уха и любимой сказкой всех советских детей стала сказка о том, как бедный дурачит богатого. А вообще-то, уж коли я начал этот разговор, для чтения ничего нет лучше словарей. В них мало воды и нет эмоций. Правда, тоже не во всех… Друзья мои! – вдруг патетически воскликнул Рассказчик.
Боб вскочил и замер по стойке «смирно». Следом поднялись и мы. Ошалевший чиновник тоже приподнялся на полкорпуса. Пафос.
– Друзья мои! Книги – моя земля! Я есмь книжный червь, произошел из книг, живу книгами и, даст Бог, останусь прахом в книгах. И тогда с полным основанием можно будет сказать обо мне: «Вся жизнь его пошла прахом!»
Я добавил:
– И да будут книги ему пухом! Аминь!
Боб рукавом вытер слезы. Все сели, а чиновника слегка заклинило. Он опустился на стул через минуту. Мы уже старательно скрипели перьями.
– Да! – вскинулся вновь Рассказчик. – Совсем забыл!
– Что такое? – нахмурился кадровик, пощупав себе поясницу.
– Это, правда, не имеет прямого отношения к выбору любимого писателя, но, хоть и косвенно, на этот выбор влияет. Мне кажется, со временем авторы книг незаметно проникают в ткань повествования и начинают жить жизнью второстепенного персонажа, изнутри посмеиваясь над основными (главными) героями и над читателями. Если сравнить издания прошлых веков и современные «Илиаду» или «Дон Кихота», в последних наверняка появилось по одному «лишнему» персонажу.
Чиновник задумался, а мы вернулись к нашим анкетам.
Мы аккуратно заполнили бланки. Лицо просмотрело их. Удовлетворилось. Потеплело. Как дачник в первую декаду мая. Еще бы – ведь мы засеяли его очередную грядку не какими-нибудь, а элитными семенами. Он только поинтересовался у Рассказчика:
– Почему вы написали не Кафку, не Пушкина, не Демьяна Бедного, а… – он посмотрел в анкету, – какого-то Мурлова?
– Это вот он, – Рассказчик ткнул в меня пальцем. – Я столько времени с ним в пути, что остальных не помню даже в лицо, не то что по фамилии. «Все прочее – литература». Вот вы, сударь, – обратился он вдруг к чиновнику, – что помните из школьного курса электричества?
– Я? Закон Ома…
– А еще?
Чиновник покраснел.
– Вот и я: его помню, а других нет… Истинно сказано: составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела, – шепнул мне Рассказчик.
Явился тип восточного мужчины, то есть мужчина восточного типа с бесстрастным лицом, спросил: «Блохи есть? Вши? Иные гниды?» – и, не дожидаясь ответа, отвел нас в «Обмывочный пункт», представляющий собой два ряда душевых кабинок с наполовину отсутствующими кранами и душами, с парилкой на двух персон под самым потолком, как голубятня. Но клозет или, как больше нравилось именовать его Корнею Ивановичу Чуковскому, нужник – был отменный. Чистый, светлый, как будущее, и везде лежали бумажечки – стопочками и в рулончиках. Трогательная, правда с некоторым онанистическим оттенком, надпись на стене предупреждала о том, что «Культура человека проявляется наедине с собой», и, очевидно, для повышения этой культуры по стенам красовались надписи со стрелками и указатели: «Щетка для унитаза», «Бачок для слива воды», «Бумага для» (без указания, для чего), «Унитаз» и «Писсуар» (тоже без указания).
– Борода, пожалуйста, будь внимателен, не спутай писсуар с Писсарро, – сказал Боб. – Здесь к грамматике относятся строго. Это тебе не мазок класть.
Рядом с унитазом на стене висел телефон. Под ним в рамочке: «В службу спасения звонить 011».
– Распишитесь за банные принадлежности, – попросил банщик. – Полотенчики вафельные, но свежие. Вам тоже? – обратился он ко мне.
– Мне, пожалуйста, если можно, только шапочку под шлем. Моя обветшала и засалилась. Бельишко я тут недавно менял.
– Понимаю. Есть кипа. Устроит?
– Какие они тут все понятливые! – зашумел Боб, когда мы остались одни. – Мне ни черта не понятно, а они, как попки: «Понятно! Все понятно!» Сейчас проверю их понятливость. Намекну на пивко с раками. А то что за помойка без пива с раками! Маэстро! – позвал он банщика, высунувшись по пояс в коридор.
– Одну минутку! – откликнулся тот.
– Щас проверим, – напевал Боб, – щас проверим их понятливость. О, шлепает. Ща-ас… – Боб широко развернул свою мужицкую грудь, отставил почти как балерун правую ногу под углом 90 градусов к левой, с княжеским достоинством поднял подбородок, обе руки протянул в направлении входа. Когда шлепанье приблизилось к двери, Боб откашлялся и, совсем как Борода, загудел:
– Га-ал-убчик, как тут у вас-с…
Вошла молодая женщина. В белом халатике, в шлепанцах…
– Здравствуйте, – мило улыбнулась она и, обойдя Боба, как статую, спросила. – Веничком? Или массажик? – она хлопнула его по попке. – Понятно?
Боб сглотнул слюну, покачал правой ногой и, опустив руки, как футболист при штрафном, сказал:
– Веничком. А потом массажик… с пивом.
– Одну минутку. Я сейчас переоденусь. Поднимайтесь пока в парное отделение.
Боб подмигнул нам и, прихлопнув ладонью кулак, полез в голубятню.
Женщина «переоделась» и голая последовала за ним.
– Однако! – у Рассказчика отвисла челюсть. – Хороша-а…
Женщина свесилась сверху:
– Плохих не держим.
– Ка-ка-я на-ту-ра! – взревел Борода. – В натуре, где мой мольберт?
– О, эти термы Каракаллы! Наружу пот, а внутрь катарсис! – воскликнул Рассказчик.
– Чего раскаркался? – спросил Борода.
Наверху зашлепал веник и шлепал по натуре до того долго, что нам стало невмоготу.
– Тоже ведь хочется попариться, а пары нет, – сказал Рассказчик.
– Пар легче воздуха – он наверху, – сказал Борода. – Здесь пару не найдешь.
Через полчаса мужское отделилось от женского и из пара явилась пара. Боб с массажисткой, как боги, спустились с высот голубятни к подножию керамической плитки, залезли под холодный душ и с наслаждением подставили сильным струям освежающей воды свои красные красивые тела.
Я, как старичок, нежился под тепленьким душем. В баню мне, к сожалению, было нельзя – там бы я поджарился в доспехах, как цыпленок в фольге.
– Не заржавеешь, дядя? – спросил голый пацаненок, взявшийся непонятно откуда. И тут же свистнул мое мыло.
– За мной не заржавеет, пацан.
– Смотри, могу мочалку дать.
– А я могу дать тебе по шее. Вали отсюда, мне стыдно. Мыло положи, где взял! Казенное!
«Дети ничего. И бабы ничего. Наверное, и жизнь ничего», – подумал я.
– А, Боб?
– Нихиль хумани, – ответил Рассказчик. – Ничто человеческое… Это я не о тебе, Борода. Кстати, у тебя порфирия с луковкой, случаем, в портфеле нет? Организовали бы, гляди, второй тройственный союз.
Но Борода не слышал его. Он крякнул и тоже подался в «голубятню» размягчить «старые косточки». Было хорошо слышно, как он хлестал себя веником, поддавал пару и горланил народные песни. Минут через двадцать он с ревом вырвался из этого ада, вывернув парную наизнанку, как чулок, а на здоровенных своих плечах вынес косяк и так с ним и попрыгал вниз по лестнице. В этот момент он очень напоминал ожившую картину Рубенса.
После бани нам выдали под расписку причитающееся нижнее белье – по комплекту на рыло, черные тапочки, называемые в разных местах по-разному: чувяками, чириками, чеботами, чуньками, прощай моя молодость и пр., спортивные костюмы стального цвета, мне черную шапочку, позаимствованную где-то на Ближнем Востоке не иначе как самим Готфридом Бульонским. Наши стоптанные башмаки и тряпье побросали в корзину с надписью «Second hand (For Russian)».
Борода с Рассказчиком с наслаждением облачались в чистую одежду.
– Ой, а я бы так еще походил голенький. Попочке так приятно-приятно. Овевает живительной прохладой.
– Походи, Боб, походи. Только лучше ближе к полуночи. По набережной.
– Ладно, Бобушка, в другой раз, голубчик, – стал уговаривать сам себя Боб. – Теперь свежего воздуха у тебя будет много, очень много. Рыцарь, может, заменишь феррум на лен? Жалко на тебя смотреть.
– Не смотри. Жалко у пчелки.
Мы вышли на улицу. Яркое солнце ударило в глаза. Мы зажмурились и почти без сил упали на скамейку. Напротив сидел тип с востока.
– Да, братцы, она же мне пива не дала! – воскликнул Боб.
– Не дала? – спросил Рассказчик и подмигнул нам. Борода захохотал так, что от нас шарахнулись два одиноких прохожих. Восточный тип встал, на взгляд измерил высоту солнца, посмотрел бесстрастно на запад, а потом выразительно на нас. Мы встали и пошли за ним через пустынную площадь к ресторану. Он интересно шел, тень колебалась за ним, как маятник, как хвост за ослом.
Ресторанчик был уютный, двухуровневый. Собственно, на высшем уровне размещался только оркестр, сразу за которым находились номера.
– Предпочитаете здесь или кабинетик? – безошибочно обратился метрдотель к Бобу.
– Предпочитаем здесь, – небрежно кивнул Боб в правый угол, где под раскидистой пальмой, усыпанной чирикающими птахами, размещался стол на восемь персон.
Я налег на стол и сдвинул его вместе с ковровой дорожкой в сторону.
– Так будет безопаснее, – указал я на «поющее» дерево и беззаботных птичек на нем.
– Этот столик забронирован именно для вас, – любезно сказал метр. – Девушки будут поданы к закуске.
– Премного благодарны, – сказал Боб. – К закуске это хорошо. А после закуски еще лучше. Лишь бы не вместо закуски. И не под закуской. Как павлиньи языки, а, Рассказчик? Намордник-то сними, – бросил он мне.
– Ваш стульчик первый. Ваш третий. Ваш пятый. Ваш седьмой. Я полагаю, господам излишне напоминать, что нечетные номера это мужские, а четные женские. Благодарю вас.
Метр принял от нечетных (символизирующих активность) стульев заказ и достойно удалился. Вкусы четных (так называемых пассивных) стульев ему были знакомы. (Хотя, кто видел хоть одну пассивную женщину, а? Покажите мне его! Но сначала покажите ее. Хотя, нет, не надо.) Первыми были поданы напитки: водка ледяная особо чистая, водка на клюкве в графине, горилка с красным перцем и водка со змеей, свернутой колечком. Потом в граненых графинчиках водка пальмовая, чача и сакэ. Любимые напитки всех времен и народов.
Возник изящно небритый толстячок, в обтянутую вдоль себя полоску и улыбкой поперек. Хозяйски огляделся. Покивал крупной головой. Прошустрил туда-сюда по ковровым дорожкам. Короткой ручкой смахнул что-то невидимое со столов. Справился у нас, подавали ли закусочку, пришли ли дамы, словно и закуски и дамы были невидимками. Услышав, что дам и закусок еще не было, почмокал сочными губами. Что-то прикинул в уме. И сгинул. А через три минуты свалился на наши головы с девицами в обнимку.
– А вот я вам дам! – весело воскликнул Клод ван Дамм и представил нам девушек: – Соня! Тоня! Маня! Кавалерия!
И еще не отзвучало в ушах «…е-рия-а!», привертелся круг с закусками веселеньких расцветок. Я люблю закуски: после них идут горячие блюда, чего, к сожалению, не скажешь о десерте. После десерта обычно уже идут ко сну или кто куда. Поэтому и девушки к закуске, чего бы там ни молол большой знаток женщин Боб, обещают большее, чем девушки к десерту. «Вам дам» знает в этом толк и заботится о том, чтобы клиенты даром не теряли время. Ведь от закусок до десерта девушка может успеть стать даже бабушкой, если с ней как следует посолонцевать рыбку. Впрочем, кому как нравится. Байрону, например, было приятно услышать отзвуки его славы до обеда, а девичью игру на арфе – после.
Итак, как и было обещано, девушки и закуски явились одновременно, заглушая друг друга полнотой, фактурой, вкусом, цветом и запахом. Девушки вне конкуренции могли воздействовать только на один орган чувств – слух, и, надо заметить, преуспели в этом. Они о-очень хотели понравиться нам, ну, очень-о-очень! Они прощебетали приветствия, еще раз представились – Соня-Тоня-Маня-Кавалерия – и втерлись между нами, прежде чем мы успели встать и подвинуть им четные стулья.
– Вы из-за перевала? – ужасались они уже после первой стопки. – Ну, и как там?
Мы рассказывали про наш путь, и они ужасались про наш путь. Мы рассказывали, кто мы, и они ужасались, кто мы. Мы рассказывали, как у нас там за перевалом, и они ужасались, как у нас там за перевалом. Мило так ужасались – с круглыми глазами и набитыми щеками. Наши слова отражались в них, как в зеркале ужасов, и если мы шутили, они ужасно смеялись, а если говорили что-то серьезное, они ужасно морщили хорошенькие полные мордашки, не созданные для морщинок.
– «Техника кракле», – подмигнул мне Рассказчик. – Стараются.
Но на все наши расспросы о городе, его жителях, нравах, обычаях, сплетнях, планах и чаяниях – девицы отделывались хихиканьем. Мы не были назойливы и остаток вечера тешили их анекдотами. Благо, на ветке сидел белый попугай. Наклонив смышленую головку, он внимательно слушал и запоминал все наши хохмы. Потом начались танцы, все танцы были белые, как лилии, и только танго. С твистом мне пришлось бы попотеть. И погреметь. Впрочем, может быть, и нет. Боб шел нарасхват. Сначала девицы пробовали растащить его по частям света, но на это у них явно не хватало силенок. Тогда они мудро скооперировались. И вот уже следующее танго они танцуют втроем. Потом – вчетвером. А аргентинское – уже впятером. И Боб уже ваяет в воздухе неуловимый облик страстной любви. Любви жестких ритмов. Любви кинжалов и яда. Любви без улыбок и слов. Да что там говорить, что там сказывать, это была его стихия, в которой мы были против него щенки. Впрочем, почему против? Напротив, мы были за него. Раз у него так хорошо получается. Профессионально, как у зрелого падишаха. Еще бы, он ведь и в той своей первой кошачьей жизни был у баб нарасхват! Значит, это его сверхзадача. Еще два танго исполняет неразлучный теперь квинтет и исчезает, а наше трио плотно занялось напитками и горячим, которое соответствовало этому причастию. Что ж, каждый причащается, как у него получается.
Через весьма неопределенное время к столу вернулись не то два, не то три Боба с целым батальоном ужасно хохочущих девиц и ржущей Кавалерией. Они усадили всех Бобов на какие-то дополнительные приставные стулья и стали кормить их с десертных ложечек и поить из своих аппетитных ручек гранатовым соком, соком любви. Все рожи, усы и одежды на Бобах были пропитаны этим соком и девицы с хохотом слизывали его.
– Боб, где твоя книга отзывов и предложений? Пусть девушки напишут.
– Бобик, она наверху, – защебетали девушки и увлекли слабо сопротивляющегося Боба наверх в угловой кабинет, где на все их предложения он ответил отзывом.
– Геракл! – коротко сказал Рассказчик и вздохнул.
Нам также были отведены три так называемых «кабинета» с двуспальными кроватями и широкими окнами на Набережную Грез, и мы были бережно отведены по этим покоям невидимыми лицами. Последнее, на что я рассеянно обратил внимание, было то, что набережная была освещена как днем и на ней не было ни души. Видимо, был очень поздний или очень ранний час. Возможно даже, они совпали. Оттого такой в глазах и душе резонанс света и пустоты. И еще вроде как луна в окне светила… Или то белело женское лицо?..
Проспали мы до обеда, как убитые. Разбудил нас, как ни странно, Боб. Он обошел нас всех по очереди, наполняя наши покои шумом и беспокойством, а также одним и тем же идиотским вопросом: «Что, тоже не спится?», после которого очень хотелось дать ему по морде.
– А мне приткнуться всю ночь негде было: в кровати, в кресле, по углам какие-то бабы, бабы, бабы… Шестнадцать штук. Семнадцать – без Аси.
– Предатель, – дружно по очереди и достаточно явственно сказали мы ему и отвернулись к стенке. Правильно, кто же это хвалит друзей, не продрав глаза?
– Ну вы же знаете меня, – ничтоже сумняшеся ответствовал Боб. – Я не могу отказать человеку в его последней просьбе.
– Вот у этих человеков и ищи приют, а нас оставь в покое. Запомни только, у них никогда эта просьба не бывает последней.
– Да-да, вспомни Мериме, – сказал Рассказчик.
Кстати, у него Боб и нашел свой приют. В покое Рассказчика, как самого податливого и интеллигентного, был тот самый покой, к тому же последний по счету, после которого покоя больше не было. Боб тут же и захрапел, как утомленный дракон.
Когда за столиком на ресторанной веранде собрались Борода, Рассказчик и я, уже приготовлял свое опахало вечер и в воздухе запахло приближением Венеры. Мы с совершенно пустыми головами потягивали прохладительные напитки, заказав у расторопного малого «чего-нибудь совершенно легкого, для начала». Тут же мы и образовали, по предложению Рассказчика, священный тройственный союз, второй в новейшей истории, дали обет безбрачия и с легкой душой принялись за обед.
А через пару часов, зевая и потягиваясь, явился Боб и без лишних вступлений заявил, что принимает мусульманство.
– Я справлюсь, – сказал он. – В конце концов, мусульман в мире сотни миллионов. И у всех по четыре бабы.
– Соня, Тоня, Маня и Кавалерия, – сказал Борода. – И не меньше миллиарда.
– Если в одном месте убудет, в другом прибудет, – сказал Рассказчик. – Благословляем тебя. Ну а нам больше выпивки достанется, раза в два на каждого.
– Вот этого я как-то не учел, – сказал, садясь на стул, Боб. – Я еще раз крепко подумаю. Послушаю голос совести.
– Да уж, Боб, подумай. Послушай. Главное, не останься на бобах.
Собирающиеся в ресторан граждане и особенно гражданки шушукались и с интересом поглядывали на нашу компанию. Скорее всего, их интересовал в первую очередь приезжий мусульманин Али-Боба, поскольку такого раньше у них не было и просто не могло быть. Почтенный отец семейства, восседавший во главе стола рядом с нами, внушительно произнес, видимо, в назидание потомкам:
– А я бы взял секатор и этим секатором кое-кому из секачей произвел бы секвестр!
Потомки сдержанно захихикали.
Рассказчик кивнул на папашу:
– Не иначе как финансист. Боб, храни деньги в сберегательной кассе!
– У меня всего две монеты, – сказал Боб. – Неразменные. И звонкие. Но в сберегательную книжку не поместятся.
Однако вечер прошел спокойно и пристойно, и в урочный час мы все сладко дрыхли по своим кроваткам. Под утро меня разбудил комар. И не тем, что пил мою кровь, а тем, что тревожил мою душу песней звонкой своей, песней торжествующей любви.
На следующий день Боб заявил, что пока не решил вопрос о вероисповедании, а потому на сегодня у него намечен день профилактики и он не прочь прошвырнуться с нами, его верными друзьями, по городу. Наш прекрасный союз не возражал, и мы вчетвером вышли на булыжник «Набережной Грез», носившей ранее название «Набережная Флагетона». Только сейчас мы обратили внимание на то, что ресторан тоже называется «Ресторан Грез». Наше любопытство удовлетворила находящаяся тут же мемориальная доска, из которой мы узнали, что эта громадная, вымощенная булыжником площадь, да и сам ресторан, мало напоминающие девичьи грезы, – и на самом деле к ним не имели никакого отношения. Названы они были так не в честь известного слащавого французского живописца Жана Батиста Греза, а в честь его мужественного брата, французского фельдмаршала Филиппа Батиста Греза, сложившего голову на баррикадах Галер во времена взятия Бастилии.
– Я полагаю, историкам Франции это имя мало о чем говорит, – произнес Рассказчик. – Впрочем, иное время – иные сказки. Ну, а то, что написано «Грез», а не «Греза», это скорее всего указание на то, что это имя склонять нельзя. Кстати, стоило бы кое-кому поучиться. У меня была знакомая кореянка по имени О. Сколько ее ни склоняли на самые разные безрассудные поступки, она так и не склонилась на них. Она всякий раз восклицала: «О!», и это как-то сразу охлаждало самые горячие головы.
Мы достаточно долго шли по набережной. Булыжник сменился бетоном, потом песком и гравием. Гуляющая публика была беззаботна и нарядна, и никто не обращал ни на кого внимания. Военных и полиции не было. Не было и дам с собачками. Здесь, видимо, еще не прозвучало: «О времена, о нравы!» и не писались грустные истории о греховной любви. Впрочем, на круглой тумбе круглилось, выпячивало грудь свежее объявление, предписывающее горожанам для прогулок выбирать именно эту площадь и только в интервале с 18.00 до 23.00 часов по местному времени.
В том месте, где начался гравий, пошли круглые павильоны, похожие на планетарии. Это были музеи еды. После ВДНХ мы вышли к озерцу с утками и лебедями и провели там изумительный час, молча сидя на пнях под вербами и глядя все-таки на кривые, а не прямые, как у Олеши, шеи лебедей – головы делали их кривыми.
А вечером у Боба началась ночная жизнь, в которую он погрузился с головой и в которой безвылазно провел два следующих дня, вдали от житейских неурядиц. Мы же, предоставленные сами себе, блаженствовали, пили, ели, валялись на кроватях, дремали и знакомились с местной прессой, из которой узнали о Галерах ровно столько, сколько помещалось в прочитанных полосах и подвалах. Как ни старались, мы не смогли обнаружить ни подтекста, ни скрытого смысла, ни второго плана, ни намеков, ни аналогий. Рассказчик был явно обескуражен.
– Это черт знает что! – воскликнул он. – Вся журналистская братия – гильдия бездельников! Почитать нечего! Какие-то вчерашние котлеты с макаронами и подливкой!
Назад: Глава 54. Дурила среди одуванчиков
Дальше: Глава 56. Гера. Кому таторы, а кому ляторы, или Полет духа без трусов

