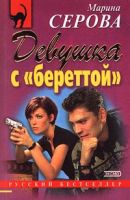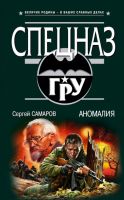Казнь
– Будьте добры принести бумагу и прибор для письма.
Голос спокоен, словно и не ее только что приговорили к смертной казни, которая свершится через несколько часов. У Марии-Антуанетты оставалось одно желание – обнять своих детей, но женщина прекрасно понимала, что никто не позволит сделать этого. Те, кто осудил ее, не собираются следовать даже непреложному правилу всех палачей, когда последнее желание осужденного на казнь выполняется, если оно никому не угрожает.
Кому же собралась писать на клочке плохой, желтой бумаги плохо очиненным пером и жидкими, некачественными чернилами бывшая королева?
Наверное, впервые в жизни Мария-Антуанетта писала быстро и четко, без клякс и стилем, достойным восхищения. Письмо Мадам Елизавете, которой надеялась поручить своих детей, остающихся сиротами. Надеялась ли она, что письмо дойдет до адресата? Надежда умирает последней…
«Вам, сестра моя, пишу в последний раз.
Меня только что приговорили не к позорной смерти – она позорна лишь для преступников, – а к возможности присоединиться к Вашему брату. Я невиновна, как и он, и надеюсь продемонстрировать ту же твердость, какую он проявил в свои последние минуты. Я спокойна, как спокойны люди, совесть которых чиста, и жалею только о том, что придется покинуть наших несчастных детей. Вы знаете, что я жила ради них».
Что еще? Наказ сыну:
«Никогда не пытайся отомстить за наши смерти».
Дочери благословение и напоминание, что как старшая должна заботиться своими советами о брате.
Самой Мадам Елизавете:
«Я знаю, сколько боли этот ребенок (Луи Шарль) принес Вам своими заявлениями. Простите его, дорогая сестра. В таком возрасте ребенка несложно заставить сказать, что хочешь, даже вещи, которых он вовсе не понимает».
Теперь о себе, ведь она уже ничего не могла произнести вслух, некому, значит, оставалось выплеснуть на бумагу… В тюрьме не было независимых священников, только те, которые принесли присягу Республике. Исповедоваться такому она не намерена, потому писала:
«Я искренне прошу прощения у Бога за все совершенные мною грехи.
Прошу прощения у всех, особенно у Вас, моя сестра, за все те обиды, которые помимо моего желания могла нанести.
Всем моим врагам прощаю зло, которое они мне причинили».
Потом слова прощания с родными: тетками, братьями и сестрами. Последний привет друзьям:
«Пусть, по крайней мере, они знают, что я до последней минуты думала о них!»
И снова Мадам Елизавете и детям:
«Прощайте, моя добрая и нежная сестра. Пусть это письмо достигнет Вас. Думайте всегда обо мне. Всем сердцем обнимаю Вас и этих несчастных детей».
Она могла бы еще многое написать, и не недостаток бумаги, а пронзительное понимание, что никто не станет доставлять послание Мадам Елизавете, пронзившее сознание, заставило опустить перо. К чему излагать то, что думаешь, если строчки увидят только мучители? Да еще и посмеются над душевными страданиями бывшей королевы…
Продолжалось обильное кровотечение, донимавшее все последние дни. Вместе с кровью по каплям и без гильотины утекала жизнь. Подожди палачи еще несколько дней, казнить было бы некого. Возможно, потому так торопились, проведя последнее судебное заседание без перерыва с раннего утра до поздней ночи? Но это уже было неважно. Мария-Антуанетта торопилась к мужу, и как это случится – от удара ножа гильотины или просто во сне… какая разница?
Нет, разница была, ее решили казнить на виду у всех, значит, есть возможность в последний раз показать силу воли дочери великой Марии-Терезии, свое презрение к палачам и то, что, как ни мучили, ее не смогли ни сломить, ни унизить. Им кажется, что лишиться головы на эшафоте – унижение? Глупцы! Унижение – продолжать жить среди них. Одно плохо – в их руках и под их влиянием остается Луи Шарль, тонкую впечатлительную натуру которого так легко изуродовать и подвергнуть насилию. Возможно, мальчика следовало растить твердым и даже жестоким, но теперь об этом поздно. Уже поздно….
Голова снова кружилась, пришлось оставить письмо и прилечь. На предстоящий день, хотя он и будет неполным, понадобится немало сил. Нельзя хоть на мгновение выказать свою слабость или страх. Хотя страха не было вовсе, жаль только расставания с детьми. При мысли о них у Антуанетты сами собой начинали литься слезы. Это означало, что там, на эшафоте, она даже мысленно послать им последний привет не сможет, чтобы не расплакаться, ведь собравшаяся толпа, а она не сомневалась в том, что соберется немало любопытствующих, примет эти слезы за признак слабости.
Когда к казни приговорили Людовика, ему дали адвокатов, позволили готовиться к процессу, позволили попрощаться с женой и детьми. Ей не позволили ничего. Но Антуанетта и не требовала. Она прекрасно понимала, что самые изворотливые адвокаты ничего не сделают против решения Конвента казнить ее, если только не хотят последовать за королевой на эшафот. И детей тоже не нужно, хотя безумно, до дрожи в руках хотелось прижать их к груди, целовать, гладить волосики… Но в том, что их не привели в этот темный вонючий склеп к седой, вмиг постаревшей женщине, страшно худой и немощной, тоже были свои плюсы. Пусть запомнят ее такой, какой знали в прошлой счастливой и радостной жизни.
Хотя, когда она была, эта радость? Уже давным-давно, несмотря на все ее старания, дети редко видели лицо матери без озабоченного выражения, разгладить морщинку между бровей уже не удавалось. Тем более нельзя усугублять это впечатление.
Была еще одна причина тому, что, страстно желая обнять своих детей, Антуанетта одновременно боялась встречи с ними, она понимала, что сын, как бы ни был мал, наверняка понял, что своими заявлениями помог осудить мать, а потому может чувствовать себя перед ней виноватым. Это не то чувство, которое должно сопровождать ее на эшафот. Палачи невольно помогли ей остаться в памяти детей нежной, любящей и очень красивой, несмотря не все невзгоды и лишения, выпавшие на ее долю в последние месяцы.
Пока размышляла о детях, рассвело, хотя в октябре светает поздно.
Послышался лязг ключа в замочной скважине, дверь со скрипом распахнулась, и вошла Розалия Ламорьер, принесшая небольшое количество бульона, чтобы Антуанетта могла подкрепиться.
– Нет, дитя мое, я ничего не хочу.
Но Розалия была настойчива:
– Мадам, Вы должны что-то съесть, иначе просто упадете.
Жандармский офицер, неотступно находящийся в камере, пропустил мимо ушей обращение девушки к королеве, а та даже не подумала, что слово «мадам» дорого могло обойтись.
Едва ли несколько ложек бульона могли подкрепить женщину, но она уступила просьбе.
Пришло время одеваться. Сама она предпочла бы остаться в том самом черном платье, в котором была на процессе, на нем не видно пятен крови из-за кровотечения. Но требование палачей, правда, выраженное в виде настоятельной просьбы, состояло в том, чтобы бывшая королева не надевала траур, приличествующий другим людям.
Хорошо, она выберет простое белое платье. Глупцы, они не знали, что именно белый цвет издревле был траурным цветом французских королей, пока Екатерина Медичи не сменила его на черный, отдав белый венчанию.
Но нормально переодеться не позволили, стражники не собирались не только выходить из камеры, но и отворачиваться. Напротив, один из них подошел ближе, хотелось посмотреть, как выглядит голышом бывшая королева.
– Мсье, может, Вы позволите мне переодеться?
– Мне приказано ни на минуту не сводить с Вас глаз.
Ей хотелось сказать, что теперь-то зачем, но Антуанетта промолчала, не хотелось пререканиями с ничтожеством разрушать то настроение готовности к последнему шагу, которое уже сложилось. Ушла за кровать и, отвернувшись, быстро, как только смогла, переоделась под неусыпным наблюдением жандарма.
Фи, и ничего в ней хорошего нет, тощая, одни кости торчат, его Жаннетта куда упитанней и приятней на ощупь. Да, небось, еще и ломака, эти королевы все такие.
Жандарм рассуждал так, словно он каждый день видел кого-то из королев без одежды. А Мария-Антуанетта постаралась как можно скорее переодеться, отворачиваясь к стене и поспешно пряча в рукав испачканную кровью рубашку. Ее пришлось засунуть в рукав, а потом, крепко свернув, прятать под печь. То, что «внимательный» надсмотрщик это не углядел, подтвердило: хотел просто посмотреть на нее в голом виде. Но было все равно, настолько безразлично, что даже пререкаться не хотелось. Осталось одно желание: чтобы это все как можно скорее закончилось. Нет, еще одно: достойно выдержать все предстоящие издевательства и оскорбления, а Мария-Антуанетта понимала, что они еще будут.
Снова загромыхала дверь, на сей раз вошел священник, предложил исповедаться. Королева поинтересовалась:
– Вы присягнули Республике?
Кажется, он даже испугался вопроса, в глазах метнулся настоящий, почти животный страх, усиленно закивал:
– Конечно, конечно.
– Тогда я не буду вам исповедоваться. Надеюсь, Господь сам знает мои прегрешения, я уже попросила у него прощения за все сделанное вольно и невольно.
– Как хотите.
И снова было заметно, что он вздохнул с облегчением. Мало ли что наговорит эта строптивая женщина? Нарушать тайну исповеди нехорошо, но как не нарушить, если в ней окажутся важные для Республики сведения?
Следующим пришел уже палач Сансон. Огромный, плечистый, словно молотобоец, он, чуть смущаясь, напомнил, что должен обрезать приговоренной волосы и связать руки. Королева только пожала плечами и вынула остававшиеся в волосах шпильки. Хотя после стольких дней заточения и отсутствия нормального ухода волосы потеряли былой вид, они все же прикрыли плечи и спрятали красивую длинную шею женщины. Палачу не сразу удалось остричь всю массу волос, пришлось кромсать по частям. Ножницы тупые и явно причиняли боль, но что она такое по сравнению с болью душевной и той, которая предстояла. Мария-Антуанетта знала одно: за жизнь цепляться уже не стоит, но нельзя позволить ни малейшего намека на страх, нерешительность. Нельзя позволить врагам увидеть ее слабость, она должна оставаться сильной до конца. Придет время, и ее детям обязательно расскажут, как вела себя их мать на эшафоте, нельзя, чтобы рассказы смутили их.
Мария-Антуанетта даже не усмехнулась тому контрасту, который составила ее убогая колымага прежним экипажам, а еще тому, что королю позволили до последнего момента выглядеть королем, а ей даже в этом было отказано. Тем более она не должна подать вида, что это ее задевает. Да нет, не задевало, напротив, появилось легкое презрение: как же они мелочны в своем желании унизить!
А охрана-то какая… рота солдат, вооруженных до зубов, с оружием наизготове, словно связанная женщина представляла угрозу. Те, кто приговорил ее к смерти, продолжат бояться ее и мертвой, но для этого нужно держаться до последнего. Марию-Антуанетту уже не трогали ни оскорбительные выкрики, доносившиеся со всех сторон, ни неудобства раздолбанной колымаги палача, в которой ее, как закоренелую преступницу, должны везти к месту казни, ни простая деревянная доска вместо сиденья. Какая разница? Важно только одно: она больше не увидит своих детей. Чувствуя, что от такой мысли глаза могут застлать слезы, она прогнала и ее. Нельзя, даже по детям плакать нельзя, непозволительно.
Сесть заставили спиной к лошадям, со связанными сзади руками это было очень неудобно, ведь держаться просто невозможно, но и не держаться тоже. Возница нарочно хлестнул битюгов, тащивших страшный экипаж, посильнее, те, не приученные к плавному ходу, резко дернули, и Мария-Антуанетта едва не упала лицом вниз. Жандарм довольно засмеялся:
– Это не то что сидеть на ваших роскошных диванах Трианона!
Глаза королевы сверкнули таким презрением, что остальные слова просто застряли в горле у охранника. Дальше ехали молча.
Но молчали только пассажиры страшной телеги и охрана, остальной Париж бесновался, какая-то женщина плюнула в телегу, правда, попав из-за толчеи в священника. Выкрикивали проклятия, обещали страшную скорую смерть. Глупцы, она уже сама ожидала окончания своих мучений с радостью. Смерть избавляла Марию-Антуанетту от необходимости оправдываться, защищаться, вообще как-то общаться с людьми, которых она презирала. И смерть бывает избавлением, в данном случае это было правдой.
Битюги тащили телегу намеренно очень медленно, все желающие должны увидеть унижение бывшей королевы. Но унижения категорически не получалось, сидевшая на доске в телеге женщина была одета в простую одежду, острижена и связана, но вовсе не унижена. Мария-Антуанетта вообще не смотрела в толпу, она внутренне готовилась к переходу в мир иной и твердо знала, в чем виновата пред Господом, а в чем нет. Только Ему собиралась бывшая королева давать отчет в деяниях. Хотя сама Мария-Антуанетта себя бывшей не считала, королев не бывает бывших, они либо королевы, либо нет.
Наконец колымага дотащилась до битком набитой площади Революции (почему-то вспомнилось, что раньше она называлась площадью Согласия). Мария-Антуанетта не воспользовалась помощью палача, чтобы выйти из телеги и подняться на эшафот. Но уже там нечаянно наступила Сансону на ногу. Сработала привычка:
– Извините, мсье, я не нарочно.
На площади было так тихо, что крики игравших на соседних улицах детей казались слишком громкими.
Аббат Жерар все же чувствовал себя обязанным напутствовать приговоренную:
– Наступил момент, мадам, когда вам надо набраться мужества.
– Оно меня не оставит.
Она не смотрела на гильотину, подле которой стояла, не видела того страшного, чуть отливающего синевой лезвия ножа, предназначенного лишить ее, а потом и многих других жизни, не видела притихшей толпы у эшафота, Мария-Антуанетта пыталась где-то там вдали разглядеть своих крошек, остававшихся сиротами… Это самое важное в ее жизни, в ее уже бывшей жизни…
А дальше все очень быстро – резкий наклон под гильотину на доску, свист падающего тяжелого лезвия и поднятая Сансоном голова для демонстрации присутствующим: Марии-Антуанетты больше нет!
Мгновение было тихо, потом толпа взвыла от возбуждения. Нет, люди не смеялись, не плакали, не поздравляли друг друга с победой или казнью королевы, они просто кричали. Человеческим голосам вторил немолчный ор тысяч взметнувшихся в небо ворон.
Но долго на площади никто не оставался, ни к чему. Казни стали привычным делом, в этот раз ничего интересного не наблюдалось, королева не плакала, не молила о спасении, снисхождении, она словно и не видела всех, кто явился полюбоваться на ее гибель. Что же тут интересного?
Может, в следующий раз произойдет что-то заслуживающее внимания?
Парижане были правы, эта казнь оказалась не последней. Через два месяца за королевой последовала бывшая любовница Людовика XV мадам Дюбарри. Правда, народа на площади оказалось немного, прошел слух, что казнь фаворитки короля перенесли на завтра, но те, кто остался, поневоле вспомнили королеву Марию-Антуанетту, взошедшую на эшафот с достоинством. Мадам Дюбарри, напротив, извивалась и умоляла дать еще мгновение… Перед этим бывшая фаворитка выдала своим тюремщикам все места, где были закопаны сохранившиеся у нее сокровища, надеялась на прощение. Тюремщики все досконально записали и… отправили бывшую красавицу на эшафот, кому она теперь нужна? Не помогли ни истерика, ни мольбы, ни попытки очаровать…
Но не одна Дюбарри поплатилась головой, казнили многих, очень многих. В том числе и тех, кто обрек на смерть саму Марию-Антуанетту. Дантон, Робеспьер, Фукье, требовавший голову королевы Эбер… их головы потребовали следующие…
Сын Марии-Антуанетты Луи Шарль ненадолго пережил мать, через два года он умер от туберкулеза. Наверное, сказались и переживания, и чувство вины перед матерью и теткой. Мария-Терезия осталась жива и ее даже освободили в обмен на пленных республиканцев, но судьба дочери Марии-Антуанетты сложилась несчастливо, не радовал брак, не было детей.
Мария-Антуанетта была родственницей многих правящих монархов в Европе, но ни один не заступился за королеву, не потребовал ее освобождения, не укорил французов за совершенное. Тоже считали виновной? Но в чем? В том, что ежедневно делали и сами?
Несомненно, Мария-Антуанетта оказалась просто удобным козлом отпущения для Французской революции. Иностранка, не желающая опускаться до нужд народа, своенравная и заносчивая. Ах, не желает?! Ату ее! Казнить!
А она, избалованная жизнью и восхищением, вознесенная судьбой на вершину власти, а потом низвергнутая вниз в самый ад ненависти, привыкшая к галантному обхождению и блеску двора, но оказавшаяся в страшной тюрьме Консьержери, в последние дни и минуты своей жизни показала свое истинное лицо. Не то, которое запечатлено на многочисленных картинах, которым любовались придворные и супруг, а настоящее, лицо женщины, достойной называться дочерью великой Марии-Терезии. И перед ее взором содрогнулись даже те, кто отправил ее на эшафот.
Марию-Антуанетту Австрийскую, королеву Франции, казнили по приговору суда присяжных 16 октября 1793 года.
Сбылось давнее предсказание астролога…
За что? За то, что была королевой…
Была ли она легкомысленна? Безусловно.
Была ли транжирой? Конечно.
Была любительницей нарядов, украшений, балов, приемов? Несомненно.
Имела ли любовника? Наверное.
Но не более чем другие.
Ей приписывали легендарную фразу про пирожные, которые нужно есть народу, если у него нет хлеба.
Но это не ее слова! Эта фраза появилась в книге Бомарше тогда, когда совсем юная Антуан еще ходила с проволочками на зубах, выравнивая их, чтобы предстать в Версале во всей красе. Но когда стали массово появляться пасквили, фразу припомнили и приписали королеве, кстати, много занимавшейся благотворительностью и часто помогавшей различным социальным домам Парижа.
Столько гадости не вылили ни на кого, но парижане почему-то не задумывались над тем, что чаще всего содержание пасквилей расходится даже со здравым смыслом. Кажется, королева была виновата во всем, вплоть до снега, дождя, града и плохих надоев, а также в землетрясениях, наводнениях и болезни зубов где-нибудь в Америке. Но главной виной Марии-Антуанетты, по мнению авторов пасквилей, было, несомненно, то, что она «австриячка»! Причем этот недостаток исправить просто невозможно, потому и приговорили к смертной казни.
Можно ли осуждать за легкомыслие ту девочку, что приехала в блестящий Версаль покорять его и сразу стала первой дамой королевства?
Можно ли ставить в вину красивой женщине ее любовь к нарядам и бриллиантам, если ее окружала роскошь?
Можно ли корить за обустройство Трианона, если это была единственная возможность спрятаться от любопытных взглядов, возможность побыть в узком кругу единомышленников в противовес блестящему Версалю, где каждый шаг, каждый вздох на виду?
Можно ли наконец упрекать в связи с Акселем Ферзеном (если таковая была) ту, которая столько лет даже просто нормальной мужской ласки не ведала, женщину, в спальню которой супруг сначала много лет не приходил вообще, а потом посещал по расписанию исключительно для зачатия детей?
Мне кажется, мы не вправе упрекать ее ни в чем.
Жизнь дала Марии-Антуанетте красоту и ум, который она продемонстрировала только в самом ее конце, когда пришлось защищать себя перед присяжными заседателями. Что вложили в девочку в Вене, то и получили позже в Версале, а расплачивалась за это сама Мария-Антуанетта и заплатила самую дорогую цену из всех возможных.
Было ли то пророчество астролога или это красивая легенда? Неизвестно, но гороскоп новорожденной девочки действительно не опубликовали (впервые для детей императорской семьи).
Читателям самим судить, была ли Мария-Антуанетта исчадием ада или просто женщиной, которой природа дала красоту, но не дала счастье. Не родись красивой…
Назад: Революция
На главную: Предисловие