ЭПОС ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН


КОРНИ СЛАВЯНСКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА
Народное эпическое творчество южных славян — болгар, сербов, хорватов, македонцев, словенцев и других народов — представляет собой чрезвычайно интересное и самобытное проявление поэтического гения народных масс. В эпосе южных славян с большой силой отразились характернейшие черты этого рода устного поэтического творчества, утраченные частично или полностью в фольклоре других народов. В героических эпических песнях южных славян, в образах народных героев, воспетых в юнацких, хайдуцких и ускокских песнях, в народных балладах отражены не только важные стороны жизни народа, его эстетические и этические представления, но и выражены его высокие идеалы любви к родине, верности, товарищества, борьбы против иноземного порабощения, идеалы счастья и свободы. Дошедшая и сохранившаяся до нас эпическая поэзия южнославянских народов имеет своим основным содержанием героическую борьбу славян Балканского полуострова против чужеземных захватчиков — османских турок, поработивших их в конце XIV— начале XV в., уничтоживших их самостоятельную государственность, жестоко угнетавших на протяжении долгих столетий свободолюбивые славянские народы.
Наряду с этим главным содержанием героических песен болгар и сербов в них заметны также и отзвуки более ранних исторических событий и прежних общественных отношений, преданий более глубокой и древней старины, окутанных легендой, чудесным народным вымыслом и фантазией, уходящими своими корнями в славянское мифотворчество. Все это придает эпическим песням южных славян неповторимую прелесть, глубоко национальную окраску и своеобразие, воплощенные в художественных формах и образах, отшлифованных и отобранных великим коллективным творцом их — народом.
У западных славян — поляков, чехов, словаков и лужицких сербов — нет героических песен типа русских былин, русских исторических песен, украинских дум, исторических украинских песен, юнацких и хайдуцких сербских, хорватских и болгарских песен. Только восточные (русские и украинцы) и южные славяне сохранили героический эпос в песенной форме.
Мы не можем с уверенностью сказать, что западные славяне и в прежние времена не имели героических песен. Чем объяснить тот факт, что восточные и южные славяне до настоящего времени донесли героические эпические песни, а западные славяне таких песен не имеют — остается до сих пор не выясненным.
Анализируя героические эпические песни восточных и южных славян, мы отмечаем, что эпос одних славянских народов использует в большей мере художественные средства лирической песни, а эпос других — в меньшей. Русские былины из всего славянского героического эпоса представляют наиболее характерные по форме эпические песни. Что же касается юнацких и хайдуцких песен сербов, хорватов, болгар и македонцев, а также украинских дум и украинских исторических песен, то они значительно больше, чем русские былины и русские исторические песни, содержат в себе элементы лирических песен. Отдельные юнацкие песни южных славян и украинские думы по своей форме близки к балладам. Многие украинские думы очень близки по своей форме к балладам западных славян. Трудно бывает установить границы между чисто героической песней и песней лиро–эпической, между балладой и чисто лирической песней.
В напечатанных в нашем сборнике эпических и лирических песнях западных славян одни из песен будут ближе к эпическим, другие к песням лирическим.
Эпические и лиро–эпические песни западных славян записаны были главным образом в деревнях в XIX и XX вв. Все эти песни, несомненно, отражают взгляды и художественные нормы их исполнителей и слушателей XIX и XX вв. Вместе с тем эпические и лиро–эпические песни западных славян поют о событиях различных исторических периодов и эпох.
«Магабхарата, поэмы Гомера, древнегреческие сказания, наши былины, песни и сказки — все это драгоценности человечества, которые все мы обязаны беречь благоговейно. Все равно были ли эти произведения созданы творчеством соборным, коллективным или отдельными художниками–творцами, но они были приняты и обточены океаном народной души и хранят на себе явные следы его воли. В созданиях народной поэзии мы непосредственно соприкасаемся с самой стихией народа, чудом творчества воплощенной, затаенной в мерных словах поэмы или песни», — писал В. Я. Брюсов о народной поэзии («Далекие и близкие». М., 1912. С. 93). И эти его слова полностью относятся и к эпическим песням балканских славян. Каждая из них — частица, отдельная искрящаяся волна народного океана чувствований, дум, чаяний и переживаний.

БОЛГАРСКИЙ ЭПОС
КРАЛЬ ВЫЛКАШИН ГУБИТ МОМЧИЛОВУ ЛЮБУ
Перевод С. Городецкого
Накажи, Бог, Момчила юнака!
Ходит все по Новому Пазару!
Сам ходи, — зачем же вместе с любой?
Вот и люба, по делам хозяйским
Ходит все по Новому Пазару.
Встретила там краля Вылкашина,
И сказал ей прямо краль Вылкашин:
— С добрым утром, Момчилова люба!
Отвечает Момчилова люба:
— С добрым утром, краль Вылкашин.
И опять сказал ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Ты у Момчила в шелках гуляешь.
У меня бы ты в парче ходила.
Отвечает Момчилова люба:
— Если Момчила сгубить ты можешь, —
Можешь стать моим любимым.
И в ответ ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Если можешь Момчила нам выдать,
Выдавай, и мы его погубим.
Отвечала Момчилова люба:
— Почему бы Момчила не выдать?
И в ответ сказал ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Завтра утром мы, как только встанем,
Мы чуть свет поедем на охоту
Наловить хотим мы диких уток,
Диких уток — уток златокрылых.
Предложи ему со мною ехать
На охоту за болотной дичью,
На охоте мы его погубим.
Время к вечеру привечерилось, —
Накажи, Бог, Момчилову любу! —
Пробралась она в его конюшню
И дурное дело совершила:
Доброму коню спалила крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами свинцом спаяла.
Чуть зарею небо озарилось,
Разбудила Момчила его подруга:
— Поднимайся, Момчил, поднимайся!
Встань, вставай, юнак мой, поскорее!
Все юнаки на охоту едут,
Ты ж на мягких тюфяках заспался!
С мягких тюфяков поднялся Момчил,
И коня он вывел из конюшни,
Оседлал крылатого коня он,
Загремел он саблею дамасской,
На крылатого коня вскочил он
И помчался за дружиной дружной,
Вслед помчался, чтоб ее настигнуть.
Он настигнул краля Вылкашина,
Он настигнул, Момчил, добрый юнак.
А дружине краль Вылкашин молвил:
— Мой привет вам, дружная дружина.
Не ловите, други, дикой дичи,
Изловите Момчила–юнака,
Изловите, чтоб его сгубить нам.
Собралась вся дружная дружина
На поимку Момчила–юнака.
Все услышал Момчил, добрый юнак.
Поскакал обратно по дороге,
Вот он скачет по дороге ровной
И коню тихонько молвит Момчил:
— Мчись быстрее, — если не помчишься,
Я, юнак, и ты, мой конь, погибнем.
Конь тихонько говорит юнаку:
— Не робей, юнак наш храбрый Момчил!
Нам бы лишь до крепости добраться!
Но ведь крепость для тебя закрыта.
Накажи, Бог, Момчилову любу!
Любу, первую твою подругу!
Ведь она пробралась к нам в конюшню
И дурное дело совершила:
Опалила легкие мне крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами свинцом спаяла!
Все же добрый конь примчался в крепость,
Чуть к воротам крепости примчался,
Громко крикнул Момчил, добрый юнак:
— Добрый день, сестрица Ангелина!
Поднимись, сестра, открой ворота!
Отвечает милая сестрица:
— Ой, юнак, мой брат любимый!
Накажи, Бог, Момчилову любу,
Любу, первую твою подругу!
Оплела она меня обманом
И к столбу за косы привязала.
Встать, мой брат любимый, не могу я!
И сестре ответил добрый юнак Момчил:
— Напрягись, сестра, и косы вырви!
Косы снова вырастут, сестрица,
Сгинет брат, — другого не увидишь.
Напряглась любимая сестрица,
Напряглась и косы оборвала.
И пошла она в глубокие подвалы
И локтей взяла там девяносто
Полотна льняного, что белее снега,
И полотнище закинула за стену.
За полотнище схватился Момчил,
За него держась, полез на стену
И готов был стену перепрыгнуть.
Накажи, Бог, Момчилову любу!
Прибежала Момчилова люба,
Полотно льняное надрезала.
И сорвался Момчил, не во двор упал он.
Тут к нему примчался краль Вылкашин.
Встал, поднялся юнак добрый Момчил,
За дамасскую схватился саблю,
Тянет саблю, а она не лезет!
Тут промолвил юнак добрый Момчил:
— Здравствуй, здравствуй, краль Вылкашин.
Если Момчила сейчас погубишь,
Погуби и Момчилову любу,
Любу, первую мою подругу,
На сестре моей женись любимой!
И убил Вылкашин Момчила–юнака,
На широкий двор пошел Вылкашин,
И поднялся он в высокий терем,
И сказал он Момчиловой любе:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчила сапожки,
Дай, попробую я их примерить!
Принесла сапожки Момчилова люба,
Стал примеривать их краль Вылкашин.
Он в сапожки Момчила обулся —
Две ноги в один сапог засунул,
Но его двумя ногами не заполнил.
И промолвил снова краль Вылкашин:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шубу,
Я попробую ее примерить.
Вот надел он Момчилову шубу,
Два аршина на земле остались.
И промолвил снова краль Вылкашин:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шапку,
Я попробую ее примерить.
Вот надел он Момчилову шапку,
До плечей она его накрыла.
Наконец промолвил краль Вылкашин:
— Накажи тебя бог, злая люба!
Предала ты славного юнака!
Был сильнее всех юнаков Момчил,
Так же и меня сгубить ты можешь.
И сгубил он Момчилову любу,
Полюбил он Момчила сестрицу.
МАРКО ОСВОБОЖДАЕТ ТРИ ВЕРЕНИЦЫ РАБОВ
Перевод С. Городецкого
Села с Марко мать его за ужин.
Только села, грудь свою открыла
И взмолилась к храброму юнаку:
— Сын мой милый, Королевич Марко,
Не моим ли молоком ты белым,
Не моей ли, мальчик, белой грудью
Ты питался, мой сынок, три года?
Твой отец, когда ходил к обедне,
Не носил юнацкого оружья,
Кровь не проливал он в воскресенье.
Рано утром Марко Королевич,
Рано утром до зари румяной
Стал будить свою жену он:
— Встань, проснись, любимая Еленка,
Встань, голубка, принеси воды нам,
Чтоб мы свежею водой умылись.
Встань, родная, платье принеси нам,
Чтобы мы оделись понарядней!
Вместе к утрени пойдем мы в церковь,
К утрени пойдем мы, к литургии,
Чтоб пречистых тайн причаститься.
Поднялась любимая подруга,
Поднялась и спрашивает друга:
— Дорогой мой Королевич Марко,
Оседлать коня ты не велишь ли,
Принести юнацкое оружье?
— Нет, оружья, милая, не трогай!
Мать моя вчера меня просила,
Заклинала грудью своей белой,
Чтоб мы, в церковь Божью собираясь,
Вышли без юнацкого оружья.
Ты оружья, милая, не трогай!
И Еленка подала умыться,
Принесла нарядную одежду.
Нарядился Королевич Марко.
А что сделала еще невеста?
Ретивого Шарца оседлала,
Принесла его кривую саблю,
Саблю гибкую, что можно спрятать,
Можно спрятать в сумке переметной.
Саблю гибкую она скрутила,
Скрыла саблю в сумке переметной.
Дважды, трижды возвращалась к Шарцу
И коню наказывала строго:
— Полетишь ты, Шарц мой быстроногий,
Понесешься прямо по дороге.
Как увидишь где–нибудь ты рабство,
Подымай ее на злое рабство.
Если ж рабства ты в пути не встретишь,
Не показывай той гибкой сабли.
Вот выходит Королевич Марко.
Вывела ему коня Еленка,
Вывела она красавца Шарца,
Подвела его к большому камню,
Чтоб в седло вскочил проворней Марко.
Вставил Марко одну ногу в стремя,
Ловко вставил и другую ногу,
Конь помчал его широким полем,
Через лес направился зеленый.
Оглянулся Марко Королевич —
Глядь — у леса вся листва пожухла.
Юнак Марко к лесу обратился:
— Лес ты, лес мой, что ты оголился?
Или изморозь тебя спалила?
Иль тебя секира порубила,
Иль тебя, мой лес, пожгло пожаром?
Оголенный лес ему ответил:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Нет, не изморозь меня спалила,
Не секира злая порубила,
Не огонь пожег меня пожаром!
Проходили тут три вереницы,
Скованных рабов три вереницы,
А вели их черных три арапа.
А в одной юнаки молодые,
Женихи — им под венец идти бы! —
А в другой девицы молодые,
Все невесты — под венец идти бы!
В третьей веренице все молодки
С малышами на руках, сынками.
И от жалости к ним я поблекнул.
Припустил тут Шарца Королевич Марко,
И погнал его сквозь темное ущелье,
И нагнал три жалких вереницы,
И нагнал и перегнал их Марко.
Вслед ему одна рабыня закричала:
— Ой ты, братец, Королевич Марко!
Как же не узнал меня ты, братец?
Я молилась Богу днем и ночью,
Чтоб нагнал меня ты на дороге.
Ты ж нагнал меня и едешь мимо!
Осадил тут Шарца Королевич Марко,
Подождал, пока пройдут рабыни,
И спросил молодку, что кричала:
— Ой, рабыня, девушка–невеста,
Как узнала, что зовусь я Марко?
Отвечает девушка–рабыня:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Неужель меня ты не узнаешь,
Неужели мимо ты проедешь?
Вспомнишь ты меня или не вспомнишь?
Помнишь, как мятеж поднялся первый,
Поднялись болгары храбрым войском,
И пошел ты, Марко, с этим войском?
Семьдесят ты получил ранений,
Семьдесят тех пулевых ранений,
Восемьдесят сабельных ударов,
А на Шарце не было им счету.
Матушка моя была знахаркой
И тебе те раны врачевала,
Трижды в день она их пеленала,
Развязав их, пеленала снова.
Я была тогда девчонкой малой,
И стирала я тебе повязки.
Отвечал ей Королевич Марко:
— Неужели это ты, Янинка?
— Это я, мой Королевич Марко,
Это я, мой братец ненаглядный!
Тут воскликнул Королевич Марко:
— Слушайте вы, три арапа черных!
Дам вам двести золотых червонцев,
Дайте волю девушке–рабыне!
Три арапа черных отвечают:
— Проезжай, болгарин сумасшедший!
Есть и для тебя звено цепное,
И тебя мы в плен возьмем, болгарин,
И тебя погоним, как барана,
Вожака–барана впереди овечек!
Вновь воскликнул Королевич Марко:
— Слушайте вы, три арапа черных!
Дам вам триста золотых червонцев,
Дайте волю девушке–рабыне.
Отвечали черных три арапа:
— Проезжай, болгарин сумасшедший!
А не то и сам рабом ты станешь!
Рассердился Королевич Марко,
Разъярилось сердце у юнака.
Он отстал немного от арапов,
Соскочил с коня он Шарца наземь,
Наломал осколков от утесов,
Глыбы стал бросать в арапов черных.

Шарец, добрый конь, ему промолвил:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Ведь твоя любимая впервые
Свернутую саблю положила,
Положила под суконную попону,
В переметную из шелка сумку.
Возьми саблю, Королевич Марко,
Сил своих, моих не трать напрасно!
А ударь ты саблей на троих арапов!
Сунул руку Марко в шелковую сумку,
Быстро вынул свернутую саблю
И пошел рубить арапов черных.
И разбил он на рабах вериги.
Каждому дал два иль три червонца
И наказывал им, деньги раздавая:
— Как дойдете вы до Нового Пазара,
Покупайте башмаки себе на ноги,
Покупайте, чтоб босыми не ходить вам.
Одевайтесь, чтоб нагими не ходить вам,
Покупайте хлебушка покушать,
Завтра день великий — Пасха.
И помчался Королевич Марко,
Чтоб поспеть к заутрене, к обедне,
И приехал в монастырь Дечанский.
Был в монастыре игумен старый,
Он глядел в окно волоковое —
Не приехал ли к нему владетель?
Уж приспело время уходить из церкви!
И увидел вдруг игумен старый:
По двору вкруг церкви ходит Марко,
Ходит, водит Шарца — прохлаждает;
Ну а в церковь Божию не входит.
Поглядел игумен старый, вышел,
И сказал старик юнаку Марко:
— Здравствуй, наш владетель, здравствуй!
Чем же мы тебя так рассердили,
Что не хочешь ты войти к нам в церковь?
Отвечает Королевич Марко:
— Здравствуй ты, игумен старый, здравствуй!
Нет, не вы мне сердце рассердили!
Кровь я пролил, пролил в воскресенье.
Порубил я черных трех арапов,
Волю дал рабам, трем вереницам,
По два, по три им червонца роздал,
Чтобы каждый мог купить, что хочет.
Потому–то в церковь я войти не смею,
И не смею я принять причастье.
Мать меня вечорось заклинала
Кровь не лить людскую в воскресенье.
Не хотел я сам кровопролитья,
Но моя любимая впервые.
Положила свернутую саблю
В переметную из шелка сумку.
На куски посек я черных трех арапов.
Потому и в церковь я войти не смею.
И сказал ему игумен старый:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Дам как раз тебе я три причастья:
Для тебя одно, для матери второе,
Третье дам я для твоей любимой,
Что дала тебе тугую саблю.
И три раза причастил он Марко.
ДАМЯН–ВОЕВОДА И ПАНДАКЛИЙСКИЙ СУЛТАН
Перевод М. Замаховской
Вышел Дамянушка в рощу,
В зеленый во лес еловый,
Еловый да кизиловый.
С ним триста верных юнаков,
Боснийцев семеро храбрых,
Несущих семь стягов алых,
И трое повстанцев–клефтов.
Софри дорогие вынес,
Златые расставил блюда
На скатертях белоснежных,
Нарезал белого хлеба
И накромсал он барашков,
Жареных, свежих барашков.
Вино остудил он в чашах,
Кушать и бражничать сели.
Ели они, эх, поели,
Пили они, эх, испили!
Хмелеет первый повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Дамян ты наш, воевода,
Султан карателей выслал,
Тот ли султан пандаклийский.
В поле сочтешь ты травку —
Карателям счета нету».
И клефту Дамян ответил:
«Ступай, ступай, клефт мой верный,
Ступай, стереги наш лагерь».
Пирует Дамян–воевода,
Хмелеет второй повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Не медли, Дамян, не медли —
Отряд карателей близко.

В чаще сочтешь ты листья —
Карателям счета нету».
И клефту Дамян ответил:
«Ступай, ступай, клефт мой верный,
Ступай, стереги наш лагерь».
Пирует Дамян–воевода,
Забот и тревог не зная.
Хмелеет третий повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Дамян, иль ты не наелся?
Дамян, иль ты не напился?
Отряд карателей близко.
В море песчинки сочтешь ты —
Карателям счета нету.
Враги возьмут нас живыми».
И тут лишь Дамян поднялся,
Поднялся и в пляс пустился,
Тонкую вытащил саблю,
Дамянову тонкую саблю,
Что много голов срубила.
Он саблей той замахнулся
И громким голосом крикнул:
«Я не боюсь, не страшуся
Тебя, султан пандаклийский,
Султан, ты, пес шелудивый!»
Едва Дамян это крикнул,
Каратели подоспели.
Дамян вовсю развернулся.
Как влево он размахнулся,
Как вправо он повернулся —
Один султан и остался.
Султан говорит Дамяну:
«Дамян, воевода грозный,
Прошу, молю тебя слезно:
Ты голову не руби мне, —
Ты выколи глаз один мне,
Одну отруби мне руку,
Одну отруби мне ногу,
Чтоб мне ходить–побираться,
Ходить, рассказывать людям,
Какой ты лихой воевода!»
СВИНОПАС МИХАЛЬЧО
Перевод Е. Книпович
Посватала раз Милица,
Милица — сама царица, —
Посватала раз Иванчо
За девушку котловчанку:
Гостей созывать послала
И свахе она наказала,
Кого приглашать на свадьбу,
Кого из родни уважить.
Да только звать не велела
Племянников–лиходеев,
Затем, что они пьянчуги,
Пьянчуги и забулдыги,
Напьются, ножи достанут
И в драку, гляди, полезут.
Родню пригласила сваха,
Кумовьев пригласила сваха,
Племянников–лиходеев
Не пригласила сваха.
Прошло два дня и две ночи,
Прошло три дня и три ночи,
Но нет невесты — не едет.
Милица, сама царица,
Милица диву дается.
На гору взошла Милица
И видит — вьется дорога;
Не видно свадьбы, не едет!
Уж нет ли беды нежданной?
Вдруг видит Милица: туча
Над полем плывет, чернея.
То гонит чабан Никола
По полю овечье стадо.
«Эй, храбрый овчар Никола! —
Сказала ему Милица, —
Прошу, окажи мне милость,
Ступай по дороге в Котел,
В богатый и славный Котел,
Узнай, окажи мне милость —
Уж нет ли беды нежданной.
Не едет свадьба, не едет!»
Ответил овчар Милице:
«Мне ехать опасно в Котел,
В богатый славный Котел.
Там жадный гостит Маджарин
И с ним душегубец Марко.
Узнают меня и схватят.
Опасно мне ехать в Котел.
Но есть у меня, Милица,
Есть братец меньшой, да храбрый.
Он в поле широком вырос,
Он вырос в лесу дремучем,
Средь леса в зимней овчарне.
А братца того меньшого
Зовут свинопас Михальчо».
Отправилась в лес Милица,
В чащобу пошла царица.
В чащобу к зимней овчарне,
К овчарне — искать Михальчо,
Удалого свинопаса.
Вдруг видит, идет детина,
Нечесаный, неумытый,
Холстиной рваной прикрытый.
Спросила его царица:
«Скажи, где найти Михальчо,
Молоденького свинопаса,
Меньшого брата Николы?»
Детина, смеясь, ответил:
«Зачем ты ищешь Михальчо,
Молоденького свинопаса?»
И поняла тут Милица,
Что сам Михальчо пред нею.
«Михальчо, мой милый голубь,
Соколик родной, Михальчо,
Женить я хочу Иванчо,
Иванчо — родного сына.
Невесту ему сыскала.
Прошло два дня и две ночи,
Прошло три дня и три ночи,
Не едет свадьба, не едет.
Пошел бы ты, милый, в Котел,
В богатый и славный Котел.
Узнал бы ты, милый сокол,
Уж нет ли беды нежданной!»
Как только услышал Михальчо
Слова Милицы–царицы,
От радости он зарделся,
Вскипело радостью сердце.
Надел он свою шапчонку,
Шапчонку–невеличку
Из шкур серо–бурых волчьих,
Накинул тулуп на плечи,
Тулупчик свой недомерок
Из шкур девяти медвежьих,
Коня оседлал поспешно,
Взнуздал уздою железной,
Железной в три ока весом,
Седло подтянул подпругой,
А сбоку топуз привесил,
Топуз не большой, не малый,
А весом на тридцать ока.
Вот сел на коня Михальчо,
За повод рукою взялся,
Взыграло конское сердце,
И конь заплясал на месте:
И камни ногами выбил,
Метнул их в синее небо.
«Михальчо, голубчик милый, —
Сказала ему Милица, —
Когда ты приедешь в Котел,
Не дергай узды железной,
Коня не яри, Михальчо.
Там нынче гостит Маджарин
И с ним королевич Марко.
Убьют тебя, голубь милый,
Убьют, ни за грош погубят!»
Михальчо не внял совету —
Как только он в Котел въехал,
То дернул коня за повод.
Взыграло конское сердце,
И конь заплясал на месте
И вышиб ногами камни,
Стал город камнями рушить.
Увидел всадника Марко
И крикнул Филиппу громко:
«А ну–ка, Филипп Маджарин,
Ступай дурачку навстречу.
За аргамака не жалко
И двести отдать дукатов.
А станет дурак перечить —
Коня отбери насильно».
Маджарин пошел к Михальчо,
Сулил дураку дукаты.
И двести сулил, и триста,
А тот даже глаз не поднял.
Как крикнул Филипп Маджарин, —
Склонились дубы и скалы:
«Отдай скакуна мне, дурень,
Не дашь — отниму я силой,
В бою отобью юнацком!»
Тут поднял топуз железный
Михальчо, простой детина,
Nопузом взмахнул, играя,
И тотчас Филипп отъехал
И путь уступил поспешно
Молоденькому свинопасу.
Михальчо коня пришпорил,
Подъехал к дому невесты,
А тут котловчане злые
Пять кольев в землю забили
Да так Михальчо сказали:
«А ну, перепрыгни колья, —
Тогда отдадим невесту!»
Михальчо ногой притопнул,
Нечесаный, неумытый,
Тогда котловчане злые
Коней привели ретивых,
Друг с другом коней связали:
«Коль ты коней перепрыгнешь,
Тогда отдадим невесту!»
Михальчо ногой притопнул,
Подпрыгнул и перепрыгнул.
Тогда котловчане злые
Трех девушек синеглазых, —
Беляночек, русокудрых,
Как вишни, друг с другом схожи
И обликом и именами, —
Поставили перед парнем.
Одну позовешь — и тотчас
Все три тебе отвечают.
«Коль сможешь узнать невесту,
Ее отдадим, не споря».
Взглянул на девиц Михальчо,
За пазуху сунул руку
И вытащил горсть жемчужин,
Жемчужин розово–белых
И бросил всю горсть на землю.
«Которая здесь невеста, —
Пусть жемчуг с земли поднимет,
Пусть жемчуг возьмет в подарок!
А две другие подружки
Пусть станут скорей в сторонку,
Да так, чтоб мне было сподручней
Всех трех увезти с собою!»
Как только он слово молвил,
Невеста к земле нагнулась,
Схватил ее тут Михальчо,
В седло, улыбаясь, вскинул:
«Тебя увезу к Иванчо!»
Нагнулся с коня Михальчо,
Вторую белянку поднял:
«Тебя отвезу я к Петко!»
И снова с коня нагнулся
И третью белянку поднял:
«Ты будешь моей женою!»
Хлестнул он коня и свистнул,
И конь полетел, как птица.
Вдруг слышит сзади погоню —
То скачет Филипп Маджарин
И с ним королевич Марко.
Увидел Филипп Михальчо,
Топуз свинопаса вспомнил
И крикнул со злобой Марку:
«Зазорно, Марко, нам будет
Ни с чем домой ворочаться!
Какими глазами станем
Смотреть мы в глаза юнакам?»
И Марко крикнул со злобой:
«Ох, горе, Филипп Маджарин!
Пойди, побратим мой верный,
Пойди, позови Арапа.
Арапчин чернее ночи,
Он нас поудалей будет.
Ты двести отдай дукатов
И двести отдай, и триста —
Пускай нам Арап поможет,
Пускай догонит Михальчо,
Пускай отобьет невесту!»
Поехал Филипп Маджарин
И вызвал Филипп Арапа.
А тот ему слово молвил:
«Когда он один, без Петко —
Молоденького овчара, —
Ну, что ж, я помочь согласен.
Сейчас коня оседлаю».
Ответил Филипп Маджарин:
«С ним не было брата Петко,
Один он, Арап, не бойся!»
Арап подтянул подпругу,
Вскочил на коня лихого,
Ретивого, вороного,
Помчался птицей в погоню.
Услышал Михальчо топот,
Увидел вдали Арапа
На черном коне ретивом,
Но даже руки не поднял.
Топузом своим огромным
Ударил Арап Михальчо,
А тот не повел и бровью
И только сказал, поморщась:
«Не блохи ль меня кусают?»
Коня повернул Михальчо
И крикнул, смеясь, Арапу:
«Как я потерпел маленько,
Так ты потерпи, чумазый!»
Топуз он достал железный,
Ударил им в грудь Арапа,
И тот на куски раскололся.


СЕРБСКИЙ ЭПОС
КТО ЛУЧШИЙ ЮНАК?
Перевод Н. Кравцова
В Крушевце было в корчме высокой,
Воеводы пили там, гуляли,
А когда вина они напились,
Заводили спор между собою,
Кто юнак меж ними будет лучший?
И решили спьяну воеводы, —
Лучший будет воевода Янко,
Самый худший — Королевич Марко.
На решенье Марко не озвался,
Пьет вино в корчме и пьет спокойно;
Выходил потом во двор корчмы он,
Чтоб и Шарца напоить червленым.
А как глянул пред собою Марко
В ровно поле около Крушевца,
А там едет великан какой–то,
На юнацком на коне кауром,
И в руках сосну он с корнем держит,
Тень себе он из ветвей устроил.
Как увидел Королевич Марко,
Возвратился в пьяную корчму он,
И сказал так воеводам Марко:
«Юнак едет на Крушевском поле,
Мы такого не видали сроду,
Сюда едет прямо он в Крушевец,
Как придет — скорее все вставайте,
Чтоб уважить силу и юнацство!»
Воеводы отвечали Марку:
«Не подумаем пред ним вставать мы
Или чашу поднести из чести».
В это время подъезжал Арапин,
На корчму свою опер он елку,
А под ней корчма к земле пригнулась.
Привязал он к воротам гнедого,
И закрыл он за собою двери,
И входил в высокую корчму он.
Все схватились сразу воеводы
И дают Арапу чашу в почесть,
С ними тоже Королевич Марко.
Не вставал лишь Банович Секула,
Не поднес Арапину он чаши.
Удивился этому Арапин
И сказал тогда Секуле с сердцем:
«Курвин сын ты, Банович Секула!
Встать не хочешь ты передо мною
И вином меня честить не хочешь?
Так пойдем померяемся в поле».
Так сказал он, из корчмы он вышел,
А за ним идет Секула молча,
Он идет, надеется на дядю:
При нужде ему поможет Янко.
Даже глянуть на Арапа страшно!
Как схватил Арап Секулу в руки,
Стиснул он его за бело горло
И ударил о холодный камень.
Крикнул — пискнул Банович Секула,
Раз он крикнул: «Мать моя, беда мне!»
А другой он: «Помогай мне, Янко!»
Рад Иван помочь ему — да страшно.
Говорил ему Кралевич Марко:
«Не помогут тебе мать и дядя,
Разве Бог да слабосильный Марко!»
Длинную он саблю вынимает,
Снял он ею голову Арапу,
А назад как оглянулся Марко,
А все двадцать воевод бежали,
По Крушеву–полю рассыпались,
И вернул их еле–еле Марко.
А когда в корчму они вернулись,
Они сели, пить вино начали;
А как снова спор пошел меж ними,
Кто юнак меж ними будет лучший?
Все сказали: «Королевич Марко».
КОРОЛЕВИЧ МАРКО–ПАХАРЬ
Перевод П. Эрастова
Пьет вино наш Марко–королевич
С матерью–старухой Ефросиньей.
А когда вина напились оба,
Укорять старуха стала Марка:
«Сын мой милый, королевич Марко!
Ты оставь, сынок мой, четованье —
Зло к добру еще не приводило,
Да и мне, старухе, надоело
Все стирать кровавые одежды!
Запрягай–ка лучше в плут волов ты
И паши ты горы и долины,
Сей, сынок, ты белую пшеницу
И корми себя и мать–старуху».
Марко мать родимую послушал,
В плуг волов запряг он круторогих,
Но не пашет горы и долины —
Пашет он султановы дороги.
Вдруг навстречу турки–янычары,
Три мешка несут они с деньгами,
С Марком турки разговор заводят:
«Эй ты, Марко, не паши дороги!»
«Эй вы, турки, не топчите пашни!»
«Эй ты, Марко, не паши дороги!»
«Эй вы, турки, не топчите пашни!»
А когда ему поднадоело,
Поднял Марко плуг с волами вместе,
Перебил всех турок–янычаров,
Взял от них он три мешка с деньгами
И к старухе матери отнес их:
«Вот тебе, что напахал сегодня!»
СМЕРТЬ МАРКА КРАЛЕВИЧА
Перевод Н. Гальковского
Рано едет Королевич Марко
В воскресенье — до восхода солнца
По Урвину, краем синя моря.
А когда был Марко на Урвине,
Стал тут Шарец часто оступаться,
Оступаться, лить горючи слезы.
Опечалился Кралевич Марко,
Говорил он своему Шарину:
«Что ты, Шарец? Что, слуга мой верный?
Лет уж сто и шестьдесят, как вместе
Я с тобой, Шарин, не расстаюся;
Никогда ты так не оступался.
А теперь ты оступаться начал,
Оступаться, лить горючи слезы.
Видно, скоро быть беде великой
Над моей или твоей главою».
Говорить еще не кончил Марко,
А с Урвина отвечает вила,
Подзывает Кралевича Марка:
«Побратим мой, Марко Королевич!
Знаешь ты, что Шарец предвещает?
Конь тебя, хозяина, жалеет.
А расстаться скоро вам придется».
Отвечает Королевич виле:
«Заболей ты, бела вила, горлом!
Как же с Шарцем мне моим расстаться?
Городов, земель прошел я много,
Обошел я и Восток и Запад, —
Не нашел коня я лучше Шарца,
Как юнака нет меня сильнее.
Не расстанусь с Шарцем я вовеки,
Жив пока на этом белом свете».
Отвечает ему бела вила:
«Побратим мой, Королевич Марко!
Не отнимут у тебя Шарина,
Не умрешь ты, Марко, от юнака,
Не умрешь ты и от острой сабли,
От копья и тяжкой топузины,
Никого ведь нет тебя сильнее.
А умрешь ты, побратим мой, Марко,
От судьи, небесного владыки.
Если, Марко, мне не хочешь верить,
То, как будешь на верху планины,
Обернися от себя налево —
И увидишь тонкие две ели:
Они сверху опустили ветки
И листом зеленым все закрыли.
Между ними ты найдешь колодец,
А как только повернешь коня ты,
Слезь ты с Шарца, привяжи за елку,
И нагнувшись, ты взгляни в колодец:
Там в воде лицо свое увидишь,
И увидишь там, когда умрешь ты».
И послушал белую он вилу.
Как поднялся к самой он вершине,
Поглядел он справа и налево
И увидел тонкие две ели,
Они сверху опустили ветки
И листом зеленым все закрыли.
А как Марко повернул тут Шарца,
Слез с коня и привязал за елку,
И нагнувшись, глянул он в колодец,
И в воде лицо свое увидел,
И увидел, что умрет он скоро.
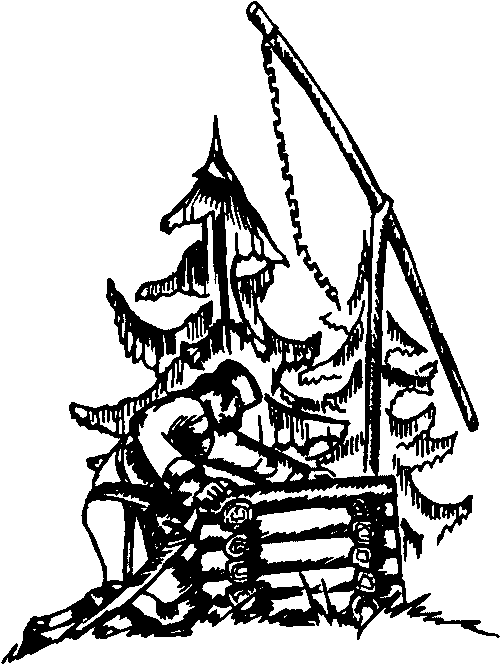
Пролил слезы и сказал тут Марко:
«Свет ты лживый, цвет ты мой прекрасный!
Чуден был ты, да ходил я мало:
Триста лет лишь я гулял на свете!
Вот — конец, со светом я прощаюсь».
Вынул Марко кованую саблю,
Подошел он к своему Шарину,
Снял он саблей голову Шарину,
Чтобы туркам Шарец не достался,
Чтоб никто из турок не работал,
Не возил бы воду на Шарине.
Как убил коня своего Марко,
Закопал его в сырую землю.
(Своего Шарина хоронил он
Лучше брата своего Андрея.)
Перебил свою он остру саблю,
На четыре части перебил он,
Чтоб она не доставалась туркам,
Чтобы ею турок не хвалился,
Что он саблей Марковой владеет,
Чтоб не кляли христиане Марка.
Поломал копье на семь обломков
И забросил их на ветви ели;
Марко взял свой буздован тяжелый,
Взял его своей рукою правой
И забросил с Урвина–планины,
Он в морскую глубину забросил,
И топузу говорил тут Марко:
«Если сам всплывет топуз тяжелый,
То, как я, другой родится витязь».
А как Марко истребил оружье,
Вынимал из пояса чернила,
Из кармана чистую бумагу,
И писал на той бумаге Марко:
«Если будет ехать кто Урвином
У колодца, у зеленых елей,
И увидит Кралевича Марка, —
Пусть он знает, что скончался Марко.
Подле Марка здесь найдет он деньги,
Он найдет три пояса дукатов.
Первый пояс отдаю тому я,
Кто в земле мое схоронит тело;
А другой — на украшенье храмов;
А слепцам да сухоруким нищим
Отдаю я пояс свой последний:
Пусть калеки ходят белым светом,
Пусть поют и вспоминают Марка».
Как окончил Марко завещанье,
Он его подвесил к ветке ели,
Чтобы видно было всем с дороги,
А чернила бросил он в колодец.
Снял с себя зеленую доламу,
Расстелил ее под тонкой елью,
А потом перекрестился с верой
И улегся на своей доламе,
Соболь–шапку на глаза надвинул.
Так лежал, покуда не скончался.
И лежал он целую неделю.
Кто идет путем–дорогой мимо
И увидит Кралевича Марка,
Всякий думал, что уснул он крепко,
И далеко вкруг его обходит,
Чтоб покоя не тревожить Марка.
Где удача, там и неудача;
Где несчастье, там бывает счастье:
Шел, по счастью, этою дорогой
Святогорец проигумен Васа
Со своим послушником Исайей.
Как увидел святогорец Марка,
Стал махать послушнику руками:
«Тише, сын мой! Не тревожь ты Марка, —
Он со сна сердит порой бывает,
Он обоих погубить нас может».
Да увидел он над спящим Марком,
Он увидел белый лист бумаги;
Васа взял и прочитал бумагу:
Говорилось в ней, что умер Марко.
Васа слез с коня и труп пощупал:
Уж давно лежит тут Марко мертвым.
Полилися слезы у игумна,
Жалко было Марка святогорцу.
Снял он с Марка пояса с деньгами,
Отпоясал, себе припоясал.
Думу думал Васа проигумен:
Где бы Марка схоронить приличней?
Думу думал, — он одно придумал:
На коня клал мертвого он Марка,
Осторожно свел коня на берег.
Положил потом его на лодку,
Вез его он на Святую гору,
Внес его в Вилиндарскую церковь
И служил, как должно над умершим,
Отпевал умершего героя.
Посреди Вилиндарского храма
Хоронил игумен Васа Марка.
Но над Марком ни креста, ни камня
Не поставил святогорец Васа,
Чтоб никто не знал, где он схоронен:
Много было недругов у Марка.
СТАРИНА НОВАК И КНЯЗЬ БОГОСАВ
Перевод Н. Гальковского
Пьют вино у князя Богосава
Радивой со Стариной Новаком
Над ключом воды студеной в Босне.
Как вином юнаки подкрепились,
Богосав и говорит Новаку:
«Старина Новаче, побратим мой!
Расскажи, дай Бог тебе здоровья,
Ты с чего ушел хайдучить в горы?
И какая у тебя неволя
По горам ходить ломая шею,
Ремеслом хайдучьим заниматься?
Ты уж стар, тебе не то уж время!»
А Новак на это отвечает:
«Богосав, мой побратим ты милый!
Ты спросил, и я скажу всю правду:
Из–за лютой я нужды хайдучу…
Может быть, ты помнишь, да и знаешь,
Как Ирина, Джюрджева супруга,
Начинала Смедерево строить?
У нее поденщиком служил я,
И служил ей целые три года,
Подвозил и камень и деревья
На своих волах, своих телегах.
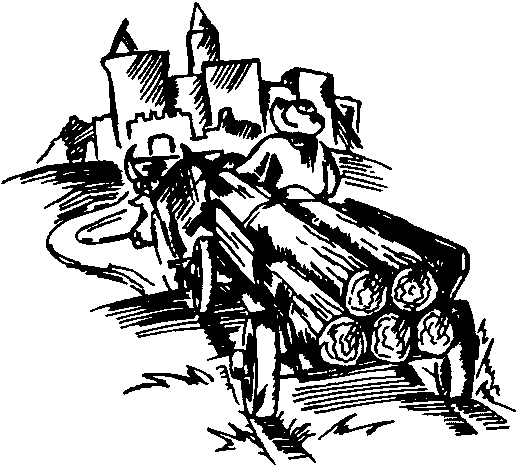
И за эти целые три года
Мне не дали пары, ни динара,
Я онуч не заслужил на ноги!
Но и это б я простил Ирине.
Как готово Смедерево было, —
Стали строить башни и бойницы,
Золотить ворота и окошки.
Тут Ирина подать наложила:
Золота три литра с каждой хаты, —
Это будет, побратим мой милый,
По три сотни золотых дукатов!
Кто имел и внес такие деньги,
Тот остался жить, как жил он прежде.
Был я бедный, бедный–небогатый,
Подати не заплатил Ирине:
Взял я заступ — им я ей работал —
И ушел я с ним хайдучить в горы.
Но нигде не мог я удержаться
Во владеньях проклятой Ирины.
И бежал я до студеной Дрины,
А оттуда Босной Каменистой;
Так дошел до самой Романии,
Тут турецких сватов повстречал я:
Едут сваты с красною невестой.
Турки–сваты с миром проходили;
Лишь жених на борзом иноходце
Мимо с миром не хотел проехать:
Взял он в руки плеть с тремя бичами —
А на каждом медный наконечник, —
По плечам стал бить меня он плетью.
Три раза молил я Богом турка:
«Заклинаю счастьем и геройством,
Заклинаю и веселой свадьбой:
Проходи, жених, ты мимо с миром, —
Сам ты видишь: человек я бедный».
Но оставить он меня не хочет,
По плечам меня стегает плетью.
Тут терпеть мне стало не под силу,
Да и крепко сердцем разлютился:
Снял с плеча я заступ мой тяжелый
И ударил на коне я турка, —
Так легонько я его ударил,
Что с коня он на землю свалился,
К жениху я подскочил проворно,
Два–три раза я его ударил:
Тут на месте он с душой расстался;
Запустил в его карманы руку,
Там нашел я три мешочка денег,
И себе за пазуху я спрятал.
Снял я саблю с пояса у турка,
Прицепил себе я эту саблю,
Свой же заступ бросил я у трупа,
Чтобы было чем копать могилу;
На коня турецкого садился
И поехал в горы Романии.
Турки–сваты видели все это,
Только мне они не помешали:
Не хотели или побоялись.
Вот уж сорок лет в горах живу я.
Полюбил я больше эти горы,
Чем свой двор, который там покинул.
Стерегу здесь горные дороги,
Жду–пожду сараевских торговцев,
Отнимаю серебро и злато,
И сукно, и платье дорогое;
Одеваюсь вместе я с дружиной.
Я готов бежать и дожидаться,
И стоять в бою на страшном месте.
Никого на свете не боюсь я».
СТАРЫЙ ВУЯДИН
Перевод Г. Можаровой
Девушка свои глаза ругала:
«Черны очи, а, чтобы вы ослепли!
Все видали, нынче не видали,
Как прошли тут турки–лиевняне
Гнали с гор захваченных хайдуков:
Вуядина со двумя сынами,
А на них богатая одежда:
Как на первом, старом Вуядине,
Плащ червонным золотом расшитый,
На совет паши в таких выходят.
Сын–то Милич свет Вуядинович,
Он еще богаче одевался;
А у Вулича, у Миличева брата,
На головке шапочка–челенка,
Та челенка о двенадцать перьев,
Каждое перо — полтора фунта
Чистого ли золота литого».
Как пришли под белую Лиевну,
Клятую Лиевну увидали,
Увидали белую там башню, —
То проговорил тогда Вуядин:
«О сыны, вы, соколы лихие!
Видите проклятую Лиевну,
Видите ли в ней вы белу башню.
Там нас будут бить и будут мучить,
Руки–ноги нам переломают,
Выколют нам наши черны очи.
Пусть у вас не будет сердце вдовье,
Пусть юнацкое забьется сердце.
Вы не выдавайте верна друга,
Вы не выдайте, кто укрывал нас,
У кого мы зиму зимовали,
Зимовали, деньги оставляли.
Вы не выдавайте тех шинкарок,
У которых сладки вина пили,
Сладки вина пили потаенно».
Вот уж входят в ровное Лиевно.
Бросили их турки всех в темницу.
Ровно три дня белых просидели,
Пока турки все совет держали:
Как их бить и как их горько мучить.
А когда три белых дня минули,
Вывели из башни Вуядина,
Ноги–руки старому ломали.
А как очи черные кололи,
Говорили турки Вуядину:
«Выдай, змей ты, старый Вуядине,
Выдай, гад ты, всю свою дружину.
Выдай тех, кто укрывал хайдуков,
У кого вы зиму зимовали,
Зимовали, деньги оставляли,
Выдай, змей, ты молодых шинкарок,
У которых пили сладки вина,
Гладки вина пили потаенно».
Им на то сказал старик Вуядин:
«Дураки вы, турки, лиевняне!
Если быстрых ног не пожалел я,
Что коня лихого обгоняли,
Если не жалел я рук юнацких,
Что ломали копья посредине,
Голые на сабли нападали, —
Никого не выдал, не сказал я,
Так лукавые ли пожалею очи,
Что меня на злое наводили,
Что манили прямо с гор высоких,
Как на ту ли на широкую дорогу,
Где проходят турки и торговцы».
МАРА–АТАМАН
Перевод П. Эрастова
Убежала красавица Мара
Из–под Бани Луки да в хайдуки,
Девять лет ходила в атаманах,
На десятый захватили Мару
И к паше погнали в Баню Луку.
У паши недолгая расправа:
Приказал повесить на базаре,
Дилбер–Мару на крюке железном.
Побросав детишек неповитых,
Позабыв засунуть в печку хлебы,
Банялуцкие пришли турчанки
Посмотреть на атамана Мару.
Вот как Мара с ними говорила:
«Что глаза вы пялите на Мару?
Если Мара по горам ходила,
Байстрюков–то Мара не рожала,
Как турчанки в этой Бане Луке:
То и дело байстрюков рожают,
А родивши, в Вырбас их бросают».

ХВОРЫЙ ДОЙЧИН
Перевод Г. Можаровой
Расхворался воевода Дойчин,
Как во белом городе Солуни.
Девять лет он тяжело хворает,
Уж в Солуни все его забыли,
Думают, что он давно скончался.
Разнеслись далеко эти вести,
Долетели до земли арапской.
Услыхал то Усо Арапинин,
Как услышал, оседлал коня он, —
Едет прямо к городу Солуни.
Он к Солуни белой подъезжает,
Под Солунь во поле во широко.
Среди поля он шатер поставил,
От Солуни требует юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок,
Чтобы с Усом честным боем бился.
Нет в Солуни–городе юнака,
Чтоб пришел к нему на поединок:
Дойчин был, пока не расхворался,
А у Дуки — заболели руки.
Есть Илия — малый несмышленыш,
Он и боя никогда не видел,
А не то, чтобы идти на поединок.
Да хотя бы он и согласился,
Так не пустит мать его старуха.
«Нет, Илия, малый несмышленыш,
Не ходи, Арап тебя обманет!
Погубить тебя, дитя, он хочет,
А меня оставить одинокой».
Как увидел черный Арапинин, —
Нет юнака в городе Солуни,
Чтоб пришел к нему на поединок, —
Тяжку дань он наложил на город:
Со двора по жирному барану,
Хлеба белого по полной печи,
Красного вина с двора по бочке,
Да ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
По одной красавице девице,
По девице или молодице,
Что во двор во мужнин приводили,
Приводили, еще не любили.
Дань несут по череду солунцы,
К Дойчина двору черед подходит.
Нет у Дойчина семьи родимой:
Верная жена одна есть только, —
Да Елица, милая сестрица.
Собирали они сами дани —
Некому нести их в чисто поле.
Да не хочет брать их Арапинин
Без Елицы, без красы–девицы.
Их замучила тоска–злодейка.
В головах у братниной постели
Плачет Ела, горьки слезы ронит.
Брату на лицо те слезы льются.
От тех слез очнулся хворый Дойчин,
Говорит своей сестре Елице:
«А, чтоб дом сгорел, разбило б громом!
На лицо мне дождик протекает,
Не дает мне умереть спокойно».
Отвечала тут сестра Елица:
«О, мой брат, мой милый, хворый Дойчин!
То не дождь сквозь крышу протекает,
То сестра Елица слезы ронит».
Так Елице хворый брат ответил:
«Что еще случилось, ради бога,
Или вам уж хлеба не довольно,
Красного вина вам не хватает,
Золота или полотен белых,
Нечем разве вышивать вам в пяльцах,
Не по чему вышивать иль нечем?»
Молвит тихо тут сестра Елица:
«О, мой брат, мой милый хворый Дойчин!
Белого–то хлеба нам хватает,
И вина нам красного довольно,
Много злата и полотен белых,
Есть у нас чем вышивать на пяльцах,
Есть и чем и есть на чем работать,
Только есть у нас другое горе:
Приходил к нам Усо Арапинин
Во широко поле под Солунью,
От Солуни требовал юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок.
Не нашлось юнака во Солуни,
Чтобы с Усом честным боем биться.
То увидел черный Арапинин,
Тяжку дань он наложил на город:
Со двора по жирному барану,
Хлеба белого по полной печи,
Красного вина с двора по бочке,
Да ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
По одной красавице девице,
По девице или молодице.
Вся Солунь уж отдала те дани,
К нашему двору черед подходит.
Нет у тебя брата никакого,
Чтоб собрал он дани для Арапа.
Сами мы ему собрали дани, —
Некому нести их в чисто поле.
Да не хочет брать их Арапинин
Без Елицы, без твоей сестрицы.
Милый брат, мой хворый Дойчин, слышишь,
Не могу я целовать Арапа,
Пока жив ты, Дойчин, милый братец».
Хворый Дойчин говорит Елице:
«Эх, Солунь, сгорела б ты пожаром!
Если нету в городе юнака,
Чтобы мог с Арапом побороться,
Не дадут мне умереть спокойно!»
Подзывал он любу Анжелию:
«Анжелия, моя верна люба!
Жив ли мой гнедой, мой конь любимый?»
Отвечала люба Анжелия:
«Господин мой, хворый ты мой Дойчин!
Жив еще гнедой твой конь любимый,
Хорошо я за конем ходила».
Говорит тут Дойчин Анжелии:
«Анжелия, моя верна люба!
Ты пойди, возьми коня гнедого,
Отведи ко другу–побратиму,
К кузнецу Петру коня веди ты.
Пусть он в долг мне подкует гнедого,
Я хочу идти на поединок,
Я пойду, а там уж будь что будет!»
И жена послушалася мужа.
Вот берет она коня гнедого,
К кузнецу Петру его приводит.
Петр–кузнец, когда ее увидел,
Говорил он ей такие речи:
«Сношенька, красотка Анжелия,
Разве умер побратим мой Дойчин,
Что коня ведешь ты на продажу?»
Говорит красотка Анжелия:
«Петр–кузнец, а мой названый деверь!
Нет, не умер господин мой Дойчин,
Он прислал тебе поклон со мною,
Чтобы подковал ты в долг гнедого.
Он идет на честный бой с Арапом,
Как вернется, так тебе заплатит».
Петр–кузнец тогда ей отвечает:
«Сношенька, красотка Анжелия!
Я ковать гнедого в долг не стану,
Дай в задаток твои черны очи,
Целовать я очи буду жарко,
Аж покуда Дойчин не вернется,
За подковы деньги не заплатит».
Рассердилась Анжелия люто,
Она вспыхнула, как жаркий пламень,
Увела некована гнедого
И приводит к Дойчину больному.
Говорил тогда ей хворый Дойчин:
«Анжелия, моя верна люба,
Подковал ли побратим гнедого?»
Как змея Анжела зашипела:
«Господин мой, хворый муж мой Дойчин!
Разразило б громом побратима!
В долг ковать гнедого он не хочет,
Целовать он хочет мои очи,
До тех пор пока ты не заплатишь.
Не могу я кузнеца любити,
Пока жив мой господин, мой Дойчин!»
Как услышал это хворый Дойчин,
Говорил своей жене он верной:
«Анжелия, моя верна люба!
Оседлай мне моего гнедого,
Принеси копье мне боевое».
Подзывал свою сестру Елицу:
«О Елица, милая сестрица,
Полотна кусок ты принеси мне,
Затяни меня всего от бедер,
Как от бедер аж до крутых ребер,
Чтоб не разошлись бы мои кости,
Кость бы от кости не разминулась».
Скоро сделали они, что приказал он:
Люба доброго коня седлает
И копье готовит боевое,
Полотна кусок сестра достала,
Затянула Дойчина покрепче,
Как от бедер аж до крутых ребер,
Алеманку–саблю подавала.
Подводили Дойчину гнедого,
На спину коню его сажали,
И копье подали боевое.
Господина добрый конь почуял,
Конь под господином разыгрался,
Выбивал копытами каменья.
Молвили солунские торговцы:
«Слава Богу, Господу живому!
С той поры как умер храбрый Дойчин,
Лучшего здесь не было юнака,
И во белом городе Солуни
Лучшего коня мы не видали!»
Выезжает Дойчин в чисто поле,
Ко шатру ли черного Арапа.
Видит его черный Арапинин,
И вскочил он на ноги со страху.
Говорит тут черный Арапинин:
«Громом бы тебя убило, Дойчин!
Неужели ты живой, не умер?
Выпьем–ка вина с тобой, приятель,
Брось ты ссоры, брось ты все раздоры,
Откажусь я от солунской дани».
Отвечает Усу хворый Дойчин:
«Выходи, проклятый Арапинин,
Выходи со мной на бой юнацкий,
Выходи, начнем мы поединок.
Ведь легко в шатре пить сладки вина,
Красных девок целовать солунских».
Снова молвит черный Арапинин:
«Брат по Богу, воевода Дойчин!
Брось ты ссоры, брось ты все раздоры,
Приходи ко мне, вина мы выпьем,
Откажусь я от солунской дани,
Откажусь от девушек солунских.
Богом тебе истинным клянусь я,
Никогда к Солуни не приеду».
Как увидел это хворый Дойчин,
Что Арап на бой идти боится,
Погонял он доброго гнедого,
Наезжал он на шатер на белый,
И шатер копьем своим он поднял.
Что же под шатром такое было?
Тридцать девушек сидят солунских,
С ними вместе черный Арапинин.
Как увидел черный Арапинин,
Что отстать никак не хочет Дойчин,
На коня вскочил он вороного,
Боевое взял копье он в руку.
Выезжали оба в чисто поле,
К бою ли коней разгорячали.
Говорит ему тут хворый Дойчин:
«Ты ударь, проклятый Арапинин,
Первый бей, чтоб после не жалел бы».
Как метнул копье тут Арапинин,
Чтоб ударить Дойчина больного,
Да гнедой–то конь приучен к бою,
Грудью он припал к траве зеленой,
А копье высоко пролетело.
Как ударилось копье о черну землю,
Так ушло в нее до половины.
Пополам копье переломилось.
Увидал то черный Арапинин,
Он спиной позорно повернулся,
Убегал ко белой ко Солуни.
А за ним погнался хворый Дойчин.
Подбежал Арап уже к воротам,
Но догнал его в воротах Дойчин,
Поднимал копье он боевое,
К воротам он приколол Арапа.
Вынимал он саблю–алеманку,
Отсекал он голову от тела,
Разрубил ту голову он саблей,
Вынимал оттуда черны очи,
Завернул их в шелковый платочек.
Голову в зелену траву кинул.
На базар оттуда он поехал,
Он к Петру поехал побратиму.
Он ко кузнецу Петру приходит,
Кузнеца к себе он подзывает:
«Подойди, Петр, заплачу долги я.
Подковал ты моего гнедого,
В долг коня гнедого подковал ты».
Петр–кузнец тут Дойчину ответил:
«Побратим ты мой, мой хворый Дойчин,
Я не подковал тебе гнедого.
Подшутил я, побратим, немного,
А твоя–то глупая Анжела
На меня напрасно рассердилась,
Вспыхнула, как пламя огневое,
Увела коня не подковавши».
Говорит Петру здесь хворый Дойчин:
«Выдь ко мне, я заплачу, что должен».
Вышел Петр–кузнец из темной кузни,
Взмахнул Дойчин саблей–алеманкой,
Кузнецу он голову снял с тела.
Рассекал он голову ту саблей,
Вынимал оттуда черны очи,
Завернул их в шелковый платочек,
Голову он бросил на базаре.
Едет Дойчин прямо в двор свой белый,
У двора с коня гнедого сходит,
На постель на мягкую садится.
Вынимал араповы он очи,
Их бросал своей сестре любимой:
«Вот, возьми, сестра, Арапа очи,
Их теперь ты целовать не будешь,
Пока жив я, милая сестрица».
Кузнецовы очи вынимает
И дает их любе Анжелии:
«Возьми, Анжо, кузнецовы очи,
Их теперь ты целовать не будешь,
Пока жив я, моя верна люба».
Так сказал и умер хворый Дойчин,
С уст слетело и душа из тела.
ОТВЕРСТОЕ НЕБО
Ночью пред Богоявлением отверзается небо. Нужно только не спать, дождаться святой минуты, и тогда чего бы человек ни попросил, — все получит. Но не все могут видеть селения горные. Кого ослепил грех, где тому увидеть отверстое небо! Чтоб не развлекаться, добрые люди выходят в чистое поле и там с молитвою ожидают Господней милости. Горе тому, кто не сумеет просить благ на пользу: ему дано будет то, чего попросит.
Один Серб не пошел в поле, а сел в избе у открытого окошка. Смотрел он долго на чистое, лазоревое небо и видит — вот оно разверзается: как две голубые горы, раздвинулась твердь, а оттуда свет, целое море света льется на землю. Серб высунул в окошко голову: хотел попросить осмак денег; но кто справится с языком в испуге! а как было и не испугаться перед разверстым небом! — не то вымолвил Серб, что думал; он вымолвил: «Боже, дай мне голову с осмак!» — и голова его раздулась без боли, выросла в целый осмак. О ужас, что было делать? опять помолиться? но молитва человека доходит до престола Божия в ночь пред Богоявленьем один только раз. Что нужды, Серб не усомнился бы вознести молитву; но святая минута прошла, небо закрылось, как будто и не открывалось: та же голубая твердь, те же горят звезды, по–прежнему светит ясный месяц. Несчастный потянулся назад; но голове ли в осмак пройти в окошко? кричал он громко, плакал навзрыд, а голова все не уменьшалась, не проходила в окошко.
На плачь Серба сбежались соседи и освободили его, прорубив стену.

ПОЛЬСКИЙ ЭПОС
ГРАБИЛИ ТАТАРЫ
Перевод М. Павловой
Грабили татары
в Яздовецком замке,
не нашли в нем злата,
а нашли парнишку.
«Ты скажи, слуга, нам,
где спит пани с паном?»
— Того, кто укажет,
пан казнить прикажет.
«Не страшися пана,
ты поедешь с нами
в татарскую землю».
— А лежит пан с пани
в башне самой крайней.
Первый раз палили,
камень повредили.
Второй раз палили,
пана застрелили.
Третий раз палили,
пани увозили.
Как мчатся, как мчатся
мимо стен узорных,
мимо стен тех черных.
Оглянется пани
на грустные стены:
Стены мои, стены,
как вы почернели,
пана пожалели.
Пана застрелили,
пани с собой взяли
в вечную неволю,
в татарскую землю.
ПРОЕЗЖАЛИ ТУРКИ
Перевод М. Павловой
Проезжали турки
рощи и пригорки,
миновали парни
поле и кустарник.
Отыскали древо
в яворовой гуще,
в яворовой гуще
на новые гусли.
Один его рубит,
кровью обливает,
другой его рубит,
кусок вырубает.
Третий его рубит,
отвечает древо:
Не рубите, хлопцы,
я бедная дева.
Я бедная дева,
превратилась в древо,
вы меня берите,
к матушке везите.
Поставьте к ней в сени,
в сени за дверями,
мать меня увидит,
обольет слезами.

ПАНИ ПАНА УБИЛА
Перевод М. Павловой
Вот так новость случилась,
пани пана убила.
Как в саду зарывала,
руткой холм засевала.
Руткой холм засевала,
про себя напевала:
Расти, рутка, высоко,
как лежит пан глубоко.
Вот уж рутка выросла,
пани замуж не пошла.
Девка, глянь на поляны,
там не едут ли паны?
Едут, едут к нам паны,
деверя да братаны.
А почем ты узнала,
что братáми назвала?
По коням по буланым,
да по шапкам их алым.
По лицу, по одёже,
всем на пана похожи.
По коням их холеным,
да по саблям точеным.
Здравствуй, здравствуй,
сестрица, негодяйка–убийца.
Где наш братец родимый?
На войну проводила.
На войне мы бывали,
а его не видали.
Отвечай–ка, голубка,
отчего в крови юбка?
Девка кур убивала
и меня замарала.
Если б сто их убила,
крови меньше бы было.
Чьих волос это прядки
на траве и на грядке?
Девка слуг тут чесала,
волоса набросала.
Если б девка чесала,
столько б тут не упало.
Сядь на лошадь, сестрица,
нам пора торопиться.
В лес поедешь ты с нами,
с деверями–гостями.
Как мне с вами садиться,
малых деток лишиться.
Малых деток лишиться,
от двора удалиться.
Мы детей не оставим,
скоро в город отправим.
В рощу поезд въезжает,
пани пояс роняет.
Стойте, милые братья,
хочу пояс поднять я.
Этот пояс атласный справил
брат наш несчастный.
Наш Франтишек убитый,
брат родной, незабытый.
Как приехали в Мехув,
накупили орехов.
На, сестрица, орехи,
погрызи для потехи.
А как в лес прискакали,
с пани кожу содрали.
ЗЕЛЕНЫЙ ЖБАН
Перевод М. Павловой
Пошла по воду панна,
белолица, румяна,
мимо ехал пан
и разбил ей жбан.
«Ты не плачь, молодая,
заплачу всё сполна я,
тебе талер дам
за зеленый жбан».
Панна брать не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан!»
«Ты не плачь, молодая,
оплачу жбан сполна я,
два дуката дам
за зеленый жбан».
Панна брать не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
за зеленый жбан
коня тебе дам».
Панна брать не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
«Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
деньги тебе дам
за зеленый жбан».
Панна брать не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
«Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
сам себя отдам
за зеленый жбан».
«Хоть я жбан потеряла,
зато пана достала,
за зеленый жбан
будет со мной пан».
ПАН ОТДАЕТ В РЕКРУТЫ
Перевод М. Павловой
Под вечер ехал Ясек
да ехал мимо костела,
да свою острую саблю
к боку пристегнул он,
ой, к левому боку.
Как саблю пристегнул он,
на дом родной взглянул он,
сердечно заплакал
и тяжко так вздохнул он,
аж конь под ним затрясся.
Ой, матушка родная,
иль сына не узнали,
дам шпоры вороному,
чтоб ехал ближе к дому,
чтоб вы привет послали.
Ой, сын мой, милый сын мой,
мне не узнать тебя ли?
Ох, как тебя схватили,
в железо заковали
да в Радом отправляли.
Ой, здравствуй, сын мой, здравствуй,
ты моя кручина,
кто же твоей муки,
кто же твоей муки,
зла всего причина?
А зла всего причина
козеницкий лютый пан,
как меня хватали,
в цепи заковали,
еще стражу он прислал.
Ой, прислал мне стражу
с рассвета до заката,
как Господь на небе,
как Господь на небе,
меня везут в солдаты.

Привозят в полк к солдатам,
кричат там: тарабан!
Рекрута прислал вам,
рекрута прислал вам
сам козеницкий пан.
Уж недалеко Радом,
забили в барабан.
Эй, открывай ворота,
рекрута везет вам,
рекрута везет вам
пан козеницкий сам.
Ой, матушка родная,
не плачьте, не рыдайте,
вы любе моей милой,
милой, незабытой,
печаль не умножайте.
А будет моя люба
слезы лить, бедняжка,
будет мне, солдату,
будет мне, солдату,
читать письма тяжко.
ПЕСНЯ О СТАРОСТИНОЙ ДОЧКЕ
Перевод М. Павловой
Там за Варшавой
в стороне
наш Яся
ехал на коне.
За ним молодка
в двух шагах
несла ребенка
на руках.
Так шла и к речке
подошла,
и речке дар свой
отдала.
Плыви, сынок мой,
по волне,
есть мельница в той
стороне.
Сидит пан мельник
на пеньке,
плывет ребенок
по реке.
Закинуть невод
поспешил
и в нем ребенка
притащил.
Куда плывешь ты,
для чего,
кто тебя бросил
одного?
Меня спустила
в воду мать,
чтоб девушкою
снова стать.
Звон колокольный,
грустный звон,
кого сзывает
нынче он?
На сходку, панны,
быть беде, —
ребенок малый
на воде.
Собрались панны,
встали в ряд,
одна лишь сзади
прячет взгляд.
Скажи мне, панна,
что с тобой,
что означает
чепчик твой?
Моя головка
вся в огне,
лоб повязала
мама мне.
Меня ведите
в темный бор
и там толкните
на костер.
Рассейте пепел
по полям,
чтобы из пепла
рос бурьян.
Бурьян тот будут
панны рвать,
о младе песню
распевать.
МЕСТЬ БРАТЬЕВ
Перевод А. Роховича
Как во Кракове пьют пиво
слуги Цесаря шумливо,
пиво пьют да распивают,
дочь хозяев подбивают.
А когда подговорили —
вмиг в карету усадили:
«Садись, Кася, садись с нами,
будешь ты богатой пани».
Мать с отцом и не слыхали,
когда с Касей ускакали.
Мать собралась прясть с рассветом —
глядь, а дочки–то и нету!
«Эй, сыны мои, вставайте
и сестрицу догоняйте».
Догоняли, не догнали,
лишь во Львове увидали.
Встретили ее во Львове
в шитой золотом обнове,
на базаре деньги тратит
и в немецком ходит платье.
«Здравствуй ты, сестрица наша,
ты куда девала Яся?»
«Я бы, братья, вам открылась,
коль измены б не страшилась».
«Не страшись, сестра, измены,
а откройся непременно».
«Вон сидит он за столами,
пьет там пиво с господами».
«Как, зятек, твое здоровье?
Как водой, упьешься кровью».
«Не в таких боях бывал я,
кровь, как воду, не пивал я».
Он стаканчик им подносит,
а они мечами косят.
В грудь один ударил Яся:
«За тебя, сестрица наша!»
Резанул другой по шее —
кровь течет воды быстрее.
Третий брат шутить не любит —
только сверху молча рубит.
«Ну, садись, сестрица наша, —
твоего уж нету Яся».
«Ты достань ручник с узором,
обвяжи мне раны скоро.
Возьми деньги, дорогая,
чтобы жить, нужды не зная,
а когда родишь сыночка,
пой ему ты темной ночкой:
Спи, сыночек, на здоровье,
твой отец убит во Львове,
он зарублен там мечами,
ой, твоими же дядьями».
О ТУРЕ С ЗОЛОТЫМИ РОГАМИ
Перевод М. Павловой
А чьи там, чьи там стоят хоромы?
А в тех хоромах есть светелка,
а в той светелке есть два оконца.
В одном оконце сидят пани и панны.
Вышла пани на крылечко,
поглядела в чисто поле,
в чисто поле на Подоле.
И увидела зверя тура,
зверя тура с золотыми рогами.
И закричала слугам хозяйка:
Слуги, вставайте, коней седлайте,
да погоните вы зверя тура,
зверя тура с золотыми рогами.
Слуги вставали, коней седлали,
догнали в поле зверя тура,
зверя тура с золотыми рогами.

Куда же тура подеваем?
Рога золотые те собьем мы,
да в светелке их прибьем мы,
ой, в светелке, прямо к стенке.
Что ж на тех рожках вешать мы будем?
Шкуры собольи, пышные платья,
ружье–кремневку, острую саблю.
Ее милости — песню,
а нам — колядку.

Назад: СТАВР ГОДИНОВИЧ
Дальше: ЧЕШСКИЙ ЭПОС

