Книга: Жутко громко и запредельно близко
Назад: ПОЧЕМУ Я НЕ ТАМ, ГДЕ ТЫ 21/5/63
Дальше: МОИ ЧУВСТВА[53]
ГИРИ НА СЕРДЦЕ
КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ
Через двенадцать выходных состоялась премьера «Гамлета», хотя, вообще-то, это была сокращенная и современная версия, потому что настоящий «Гамлет» слишком длинный и путаный, а у большинства детей в моем классе СДВ. Например, знаменитая речь «Быть или не быть», известная мне по собранию сочинений Шекспира, которое подарила бабушка, была сокращена до одного предложения: «Быть или не быть, вот в чем вопрос».
Участвовать должны были все, но настоящих ролей на всех не хватило, а прослушивание я пропустил (у меня было столько гирь на сердце, что я в тот день вообще в школу не пошел), поэтому получил роль Йорика. Сначала я закомплексовал. Я предложил миссис Ригли, что, может, буду лучше играть на тамбурине в оркестре или типа того. Она сказала: «Оркестра нет». Я сказал: «Ну, пожалуйста». Она сказала: «Не комплексуй. Мы тебя нарядим во все черное, наши гримеры замажут тебе руки и шею черной краской, а наши костюмеры изготовят специальный череп из папье-маше, который ты наденешь на голову. Будет полное впечатление, что у тебя нет тела». Я задумался на минуту, а потом предложил ей кое-что покруче. «А давайте я изобрету костюм-невидимку со встроенной камерой на спине, чтобы она снимала все, что за мной, и показывала это на плоском экране передо мной, но чтобы экран закрывал меня целиком, все, кроме лица. Будет полное впечатление, что меня там вообще нет». Она сказала: «Стильно». Я сказал: «Но ведь Йорик даже не роль?» Она шепнула мне на ухо: «Боюсь, как бы ты вообще не стал гвоздем спектакля». Тогда я обрадовался, что буду Йорик.
Премьера была суперская. У нас был генератор искусственного тумана, поэтому кладбище получилось, как в кино. «Увы, бедный Йорик! — сказал Джимми Снайдер, держа мое лицо. — Я знал его, Горацио». Из-за ограниченного бюджета на костюмы плоского экрана мне не дали, зато из-под черепа я мог незаметно для всех подглядывать в зал. Я увидел кучу знакомых и почувствовал себя особенным. Были мама, Рон и, само собой, бабушка. Был Тюбик, который пришел вместе с мистером Гамильтоном и миссис Гамильтон, что приятно, и была чета Минчей, но это потому, что Минч был Гильденстерном. Было много Блэков, с которыми я познакомился за эти двенадцать выходных. Был Ави. Были Ада и Агнешка. (Они даже сидели рядом, хотя понятия друг о друге не имели.) Я увидел Алберта, Алису, Аллана, Арнольда, Барбару и Барри. Наверное, половину мест в зале занимали Блэки. Но что прикольно, они не знали, какая между ними связь, так же, как я не знал, какая связь между чертежной кнопкой, погнутой ложкой, куском алюминиевой фольги и остальными вещами, найденными в Центральном парке.
Я запредельно волновался, но сохранил внешнее спокойствие и сыграл жутко органично. Сужу по стоячей овации, от которой почувствовал себя на сто долларов.
Второй спектакль тоже был суперский. Была мама, но Рон не смог уйти с работы. Что и лучше, потому что я его там все равно не хотел. Была бабушка, само собой. Никого из Блэков я не увидел, но знал, что люди обычно ходят на представление один раз, если только они не твои родители, поэтому не сильно расстроился. Я постарался сыграть незабываемо, и, по-моему, у меня получилось. «Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио; человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь — как отвратительно мне это себе представить».
На третий спектакль пришла только бабушка. У мамы допоздна было совещание, потому что какое-то из ее дел передавали в суд, а где Рон, я не спросил, потому что постеснялся, да и все равно я его там не хотел. Стоя, как статуя, с рукой Джимми Снайдера под подбородком я подумал: На фига быть жутко органичным, если все равно никто не смотрит?
На следующий день бабушка не зашла за кулисы ни поздороваться до спектакля, ни попрощаться после, но на спектакле была. Я смотрел на нее в глазницы, она стояла в самом конце спортзала под баскетбольным щитом. Ее макияж обалденно впитывал свет и делал ее почти ультрафиолетовой. «Увы, бедный Йорик». Я стоял, как статуя, и все время думал: Неужели какой-то суд важнее величайшей пьесы в истории?
На следующем спектакле снова была одна бабушка. Она невпопад плакала и невпопад раскалывалась. Она захлопала, когда пришло известие о том, что Офелия утонула, хотя это плохая новость, и зашикала на Гамлета, когда в конце он ранил на дуэли Лаэрта, хотя это как раз хорошо, по понятным причинам.
«Здесь были эти губы, которые я целовал, сам не знаю сколько раз. Где теперь твои шутки? Твои дурачества? Твои песни?»
За кулисами перед последним спектаклем Джимми Снайдер передразнивал бабушку для всей труппы. Видно, я не просек, что она такая громкая. Я ругал себя за то, что обращаю на нее внимание, а зря, она сама была в этом виновата. На нее все обращали внимание. Джимми скопировал ее в ноль: как она взмахивает левой рукой, услышав что-нибудь смешное, точно от мухи отмахивается. Как склоняет голову набок, точно хочет на чем-нибудь запредельно сосредоточиться, как чихает и говорит: «Чтоб я была здорова». И еще как она заплакала и сказала: «Грустно», но так, что все услышали.
Я сидел и смотрел, как Джимми всех раскалывает. Даже миссис Ригли раскололась, и муж ее тоже, он играл на пианино во время смены декораций. Я не стал говорить, что это моя бабушка, и не потребовал, чтобы он перестал. Снаружи себя я раскалывался вместе со всеми. Но внутри себя я жалел, что ее нельзя упрятать в переносной карман или переодеть в костюм-невидимку. Я жалел, что мы с ней не можем уйти куда-нибудь подальше от всех, типа в Шестой округ.
В тот вечер она опять была в зале, в последнем ряду, хотя только первые три были заполнены. Я наблюдал за ней из-под черепа. Ее рука лежала на ультрафиолетовом сердце, и было слышно, как она говорит: «Грустно. До чего же грустно». Я подумал про недовязанный шарф, и про булыжник, который она тащила через Бродвей, и про то, как после стольких лет жизни ей по-прежнему нужны воображаемые друзья, и про наш чемпионат по борьбе на пальцах.
МАРДЖИ КАРСОН. Эй, Гамлет, где Полоний?
ДЖИММИ СНАЙДЕР. За ужином.
МАРДЖИ КАРСОН. За ужином! Где?
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Не там, где он ест, а где его едят.
МАРДЖИ КАРСОН. Ух ты.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Король может совершить путешествие по кишкам нищего.
В тот вечер, на той сцене, под тем черепом я почувствовал свою запредельную близость ко всей Вселенной, но одновременно и жуткое одиночество. Я впервые задумался, стоит ли жизнь всех тех усилий, которые требуются, чтобы ее прожить. В чем именно состоит ее ценность? Почему так ужасно стать навсегда мертвым, и ничего не чувствовать, и даже не видеть снов? Что такого суперского в чувствах и снах?
Джимми положил руку под мой подбородок. «Здесь были эти губы, которые я целовал, сам не знаю сколько раз. Где теперь твои шутки? Твои дурачества? Твои песни?»
Может, из-за всего, что произошло со мной за эти двенадцать недель. А может, потому что в тот вечер я почувствовал эту близость и одиночество. Но я больше не мог оставаться мертвым.
Я. Увы, бедный Гамлет. (Я беру лицо ДЖИММИ СНАЙДЕРА в свою руку.) Я знал его, Горацио.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Но Йорик… ты всего лишь… череп.
Я. Ну и что? Подумаешь. Отсовокупись.
ДЖИММИ СНАЙДЕР (шепчет). Этого нет в пьесе. (Он ждет подсказки от МИССИС РИГЛИ, которая сидит в первом ряду и судорожно листает текст. Она крутит в воздухе правой рукой, а это универсальный знак для «импровизируй».)
Я. Я знал его, Горацио. Кретин наивысшей пробы, самый блистательный онанист в туалете мальчиков на втором этаже — у меня имеются доказательства. К тому же он дислексик.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. (Ничего не может придумать.)
Я. Где теперь твои издевки, твои выкаблучивания, твои песни?
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Что ты несешь!
Я (указывая рукой на табло). Упож енм йулецоп, о ты, вонючий козлоногий акшакак!
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Чё?
Я. Суд признает тебя виновным в издевательствах над теми, кто не такой сильный, как ты: в сживании со света «ботаников», типа меня, Тюбика и Минча; в передразнивании дегенераторов; в телефонных розыгрышах людей, которым никто никогда не звонит; в наведении ужаса на домашних животных и стариков (хотя они, между прочим, умнее тебя и знают больше); в насмешках надо мной за то, что у меня есть кисонька… А еще я видел, как ты соришь.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Я никаких дегенератов по телефону не разыгрывал.
Я. Тебя вообще усыновили.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. (Ищет в зале родителей.)
Я. И никто тебя не любит.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. (Его глаза наполняются слезами.)
Я. И еще у тебя боковой амиотрофический склероз.
ДЖИММИ СНАЙДЕР. Чё?
Я. От имени всех умерших… [Я стаскиваю с головы череп. Хоть он и из папье-маше, но очень тяжелый. Я обрушиваю ею на голову ДЖИММИ СНАЙДЕРА — раз, и еще раз. Тот валится на пол, потому что уже без сознания, а я сам не могу поверить в свою силу. Я продолжаю дубасить его по башке, и у него кровь течет из ушей и из носа. Но и тогда мне его ни капельки не жалко. Я хочу, чтобы у него шла кровь, потому что он этого заслуживает. Все остальное теряет смысл. ПАПАтеряет смысл. МАМАтеряет смысл. ЗРИТЕЛИ теряют смысл. Складные стулья и генератор искусственного тумана теряют смысл. Шекспир теряет смысл. Звезды, о которых я знаю, что они светят с обратной стороны потолка спортзала, теряют смысл. Единственное, что не теряет смысла, — это как я дубасю по лицу ДЖИММИ СНАЙДЕРА. Его кровь. Я вышибаю ему в рот несколько зубов, и мне кажется, что он их проглатывает. Кровь повсюду, на всем. Я продолжаю дубасить черепом по черепу, но только это уже череп РОНА (за то, что разрешил МАМЕ жить как ни в чем не бывало), и череп МАМЫ (за то, что живет как ни в чем не бывало), и череп ПАПЫ (за то, что умер), и череп БАБУШКИ (за то, что так меня перед всеми опозорила), и череп ДОКТОРА ФАЙНА (за вопрос, может ли ПАПИНА смерть пойти чему-нибудь на пользу), и черепа всех, кого я знаю. ЗРИТЕЛИ апплодируют, все до единого, потому что они меня понимают. Они устраивают мне стоячую овацию, а я все луплю его и луплю. Я слышу, как они выкрикивают…]
ЗРИТЕЛИ. Спасибо! Спасибо, Оскар! Мы любим тебя! Мы тебя защитим!
Это было бы суперски.
Я смотрю в зал из-под черепа, и рука Джимми все еще у меня под подбородком. «Увы, бедный Йорик». Я вижу Ави Блэка, а он видит меня. Я знаю, что наши взгляды должны что-то друг другу сказать, но не знаю, что именно, и не знаю, имеет ли это значение.
Ави Блэка на Кони Айленде я навестил ровно двенадцать выходных назад. Я неисправимый идеалист, но даже я понял, что пешком так далеко не дойду, поэтому взял такси. Еще до выезда из Манхэттена мне стало ясно, что $7.68 в моем кошельке не хватит. Не знаю, считать ли это как ложь, но таксисту я не сказал. Просто я знал, что мне надо туда добраться, а по-другому было никак. Когда таксист тормознул возле нужного дома, на счетчике было $76.50. Я сказал: «Мистер Махальтра, вы оптимист или пессимист?» Он сказал: «Что?» Я сказал: «Потому что, к сожалению, у меня есть только семь долларов и шестьдесят восемь центов». — «Семь долларов?» — «И шестьдесят восемь центов». — «Это не может быть так». — «К сожалению, может. Но если вы мне дадите свой адрес, я вышлю остальное по почте». Он опустился головой на руль. Я спросил, в порядке ли он. Он сказал: «Не надо мне семь долларов и шестьдесят восемь центов». Я сказал: «Обещаю вам выслать остальное по почте. Честное слово». Он дал мне свою визитку, которая, вообще-то, была визиткой стоматолога, а он написал свой адрес на обороте. Потом он сказал что-то на своем языке, который не был французским. «Вы на меня сердитесь?»
Само собой, я запредельно напрягся из-за американских горок, но Ави убедил меня с ним проехаться. «Будет обидно умереть, не прокатившись на «Циклоне»», — сказал он. «Будет обидно умереть», — сказал я. «Ага, — сказал он, — но после «Циклона» все-таки не так обидно». Мы сели в первый вагончик, и Ави тянул вверх руки на каждом спуске. Я все думал, похоже ли это на то, как когда падаешь?
У себя в голове я попытался вычислить все те силы, которые удерживают вагончик на рельсах, а меня — в вагончике. Это, само собой, гравитация. И центробежная сила. И инерция. И трение между рельсами и колесами. И сопротивление ветра, по-моему, или типа того. Папа любил рисовать мне физику на бумажной скатерти цветными карандашами, пока мы ждали оладьев. Он бы все объяснил.

Океан попахивал странно, и еда, которую продавали на набережной, тоже — пирожки с фенхелем, и сладкая вата, и хот-доги. День был почти клевейший, только вот Ави ничего не знал ни про ключ, ни про папу. Он сказал, что как раз едет в Манхэттен и может меня подбросить, если я хочу. Я сказал «Я не езжу на машине с незнакомыми, и как вы, интересно, узнали, что мне надо в Манхэттен?» Он сказал: «Мы больше не незнакомые, и я сам не знаю, как это я узнал». — «У вас внедорожник?» — «Нет». — «Хорошо. С газово-электрическим двигателем?» — «Нет». — «Плохо».
Пока мы были в машине, я рассказал ему про то, как собираюсь найти в Нью-Йорке всех жителей по фамилии Блэк. Он сказал: «Знаешь, я тебя понимаю, потому что однажды от меня убежала собака. Самая умная собака на свете. Я в ней души не чаял и как только за ней не ухаживал. Она не хотела убегать. Просто запуталась, учуяла что-то одно, потом другое». — «Но мой папа не убегал, — сказал я. — Он погиб во время теракта». Ави сказал: «Я о тебе думаю». Он довел меня до дверей квартиры Ады Блэк, хотя я сказал, что могу сам. «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты добрался», — сказал он, что мне напомнило маму.
У Ады Блэк было два подлинника Пикассо. Она понятия не имела про ключ, поэтому ее подлинники мне были по барабану, даже если бы я знал, что они знаменитые. Она сказала, что я могу сесть на диван, если хочу, но я сказал, что не верю в кожу, поэтому остался стоять. Такой обалденной квартиры я в своей жизни еще не видел. Полы были как шахматные доски из мрамора, а потолки — как торты с кремом. Вещи были как из музея, поэтому я сделал несколько фоток дедушкиным фотиком. «Извините, если это нескромный вопрос, но есть ли в мире люди, которые богаче, чем вы?» Она дотронулась до абажура на лампе и сказала: «Я 467-я в списке самых богатых людей планеты».
Я спросил, как она относится к тому, что в городе вместе с миллионерами живут бездомные. Она сказала: «Я много жертвую на благотворительность, если ты на это намекаешь». Я сказал, что ни на что не намекаю, а просто хочу знать, как она к этому относится. «Нормально отношусь», — сказала она и спросила, не принести ли мне что-нибудь попить. Я попросил кофе, и она попросила кого-то в соседней комнате, чтобы мне принесли кофе, и потом я спросил, не кажется ли ей, что ни у кого не должно быть больше, чем энное количество денег, пока столько же денег не будет у всех. Эту мысль мне когда-то подкинул папа. Она сказала: «Верхний Вест-сайд тоже не задаром». Я спросил, как она узнала, что я живу в Верхнем Вест-сайде. «У тебя есть ненужные вещи?» — «Вообще-то нет». — «Ты коллекционируешь монеты?» — «Как вы узнали, что я коллекционирую монеты?» — «В твоем возрасте многие коллекционируют». Я сказал: «Они мне нужны». — «Они тебе нужны так же, как еда бездомному?» От этого вопроса я закомплексован Она сказала: «Каких вещей у тебя больше, нужных или ненужных?» Я сказал: «Зависит от того, что понимать под словом «нужный».
Она сказала: «Можешь мне не верить, но я тоже когда-то была идеалисткой». Я спросил, что значит «быть идеалисткой». «Это значит жить в соответствии со своими убеждениями». — «Вы больше так не живете?» — «Есть вопросы, которые я больше не задаю». Горничная-афроамериканка принесла мне кофе на серебряном подносе. Я ей сказал: «У вас запредельно красивая униформа». Она посмотрела на Аду. «Серьезно, — сказал я. — По-моему, голубое вам очень к лицу». Она по-прежнему смотрела на Аду, которая сказала: «Спасибо, Гаэль». Пока она шла на кухню, я сказал: «Гаэль — красивое имя».
Когда мы снова остались одни, Ада сказала: «Оскар, мне кажется, Гаэль было не по себе от твоего замечания». — «В каком смысле?» — «Разве ты не заметил, что она смутилась?» — «Наоборот, я пытался быть вежливым». — «Возможно, ты переусердствовал». — «Как можно переусердствовать в вежливости?» — «Твоя вежливость больше смахивала на снисходительность». — «Что это?» — «Ты к ней обращался, как к ребенку». — «Нет, не как к ребенку». — «В работе горничной нет ничего унизительного. Это очень ответственно, и я хорошо ей плачу». Я сказал «Я просто пытался быть вежливым». А сам подумал: Когда я успел ей сказать, что меня зовут Оскар?
Мы посидели немного. Она уставилась в окно, как будто боялась пропустить что-то в Центральном парке. Я спросил: «Ничего, если я немного посную у вас по квартире?» Она засмеялась и сказала: «Наконец, хоть кто-то не скрывает своих желаний». Я прошелся по комнатам, и их оказалось столько, что я задумался, не была ли ее квартира внутри больше, чем она была снаружи? Но подходящих скважин для своего ключа я не нашел. Когда я вернулся, она спросила, не хочу ли я съесть канапе, отчего меня чуть не вывернуло, но я не показал виду и только вежливо сказал: «Бабай». — «Pardon?» — «Бабай». — «Прости, но я не понимаю, что это значит». — «Есть такое выражение: «Ёханый бабай». Она сказала: «Я про себя все знаю». Я кивнул головой, хотя понятия не имел, о чем это она и с чего вдруг. «Мне может не нравиться, какая я, но я про себя все знаю. А моим детям нравится, какие они, но про себя они не знают ничего. Что, по-твоему, хуже?» — «Можно повторить варианты?» Она раскололась и сказала: «Ты мне нравишься».
Я показал ей ключ, но она его никогда не видела и ничего о нем не знала.
Хоть я и сказал, что справлюсь сам, она взяла со швейцара слово, что он посадит меня в такси. Я сказал, что такси мне не по карману. Она сказала: «Зато мне по карману». Я дал ей свою визитку. Она сказала: «Удачи», положила руки на мои щеки и поцеловала в макушку.
Была суббота и полная депра.
Уважаемый Оскар Шелл!Спасибо за Ваш взнос в Американский Фонд по борьбе с сахарным диабетом. Каждый доллар (или в Вашем случае, пятьдесят центов) имеет значение.Вместе с этим письмом посылаю Вам кое-какую справочную литературу о Фонде, включая заявление о его целях и задачах, брошюру с описанием наших успехов и прочих мероприятияй, а также информацию о том, чего бы мы хотели достичь как в ближайшем, так и в более отдаленном будущем.Еще раз спасибо за вклад в это неотложное дело. Вы спасаете жизни.С благодарностьюПатриция Роксбери,президент нью-йоркского отделения
Как ни трудно в это поверить, но следующий Блэк жил в нашем доме этажом выше. Если бы это происходило не со мной, я бы точно не поверил. Я пошел в фойе и спросил у Стэна, что он знает про человека, который живет в квартире 6А. Он сказал: «Ни разу не видел, чтобы туда кто-нибудь входил или оттуда выходил. Все доставки почтой и куча мусора». — «Клево». Он наклонился и прошептал: «Там привидение». Я прошептал в ответ: «Я не верю в паранормальные явления». Он сказал: «Привидениям все равно, верят в них или не верят», и, даже будучи атеистом, я знал, что он ошибается.
Я вернулся на лестницу и поднялся мимо нашего этажа на шестой. Перед дверью был коврик с надписью «Добро пожаловать» на двенадцати языках. Как-то не верилось, чтобы привидение выбрало такой коврик для входа в свою квартиру. Я вставил ключ в скважину, но повернуть не смог, поэтому позвонил в звонок, который располагался там же, где наш. Внутри я услышал какие-то звуки и, кажется, даже музыку из ужастиков, но не испугался и продолжал стоять.
После запредельно долгого ожидания дверь открылась. «Чем обязан!» — спросил старик, но спросил жутко громко, так что это было больше похоже на крик. «Да, здравствуйте, — сказал я. — Я к вам снизу, из квартиры 5А. Можно мне, пожалуйста, задать вам несколько вопросов?» — «Приветствую, юноша!» — сказал он, хотя выглядел малость странновато, потому что на голове у него был красный берет, как у француза, а на глазу повязка, как у пирата Он сказал: «Я мистер Блэк!» Я сказал: «Я знаю». Он развернулся и пошел в глубь квартиры. Я сообразил, что мне следует идти за ним, и пошел.
В чем еще была фишка, так это что его квартира была в точности как наша. Такие же полы, такие же подоконники, и даже изразец на камине такой же зеленый. Но одновременно она была запредельно другая, потому что в ней были другие вещи. Куча всяких вещей. Повсюду. И еще в ней была громадная колонна прямо посреди гостиной. По размеру она была как два холодильника, и из-за нее в комнате уже не умещался ни стол, ни другая мебель, как у нас. «Зачем она?» — спросил я, но он не услышал. На каминной полке были разные куклы и другая хрень, а на полу были набросаны коврики. «Из Исландии!» — сказал он, показывая на морские раковины на подоконнике. Он показал на меч на стене и сказал: «Из Японии!» Я спросил: «Это меч самурая?» Он сказал: «Точная копия!» Я сказал: «Клево».
Он довел меня до кухонного стола, который стоял там же, где и наш стол, и сел, хлопнув себя по коленке. «А! — сказал он так громко, что захотелось заткнуть уши. — Какую удивительную я прожил жизнь!» Мне показалось странным, что он это сказал, потому что про жизнь я у него не спрашивал. Я вообще не успел сказать, зачем пришел. «Родился I января 1900 года! Двадцатый век прошагал от первого до последнего дня!» — «Серьезно?» — «Мать подделала мое свидетельство о рождении, чтобы я мог участвовать в Первой мировой! Раз в жизни солгала! Я был помолвлен с сестрой Фицджеральда!» — «Кто такой Фицджеральд?» — «Фрэнсис Скотт Кэй Фицджеральд, мой мальчик! Выдающийся писатель! Выдающийся!» — «Опа». — «Бывало, мы с ее отцом садились поболтать на крылечке, пока она марафет на себя наводила! Очень мы с ним живо беседовали! Выдающийся был человек, не менее выдающийся, чем Уинстон Черчилль!» Я решил, что лучше найти Уинстона Черчилля в «Гугле», придя домой, чем сказать, что я не знаю, кто это. «Однажды она спускается и давай меня торопить! А я прошу подождать минутку, потому что мы с ее отцом как раз посреди восхитительнейшей беседы, а разве такую беседу можно прервать!» — «Я не знаю». — «В тот же вечер, когда я ее проводил все до того же крыльца, она сказала: «Иногда мне кажется, что тебе с моим отцом интереснее, чем со мной!» А мне эта чертова честность по наследству от матери досталась, и опять я за нее поплатился! Я сказал: «Да!» И другого шанса сказать ей «да» мне уже не представилось, если ты понимаешь, на что я намекаю!» — «Я не понимаю». — «Профукал невесту! Классически профукал!» Он начал жутко громко раскалываться и опять хлопнул себя по коленке. Я сказал: «Оборжацца», потому что какие еще варианты, если человек так раскалывается. «Оборжацца! — сказал он. — Именно! С тех пор я о ней ничего не слышал! Ну, что ж! Сколько людей проходит через твою жизнь! Сотни тысяч людей! Надо держать дверь открытой, чтобы они могли войти! Но это значит, что они могут в любую минуту выйти!»
Он поставил на плиту чайник.
«Вы мудрый», — сказал я. «Поживешь с мое — помудреешь! Видал! — гаркнул он и сорвал с глаза повязку. — Фашистская пуля! Я был военным корреспондентом, сам себя приписал к английскому танковому корпусу, который двигался вверх по Рейну! Однажды вечером, в конце 44-го, мы попали под обстрел! Я писáл, а глаз по капле вытекал на страницу, но черта с два эти сукины дети меня остановили! Я свое предложение закончил!» — «О чем было предложение?» — «Да кто это теперь помнит! Главное, я не мог допустить, чтобы эти поганые фрицы остановили мое перо! Оно, знаешь ли, поострее штыка! Пострашнее MG-34!» — «Вы не могли бы надеть обратно повязку?» — «Видал! — сказал он, показывая на пол кухни, но я никак не мог перестать думать про его глаз. — Там дуб под этим тряпьем! Дубовый паркет! Уж я-то знаю — сам настилал!» — «Бабай», — сказал я, и вовсе не из вежливости. У себя в голове я прикидывал, что бы мне такое сделать, чтобы стать больше, как он. «Мы с женой эту кухню сами отремонтировали! Этими вот руками!» Он показал мне свои руки. Они были похожи на руки скелета из научного каталога Райнера, который Рон предлагал мне купить, только на них была кожа, кожа с пятнами, а подарки от Рона мне не нужны. «А где ваша жена сейчас?» Засвистел чайник.
«А-а, — сказал он. — Она умерла двадцать четыре года назад! Давно! А кажется, будто вчера!» — «Опа». — «Ничего!» — «Вам не больно, что я о ней спросил? Вы скажите, если больно». — «Нет! — сказал он. — Думать о ней — истинное наслаждение!» Он налил две чашки чая. «У вас есть кофе?» — спросил я. «Кофе!» — «Он замедляет мой рост, а то я боюсь смерти». Он хлопнул по столу и сказал: «Мой мальчик, у меня есть редкостный кофе из Гондураса, который уже давно тебя дожидается!» — «Но вы ведь не знали, что я к вам приду».
Мы посидели немного, и он мне еще порассказывал про свою потрясающую жизнь. Насколько ему было известно, а известно ему было порядочно, он был последним оставшимся в живых человеком, прошедшим две мировые войны. Он бывал в Австралии, и Кении, и Пакистане, и Панаме. Я спросил: «Если прикинуть, сколько приблизительно стран вы объехали?» Он сказал: «Зачем прикидывать! Сто двенадцать!» — «Я думал, в мире нет столько стран». Он сказал: «В мире есть больше мест, о которых ты не знаешь, чем о которых знаешь!» Мне это страшно понравилось. Он вел репортажи практически со всех войн двадцатого столетия, типа гражданской войны в Испании, и геноцида в Восточном Тиморе, и всяких ужасов, которые творились в Африке. Я ни про одну из этих войн не знал, поэтому старался запомнить, чтобы посмотреть в «Гугле», когда приду домой. Список в моей голове удлинился запредельно: Фрэнсис Скотт Кэй Фицджеральд, наводить марафет, Черчилль, «Мустанг»-кабриолет, Уолтер Кронкайт, телячьи нежности, Залив свиней, виниловые пластинки, «Датсун», Кент Стейт, сало, Аятолла Хомейни, полароид, апартеид, драйв-ин, фавела, Троцкий, Берлинская стена, Тито, «Унесенные ветром», Франк Ллойд Райт, хула-хуп, «Техниколор», гражданская война в Испании, Грейс Келли, Восточный Тимор, логарифмическая линейка и еще несколько разных мест в Африке, названия которых я пытался запомнить, но тут же забыл. Было все труднее удерживать в голове вещи, которые я не знал.

Его квартира была забита всякими штуковинами, которые он насобирал на войнах своей жизни, и я их пощелкал дедушкиным фотиком. Были книги на иностранных языках, и маленькие статуйки, и свитки с зыкинскими рисунками, и банки из-под «Колы» со всего мира, и разные камушки на каминной полке, но, правда, ни одного ценного. В чем была фишка, так это, что рядом с каждым камушком был листок бумаги, сообщавший, где его нашли и когда, типа «Нормандия, 19/6/44», «Хвачен, 09/4/51» и «Даллас, 22/11/63». Это было обалденно, но одно непонятно: на полке еще была куча пуль, но рядом с ними листков не было. Я спросил, как он помнит, откуда какая. «Пуля всегда пуля!» — сказал он. «Но ведь и камень всегда камень», — сказал я. Он сказал: «Совсем нет!» Мне показалось, я его понял, но как-то не до конца, поэтому показал на розы в вазе на столе. «А роза всегда роза?» — «Нет! Роза розе рознь!» А потом я почему-то подумал про песню Something in the way she moves, и спросил: «А песня про любовь всегда песня про любовь?» Он сказал: «Да!» Я задумался на секунду. «А любовь всегда любовь?» Он сказал: «Нет!» У него была стена с масками из каждой страны, в которой он побывал, типа из Армении, и из Чили, и из Эфиопии. «Не мир страшен, — сказал он, прикладывая к лицу камбоджийскую маску. — А то, что в нем полно негодяев!»
Я выпил вторую чашку кофе и уже точно знал, что пора переходить к делу, поэтому снял с шеи ключ и отдал ему. «Вы знаете, от чего он?» — «Не думаю!» — гаркнул он. «Может, вы знали моего папу?» — «Кем был твой папа!» — «Его звали Томас Шелл. Он жил в квартире 5А до того, как умер». — «Нет, — сказал он. — Имя ничего мне не говорит!» Я спросил, уверен ли он на все сто. Он сказал: «Я достаточно долго живу, чтобы ни в чем не быть уверенным на все сто!», и он встал, прошел мимо колонны в гостиную и подошел к гардеробу, который располагался под лестницей. Тогда-то мне и было озарение, что его квартира не была как наша, потому что у нее был второй этаж. Он открыл гардероб, и внутри оказался библиотечный каталог. «Клево».
Он сказал: «Это мой биографический индекс!» — «Ваш что?» — «Я его завел, когда еще только начинал писать! Заносил на карточку любое казавшееся важным имя, чтобы о нем можно было легко справиться в будущем! Здесь есть карточки на всех, о ком я когда-либо писал! И на тех, кого я интервьюировал в процессе работы! И на тех, о ком читал в книгах! И на тех, кто упоминался в сносках на страницах этих книг! По утрам, просматривая газеты, я заводил карточку на каждого, кто казался мне биографически значимым! Я и по сей день это делаю!» — «А не проще заглянуть в Интернет?» — «У меня нет компьютера!» Тут я почувствовал, что у меня едет крыша.
«Сколько у вас карточек?» — «Никогда не считал! Теперь должно быть не меньше нескольких десятков тысяч! Может быть, сотен тысяч!» — «Что вы на них пишете?» — «Пишу имя человека и его биографию одним словом!» — «Одним-единственным?» — «Любого из нас можно уместить в одно слово!» — «И вам это помогает?» — «Еще как! Сегодня утром я прочел статью о валютах в Латинской Америке! Она отсылала к трудам некоего Мануэля Эскобара! Я подошел сюда и в два счета его нашел! Конечно же, я уже с ним встречался! Мануэль Эскобар: профсоюзник!» — «Но ведь он еще, наверное, и муж, или папа, или фанат «Битлз», или любит бегать трусцой, да мало ли что». — «Согласен! Про Мануэля Эскобара можно написать целую книгу! И все равно какие-то вещи в нее не войдут! Можно написать десять книг! Можно писать до бесконечности!»
Он стал выдвигать ящички и вынимать из них карточки, одну за другой.
«Генри Киссинджер: война!
Орнетт Колман: музыка!
Че Гевара: война!
Джеф Безос: деньги!
Филип Гастон: искусство!
Махатма Ганди: война!»
«Но ведь он был пацифистом», — сказал я.
«Вот именно! Война!
Артур Эш: теннис!
Том Круз: деньги!
Эли Вайзель: война!
Арнольд Шварценеггер: война!
Марта Стюарт: деньги!
Рем Коолхаас: архитектура!
Ариэль Шарон: война!
Мик Джаггер: деньги!
Ясир Арафат: война!
Сюзан Зонтаг: мысль!
Вольфганг Пак: деньги!
Папа Иоанн Павел II: война!»
Я спросил, есть ли у него карточка на Стивена Хокинга.
«Конечно!» — сказал он, и выдвинул ящичек, и достал ее.

«А на себя у вас карточка есть?»
Он выдвинул ящичек.
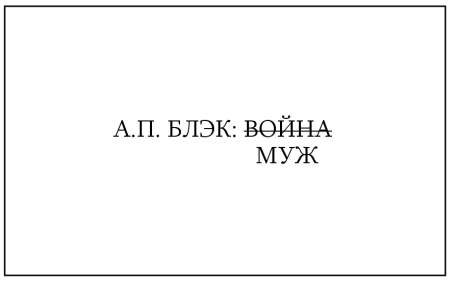
«Может, у вас есть карточка и на моего папу?» — «Томас Шелл, так!» — «Так». Он подошел к ящичку «Ш» и выдвинул его до середины. Его пальцы пробежались по карточкам, как пальцы человека, которому намного меньше, чем 103 года. «Увы! Ничего!» — «Вы не могли бы перепроверить?» Его пальцы еще раз пробежались по карточкам. Он помотал головой. «Увы!» — «А что если какая-нибудь карточка лежит не на своем месте?» — «Тогда это проблема!» — «Но это возможно?» — «Изредка случается! Мэрилин Монро затерялась в индексе на целых десять лет! Я все искал ее как Норму Джин Бейкер, напрочь забыв, что родилась-то она Нормой Джин Мортенсон!» — «Кто такая Норма Джин Мортенсон?» — «Мэрилин Монро!» — «Кто такая Мэрилин Монро?» — «Секс!»
«У вас есть карточка на Мохаммеда Атту?» — «Атта! Это мне точно попадалось! Ну-ка, посмотрим!» Он выдвинул ящичек «А». Я сказал: «Мохаммед — самое распространенное имя на свете». Он вытащил карточку и сказал: «Бинго!»
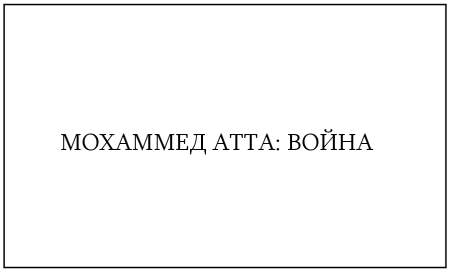
Я опустился на пол. Он спросил, что случилось. «Ничего, только почему же это на него у вас есть карточка, а на моего папу нет?» — «В каком смысле!» — «Это несправедливо». — «Что несправедливо!» — «Папа был хороший, а Мохаммед Атта — плохой». — «Ну и что!» — «А то, что папа заслуживает карточку». — «Почему ты думаешь, что карточка — это заслуга!» — «Потому что с ней ты биографически значимый». — «Что в этом хорошего!» — «Я хочу быть значимым». — «Девять из десяти значимых людей связаны либо с деньгами, либо с войной!»
Но у меня все равно возникла сразу целая куча гирь на сердце. Папа не был Выдающимся Человеком, не как какой-нибудь Уинстон Черчилль. Папа был всего лишь главой нашего скромного ювелирного бизнеса. Самый обыкновенный папа. Но как же мне хотелось тогда, чтобы он был Выдающимся. Мне хотелось, чтобы он был знаменитым, как знаменитая кинозвезда, потому что он этого заслуживал. Мне хотелось, чтобы мистер Блэк про папу писал, и рисковал жизнью, рассказывая о нем миру, и хранил в квартире всякие штучки, которые были бы с ним связаны.
Я подумал: если уместить папу в одно слово, какое это будет слово? Ювелир? Атеист? А корректор — это одно слово или полтора?
«Ты что-то ищешь!» — спросил мистер Блэк. «Этот ключ раньше был у папы, — сказал я, снова вытягивая ключ из-под рубашки. — Я хочу узнать, от чего он». Он пожал плечами и гаркнул: «Я бы тоже хотел узнать!» Потом мы немного помолчали.
Я думал, что расплачусь, но не хотел перед ним, поэтому спросил, где ванная. Он показал на лестницу. Идя наверх, я крепко держался за перила и изобретал разные вещи у себя в голове: воздушные подушки для небоскребов, лимузины на солнечной батарее, которым не нужна дозаправка, идеальный перпетуум йо-йо. В ванной пахло, как от стариков, и несколько плиток из кафельной стены валялись на полу. В уголок зеркала над раковиной была вставлена фотокарточка женщины. Она сидела за тем же столом на кухне, что и мы недавно сидели, и на ней была громаднейшая шляпа, хотя женщина, само собой, находилась внутри, а не снаружи. Так я понял, что она особенная. Одна ее рука лежала поверх чайной чашки. Улыбка была запредельно красивая. Я подумал, успела ли ее ладонь запотеть от пара, пока делали снимок. Я подумал, снимал ли ее мистер Блэк. Прежде чем пойти вниз, я немного порыскал. Я забалдел от того, какую мистер Блэк прожил жизнь и как он теперь хотел, чтобы эта жизнь его окружала. Я повставлял ключ в скважины разных дверей, хоть он и сказал, что ключ ему незнаком. Не потому, что я ему не поверил, — я поверил. А потому что в конце поиска мне бы хотелось сказать: не знаю, можно ли было искать лучше. Одна дверь была от стенного шкафа, в котором не нашлось ничего, кроме вороха пальто. Другая дверь вела в комнату, заставленную коробками. Я приподнял несколько крышек, и всюду были газеты. В одних коробках газеты были желтые, а в других — как сухие листья.
Я заглянул в другую комнату, которая, очевидно, была спальней. Более обалденной кровати мне еще видеть не приходилось: она состояла из частей дерева. Ножки были пеньками, края — бревнами, и еще был потолок из веток. Еще она была облеплена всякими металлическими фенечками, типа монетами, булавками и значком с надписью РУЗВЕЛЬТ.
«Это из парка дерево!» — сказал мистер Блэк за моей спиной, и я так испугался, что у меня даже руки затряслись. Я спросил: «Вы не сердитесь, что я у вас тут рыскаю?», но, похоже, он не услышал, потому что продолжал говорить: «Рядом с резервуаром росло. Как-то она споткнулась о его корни! В ту пору я еще только за ней ухаживал! Она упала и раскроила руку! Несильно, но я навсегда запомнил! Как же давно это было!» — «А вам кажется, будто вчера, да?» — «Вчера! Сегодня! Пять минут назад! Сейчас!» Он уставился в пол. «Она меня вечно упрашивала бросить репортажи! Я был нужен ей дома!» Он вскинул голову и сказал: «Но меня другое влекло!» Он посмотрел на пол, потом опять на меня. Я спросил: «И как же?» — «Большую часть нашей совместной жизни я с ней вообще не считался! Заезжал домой по дороге с одной войны на другую, бывало, что отсутствовал месяцами! Все война и война!» — «А вы знаете, что за последние 3500 лет цивилизованный мир прожил без войн всего 230 лет?» Он сказал: «Назови мне эти 230, тогда я тебе поверю!» — «Назвать не смогу, но я знаю, что это правда». — «И о каком цивилизованном мире ты говоришь!»
Я спросил, почему же он все-таки перестал быть военным корреспондентом. Он сказал: «Я понял, что, на самом деле, хочу только покоя и чтобы рядом была она!» — «И вы навсегда вернулись домой?» — «Жена важнее, чем война! Но вернувшись, первое, что я сделал, не заходя домой, — пошел в парк и срубил это дерево! Была ночь! Я ждал, что кто-нибудь попытается меня остановить, но никто не попытался! Я приволок его домой по частям! Я сделал из него кровать! Мы с женой делили ее все оставшиеся нам годы! Я жалею, что так поздно в себе разобрался!» Я спросил: «Как называлась ваша последняя война?» Он сказал: «Моя последняя война была с этим деревом!» Я спросил, кто победил, что, по-моему, было хорошим вопросом, потому что позволяло ему ответить, что он, и испытать гордость. Он сказал: «Топор победил! Он всегда побеждает!»
Он подошел к кровати и положил палец на шляпку гвоздя. «Видал!» Я стараюсь быть проницательным человеком, для чего сочетаю научный подход с наблюдательностью, но я не заметил, что кровать была сплошь утыкана гвоздями. «Я вколачиваю в кровать по гвоздю каждое утро с тех пор, как ее не стало! С этого начинается мой день! Восемь тысяч шестьсот двадцать девять гвоздей!» Я спросил его, зачем, что, по-моему, было еще одним хорошим вопросом, потому что позволяло рассказать о том, как сильно он ее любит. Он сказал: «Не знаю!» Я сказал: «Но если не знаете, тогда тем более зачем?» — «Очевидно, мне это помогает! Придает силы! Чушь, я знаю!» — «А по-моему, не чушь». — «Гвозди не из воздуха! Один ничего не весит! Горсть ничего не весит! Но когда их много!» Я сказал: «В теле среднего человека содержится столько железа, что из него можно изготовить гвоздь длинной в два с половиной сантиметра». Он сказал: «Кровать стала неподъемной! Я слышал, как под ней пол кряхтит от натуги, точно живой! Иногда я просыпался среди ночи от страха, что все это может обрушиться на квартиру этажом ниже!» — «Вы за меня беспокоились». — «Поэтому я построил внизу колонну! Ты знаешь про библиотеку в университете штата Индиана!» — «Нет», — сказал я, продолжая думать про колонну. «Она врастает в землю больше, чем на два сантиметра в год, потому что, когда ее проектировали, не приняли в расчет веса книг! Я написал об этом статью! Тогда я не провел параллели, а сейчас думаю про «Затонувший собор» Дебюсси — одно из красивейших произведений мировой музыки! Как же давно я его не слышал! Хочешь испытать новое ощущение!» — «Можно», — сказал я, потому что хоть я его и не знал, мне казалось, что знаю. «Раскрой кулак!» — сказал он, что я и сделал. Он сунул руку в карман и достал скрепку. Он положил ее на мою ладонь и сказал: «Сожми!» Я сжал. «Теперь вытяни вперед руку!» Я вытянул. «Теперь раскрой кулак!» Скрепка полетела к кровати.
Только в этот момент я заметил, что ключ тоже притягивает к кровати. Просто он был тяжелее скрепки, и поэтому его притягивало слабее. Веревочка запредельно нежно надавила на шею сзади, а ключ немного отделился от груди. Я подумал про весь тот металл, зарытый в Центральном парке. Его тоже хоть чуть-чуть притягивает? Мистер Блэк поймал мой парящий ключ в кулак и сказал: «Я двадцать четыре года не выходил из квартиры!» — «В каком смысле?» — «Увы, мой мальчик, в самом прямом! Я двадцать четыре года не выходил из квартиры! Мои ноги не касались земли!» — «Почему нет?» — «Не было повода!» — «А как же, когда вам что-нибудь надо?» — «Что я такого могу захотеть, чего бы мне не смогли доставить!» — «Еду. Книги. Всякую хрень». — «Я заказываю еду по телефону, и мне ее приносят! Я звоню в книжный, когда хочу прочесть книгу, и в видеомагазин, когда хочу посмотреть фильм! Ручки, канцтовары, мыло, лекарства! Я даже одежду заказываю по телефону! Видал! — сказал он и показал мне свой мускул, который спустил, а не надулся. — Я девять дней был чемпионом в суперлегком весе!» Я спросил: «Какие девять дней?» Он сказал: «Ты что, мне не веришь!» Я сказал: «Конечно, верю». — «Мир большой, — сказал он, — но и внутри квартиры места достаточно! А уж тут — тем более!» — сказал он, показывая на свою голову. «Но ведь вы столько путешествовали. Столько всего испытали. Вы не скучаете по миру?» — «Скучаю! Еще как!»
У меня на сердце возникло сразу столько гирь, что пол подо мной не рухнул только благодаря колонне. Как мог человек, живший так близко от меня всю мою жизнь, быть таким одиноким? Если бы я знал, я бы давно зашел наверх составить ему компанию. Или изготовил бы для него украшение. Или рассказал улетный анекдот. Или устроил частный концерт на тамбурине.
Потом я начал думать о том, что где-то совсем близко могут жить и другие одинокие люди. Я вспомнил песню Eleanor Rigby. И правда, «откуда они все берутся? И как с ними со всеми быть»?
Что если воду, которая льется из душа, обрабатывать специальным раствором, который бы реагировал на сочетание таких вещей, как пульс, температура тела и мозговые колебания, чтобы кожа меняла цвет в зависимости от твоего настроения? Когда ты жутко возбужден, кожа будет зеленеть, а когда рассержен, само собой, краснеть, а когда у тебя на душе акшакак — коричневеть, а когда тебя осенило — синеть.
Все бы сразу видели твое самочувствие, и мы были бы осторожней друг с другом, потому что не будешь же говорить девочке с фиолетовой кожей, что тебя достали ее опоздания, но зато обязательно хлопнешь розового приятеля по плечу и скажешь ему: «Поздравляю!»
Еще почему это было бы полезное изобретение, так это потому, что сколько раз бывает, когда ты знаешь, что тебя переполняют разные чувства, но не можешь в них разобраться. Бесит ли это меня? Или только немного напрягает? И эта неразбериха портит тебе настроение, становится твоим настроением, превращает тебя в потерянного серого человека. А благодаря моей специальной воде можно будет посмотреть на свои руки, увидеть, что они оранжевые, и подумать: Я счастлив! Оказывается, все это время я был счастлив! Какое облегчение!
Мистер Блэк сказал: «Однажды я поехал писать репортаж про одну деревню в России — артель художников, которых выдворили из больших городов! По слухам, там повсюду висели картины! Все стены были ими увешаны! Они рисовали на потолках, на посуде, на окнах, на абажурах! Было ли это формой протеста! Или способом самовыражения! Хорошо они рисовали, или это вообще неважно! Я хотел увидеть все своими глазами мир должен был про них узнать! Я жил ради таких репортажей! Сталин проведал про эту артель как раз за несколько дней до моего приезда и послал туда своих громил с приказом переломать художникам руки! Это было хуже, чем их убить! Мне открылась чудовищная картина, Оскар: десятки рук в наскоро наложенных шинах, вытянутые вперед, как у зомби! Они даже поесть не могли, потому что не могли поднести ко рту ложку! И что, ты думаешь, они сделали!» — «Умерли от истощения?» — «Стали кормить друг друга! Этим рай отличается от ада! В аду мы умираем от истощения! В раю мы кормим друг друга!» — «Я не верю в загробную жизнь». — «Я тоже, но я верю в эту историю!»
И тут вдруг мне в голову пришла одна вещь. Огромнейшая. Офонарительная. «Хотите мне помогать?» — «Прошу прощения!» — «С ключом». — «Помогать!» — «Мы можем всюду ходить вместе». — «Тебе нужна моя помощь!» — «Да». — «Ты это говоришь из жалости!» — «Бабай, — сказал я. — Ясно же, что вы очень умный и сведущий и знаете кучу вещей, которых я не знаю, и еще в компании веселее, поэтому, ну, пожалуйста, скажите «да». Он закрыл глаза и ничего не сказал. Трудно было понять, думает ли он над тем, о чем мы говорили, или думает о чем-то другом, или вообще заснул, а я знаю, что старые люди, типа бабушки, иногда так делают, потому что у них это получается само собой. «Вы можете сразу не отвечать», — сказал я, чтобы у него не создалось впечатления, будто я его заставляю. Я сказал ему про 162 миллиона замков, и что поиск, скорее всего, займет много времени, возможно даже, целых полтора года, поэтому совершенно нормально, если ему надо подумать, он всегда может спуститься вниз и дать мне ответ позднее. Он думал. «Не торопитесь», — сказал я. Он думал. Я спросил: «Ну, решили?»
Он ничего не сказал.
«Что вы решили, мистер Блэк?»
Ничего.
«Мистер Блэк?»
Я похлопал его по плечу, и он резко открыл глаза.
«Ку-ку».
Он улыбнулся, как я, когда мама застукивает меня за чем-нибудь, чего нельзя делать.
«Я читал по твоим губам!» — «Что?» Он показал на слуховой аппарат в ушах, который я раньше не заметил, хотя изо всех сил старался замечать все. «Я его давным-давно отключил!» — «Отключили?» — «Давно, очень-очень давно!» — «Нарочно?» — «Хотел сэкономить батарейки!» — «Для чего?» Он пожал плечами. «И вам не хочется слышать?» Он опять пожал плечами, но так, что было неясно, то ли это значит «да», то ли «нет». И тут мне в голову пришла еще одна вещь. Красивая. Стоящая. «Хотите, я вам его включу?»
Он посмотрел на меня и одновременно сквозь меня, типа, как на витраж. Я повторил вопрос, шевеля губами медленно и старательно, чтобы он наверняка меня понял. «Хотите. Я. Вам Его. Включу?» Он смотрел на меня. Я снова спросил. Он сказал: «Не знаю, как сказать «да»!» Я сказал: «Ну, и не говорите».
Я зашел за него и увидел, что на обоих жучках его аппарата есть маленькие колесики.
«Включай постепенно! — сказал он почти умоляюще. — Давно ведь уже!»
Я вышел из-за него, чтобы он опять видел мои губы, и пообещал быть исключительно осторожным. Потом я зашел за него и стал жутко медленно, по миллиметру, поворачивать колесики. Никакого эффекта. Я еще чуть-чуть повернул. И еще чуть-чуть. Я вышел из-за него. Он пожал плечами, и я тоже.

Я зашел за него и повернул колесики еще чуть-чуть — до упора. Я вышел из-за него. Он пожал плечами. То ли аппарат сломался, то ли батарейки сели от старости, то ли он окончательно оглох с тех пор, как их выключил, что возможно. Мы посмотрели друг на друга.
Потом, откуда ни возьмись, мимо его окна пронеслась стая птиц, жутко быстро и запредельно близко. Штук, наверное, двадцать. А может, и больше. Но их также можно было принять и за одну птицу, так слаженно все они действовали. Мистер Блэк схватился за уши и издал целую кучу странных звуков. Он заплакал — не от радости, понятное дело, но и не от горя.
«Вы в порядке?» — прошептал я.
Звук моего голоса заставил его заплакать сильнее, и он кивнул, что да.
Я спросил, не хочет ли он, чтобы я чем-нибудь пошумел.
Он закивал, что да, и слезы просыпались из его глаз на щеки.
Я пошел к кровати и потряс ее, пока не отскочили несколько значков и скрепок.
Он произвел новый выплеск слез.
«Хотите, я его выключу?» — спросил я, но он перестал меня замечать. Он ходил по комнате кругами и прикладывал ухо ко всему, что могло издавать звуки, даже к таким бесшумным вещам, как трубы.
Я бы мог долго смотреть, как он постигает слухом мир, но я и так задержался, а в 16:30 у меня была репетиция «Гамлета», причем жутко важная, потому что впервые со световыми эффектами. Я сказал мистеру Блэку, что зайду за ним в следующую субботу в 7:00, и мы начнем. Я сказал: «Я еще даже с «А» не сдвинулся». Он сказал: «Хорошо», и от звука своего голоса заплакал особенно сильно.
Сообщение третье. 9:31. Алло? Алло? Алло?
Когда в тот вечер мама укладывала меня спать, она почувствовала, что я от нее что-то скрываю, и спросила, не хочу ли поговорить. Я хотел, но не с ней, поэтому сказал: «Не обижайся, но нет». — «Ты уверен?» — «Très fatigué», — сказал я, помахав рукой. «Хочешь, я тебе что-нибудь почитаю?» — «Не-а». — «Можем поискать ошибки в «Нью-Йорк Таймс»». — «Спасибо, нет». — «Ну, ладно, — сказала она, — спи». Она меня чмокнула и выключила свет, а потом, когда почти совсем вышла, я сказал: «Мам?», и она сказала: «Да?», и я сказал: «Обещай, что не похоронишь меня, когда я умру».
Она снова подошла, положила руку на мою щеку и сказала: «Ты не умрешь». Я сказал: «Умру». Она сказала: «Если и умрешь, то очень не скоро. Ты будешь жить долго-долго». Я сказал: «Ты же знаешь, что я жутко храбрый, но вечно лежать в яме под землей я не смогу. Просто не смогу. Ты меня любишь?» — «Конечно, я тебя люблю». — «Тогда положи меня в мавзолей». — «В мавзолей?» — «Как в книжках показано». — «Нам про это обязательно говорить?» — «Да». — «Прямо сейчас?» — «Да». — «Почему?» — «Потому что вдруг я умру завтра?» — «Ты не умрешь завтра». — «Папа тоже не думал, что завтра умрет». — «С тобой такого не может случиться». — «С ним тоже не могло». — «Оскар». — «Просто я запрещаю тебе меня хоронить». — «Неужели ты не хочешь лежать вместе со мной и с папой?» — «Папы там нет!» — «Как это нет?» — «От него ничего не осталось». — «Не говори так». — «А как говорить? Это же правда. Не понимаю, почему все притюряются, что он там». — «Не расходись, Оскар». — «Там просто пустой ящик». — «Нет, не просто пустой». — «Не хочу я лежать рядом с пустым ящиком!»
Мама сказала: «Там его дух», и это меня уже по-настоящему достало. Я сказал: «У папы не было духа! У него были клетки!» — «Там наша память о нем». — «Наша память о нем здесь», — сказал я, указывая на свою голову. «У папы был дух», — сказала она, точно отматывая наш разговор к началу. «У него были клетки, а теперь эти клетки на крышах, и в реке, и в легких у миллионов людей по всему Нью-Йорку, и они их выдыхают, когда разговаривают!» — «Не говори таких вещей». — «Но это же правда! Почему ты запрещаешь мне говорить правду!» — «Ты переходишь все границы». — «Если папы нет, мам, это вовсе не значит, что можно быть нелогичной». — «Очень даже значит». — «Нет, не значит». — «Возьми себя в руки, Оскар». — «Отъебись!» — «Что?!» — «Извини. Я хотел сказать, отсовокупись». — «Тебе необходим тайм-аут!» — «Мне необходим мавзолей!» — «Оскар!» — «Перестань мне врать!» — «Кто тебе врет?» — «Где ты была!» — «Где я была когда?» — «В тот день!» — «Какой день?» — «В тот». — «В каком смысле?» — «Где ты была!» — «Я была на работе». — «А почему не дома?» — «Потому что я должна ходить на работу». — «Почему ты не забрала меня из школы, как другие мамы?» — «Оскар, я бежала домой со всех ног. Но мне сюда добираться дольше, чем тебе. Я решила, что лучше нам встретиться дома, чем тебе дожидаться меня в школе». — «Ты должна была быть дома, когда я пришел». — «Я бы и сама так хотела, но это было невозможно». — «Надо было, чтобы возможно». — «Я не умею делать невозможное возможным». — «Ты должна была». Она сказала: «Я бежала домой, как сумасшедшая». Потом она заплакала.
Топор побеждал.
Я прижался к ней щекой. «Мавзолей можно без наворотов, мам. Главное, чтобы над землей». Она глубоко вздохнула, обвила меня рукой и сказала: «Если без наворотов, тогда ладно». Я стал придумывать, как бы ее расколоть, потому что решил, что если это получится, она перестанет на меня злиться и снова будет любить. «И обязательно с копытами». — «С чем?» — «Чтобы я мог их отбросить». Она улыбнулась и сказала: «О'кей». Я засопел, поняв, что план срабатывает. «И с биде». — «Непременно. Одно биде клиенту!» — «И с электрическим заграждением?» — «С электрическим заграждением?» — «Чтобы могильщики не разворовали мои драгоценности». — «Драгоценности?» — «Ага, — сказал я. — Драгоценности мне тоже понадобятся».
Мы вместе раскололись, что было необходимо для возвращения к любви. Я достал из-под подушки дневник самочувствия, открыл на текущей странице и заменил ПОДАВЛЕННО на ПОСРЕДСТВЕННО. «Вот и отлично!» — сказала мама, заглядывая мне через плечо. «Не отлично, — сказал я, — а всего лишь посредственно. И, пожалуйста, не подглядывай». Она потерла мне грудь, что было приятно, хотя пришлось немного повернуться, чтобы она не нащупала на шее ключ, тем более, два.
«Мам?» — «Да». — «Ничего».
«Что с тобой, котенок?» — «Правда, было бы здорово, если бы в матрасах делали выемки для рук, чтобы, когда ты поворачиваешься набок, их можно было туда класть?» — «Это было бы отлично». — «И, наверное, полезно для спины, потому что не искривлялся бы позвоночник, а я знаю, как это важно». — «Это очень важно». — «И обниматься удобнее. А то одна рука все время мешается, да?» — «Да». — «Очень важно, чтобы людям было удобно обниматься». — «Очень».
ПОСРЕДСТВЕННО
СДЕРЖАННО ОПТИМИСТИЧНО
«Я скучаю по папе». — «Я тоже». — «Правда?» — «Конечно, скучаю». — «Нет, правда?» — «Неужели ты сомневаешься?» — «Просто ты не ведешь себя так, как когда скучают». — «А как я себя веду?» — «Я думаю, ты сама знаешь, как». — «Нет, не знаю». — «Я слышу, как ты смеешься». — «Как я смеюсь?» — «В гостиной. С Роном». — «Ты думаешь, что если я иногда смеюсь, значит, я не скучаю по папе?» Я повернулся набок, спиной к ней.
СДЕРЖАННО ОПТИМИСТИЧНО
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО
Она сказала: «Я и плачу много, к твоему сведению». — «Я что-то не замечал». — «Может, потому, что я не хочу, чтобы ты замечал». — «Почему не хочешь?» — «Это несправедливо по отношению к нам обоим». — «Нет, справедливо». — «Мы должны жить дальше». — «Сколько ты наплакала?» — «Сколько?» — «Ложку? Миску? Ванну? Если сложить все вместе». — «Слезами горе не измеришь». — «А чем?»
Она сказала: «Я пытаюсь заново научиться радоваться. Когда я смеюсь, мне радостно». Я сказал: «А я не пытаюсь заново научиться радоваться и не буду». Она сказала: «Ну и напрасно». — «Почему?» — «Потому что папе хотелось бы, чтобы ты радовался». — «Папе хотелось бы, чтобы я его помнил». — «Разве нельзя помнить и одновременно радоваться?» — «Разве обязательно было влюбляться в Рона?» — «Что?» — «Ясно же, что ты в него влюбилась, вот только не пойму, почему? Что в нем такого особенного?» — «Оскар, ты никогда не думал, что в жизни все не так однозначно?» — «Я об этом думаю постоянно». — «Рон мой друг». — «Тогда обещай, что ты больше никогда не влюбишься». — «Оскар, Рону тоже сейчас нелегко. Мы друг другу помогаем. Мы друзья». — «Обещай, что не влюбишься». — «Почему ты об этом просишь?» — «Или ты обещаешь, что никогда не влюбишься, или я тебя больше не люблю». — «Это несправедливо». — «Ну и пусть! Я твой сын!» Она сделала громаднейший вздох и сказала: «Как же ты похож на папу». И тогда я сказал то, чего говорить не собирался и вообще не хотел. Говоря это, я одновременно сгорал от стыда за то, что мои слова смешаны с папиными клетками, которые я вдохнул, когда мы были на граунд зеро. «Уж лучше бы на его месте была ты!»
Она продолжала смотреть на меня целую секунду, потом встала и вышла из комнаты. Мне хотелось, чтобы она хлопнула дверью, но она не хлопнула. Она ее осторожно прикрыла, как всегда. Я чувствовал, что она так и стоит под дверью.
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО
ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО
«Мам?»
Ничего.
Я слез с кровати и подошел к двери.
«Беру сказанное назад».
Она молчала, но я слышал, как она дышит. Я положил ладонь на ручку двери, потому что представил ее ладонь на ручке двери с другой стороны.
«Я же сказал, что беру сказанное назад».
«Такое назад не берется».
«Тогда прости».
Ничего.
«Ты принимаешь мои извинения?»
«Не знаю».
«Как ты можешь не знать?»
«Я не знаю, Оскар».
«Ты на меня сердишься?»
Ничего.
«Мам?»
«Да».
«Ты все еще сердишься?»
«Нет».
«Ты уверена?»
«Я на тебя не сердилась».
«А что же тогда?»
«Мне больно».
ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО
ВИДНО, Я УСНУЛ НА ПОЛУ. КОГДА Я ПРОСНУЛСЯ, МАМА СТАСКИВАЛА С МЕНЯ РУБАШКУ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ, ЧТОБЫ ПЕРЕОДЕТЬ В ПИЖАМУ, И ЗНАЧИТ, ДОЛЖНА БЫЛА УВИДЕТЬ ВСЕ МОИ СИНЯКИ. Я ИХ ПЕРЕСЧИТАЛ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ, И БЫЛО РОВНО СОРОК ОДИН. НЕКОТОРЫЕ РАСПЛЫЛИСЬ, НО БОЛЬШИНСТВО МАЛЕНЬКИЕ. Я ИХ НАСТАВИЛ НЕ ДЛЯ НЕЕ, НО ВСЕ РАВНО ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОНА СПРОСИЛА, ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ (ХОТЯ ОНА, СКОРЕЙ ВСЕГО, ЗНАЕТ), И ПОЖАЛЕЛА МЕНЯ (ПОНЯВ, НАКОНЕЦ, КАК МНЕ ТЯЖЕЛО), И УСТЫДИЛАСЬ (ПОТОМУ ЧТО ОНА В ЭТОМ ТОЖЕ ВИНОВАТА), И ПООБЕЩАЛА, ЧТО НЕ УМРЕТ, ОСТАВИВ МЕНЯ СИРОТОЙ. НО ОНА НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛА. А УВИДЕТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ЕЕ ГЛАЗ ПРИ ВИДЕ СИНЯКОВ Я ТОЖЕ НЕ СМОГ, ПОТОМУ ЧТО ГОЛОВА ЗАСТРЯЛА В РУБАШКЕ, И ЛИЦО БЫЛО, КАК В КАРМАНЕ ИЛИ ПОД ЧЕРЕПОМ.
Назад: ПОЧЕМУ Я НЕ ТАМ, ГДЕ ТЫ 21/5/63
Дальше: МОИ ЧУВСТВА[53]

