КНИГА ВТОРАЯ.
ЖРЕЦЫ ОХРАНКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ВИЦЕ-КОНСУЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ГЛАВА 1

— Военным атташе Эквадора я уже был. А теперь буду личным и полномочным представителем короля Никарагуа, не знаю, есть ли там король, а? — Камо с серьезным видом посмотрел на Антона.
— По-моему, нет там короля, — усомнился Путко. — Нельзя что-нибудь поближе и попроще?
— Нельзя, — кавказец отрицательно повел ладонью. — Чем необычней, тем больше впечатление.
— А как же язык? Их, никарагуагский? — с трудом выговорил студент.
— То-то и дело: никто его и не знает. Вот ты и будешь у меня за переводчика. Я тебе: «Барлы-марлы-тарлы, барекам!», а ты им: «Гоните сотню револьверов и по сто патронов к каждому, приятели!» Я тебе: «Шурлы-курлы-бурлы», а ты: «И десяток пулеметов системы Манлихера заверните, платим наличными!»
Он рассмеялся:
— Сойдет?
— Шутишь? — догадался Антон.
— А почему без шуток, дорогой? Без шуток жить скучно!
Поезд шел из Парижа в Берлин. В купе они были одни и могли под стук колес говорить не таясь.
С того дня, как Антон вместе со своим подопечным вышел из экспресса на перрон вокзала Сен-Лазар, прошло неполных три месяца. Но за это недолгое время новые впечатления, калейдоскоп встреч и событий отодвинули петербургскую его жизнь в далекое прошлое.
На парижском вокзале у выхода из вагона их встретил средних лет мужчина, в котором и по первому взгляду можно было признать русского: в белой косоворотке на черных пуговицах, в картузе, надвинутом на широкое веснушчатое лицо с пшеничными рачьими усами. С Лидиным он обнялся как со старым приятелем, назвал адрес, по которому бородач должен был явиться, а студента повел пешком чуть ли не через весь город к себе на квартиру. Представился он Антону Виктором.
Путко с интересом оглядывал эмигрантское жилище, как бы вписывая себя в эти стены и в этот быт. Комната была на самой верхней лестничной площадке, с темными отклеивающимися обоями, с прокопченными углами. У стены стояла железная койка под серым одеялом, у окна стол из ящиков и два табурета, на полу и подоконнике громоздились книги.
— Шикарно? — перехватив его взгляд, усмехнулся Виктор. — А твои миллионы на какой банк переведены?
Перед отъездом мать наскребла-таки денег, Антон не смог отказаться. Сумма была скромная, но все же... Он назвал. Виктор прикинул в уме, перевел рубли на франки:
— Неплохо. По третьему эмигрантскому разряду на полгода достанет. Если, конечно, не вздумаешь пополнять гардероб и болеть. Впрочем, у нас тут свой доктор есть — на все хворобы мастер.
— А как это: по третьему эмигрантскому?
— Простота! Десять-пятнадцать франков в месяц на жилье, это около четырех-пяти рублей. Обед: шестьдесят-восемьдесят сантимов, то есть двадцать-тридцать копеек, в «популярке» можно обойтись и пятиалтынным. Многие наши обедом и ограничиваются. Конечно, без завтраков и ужинов туговато, да ничего не поделаешь: привыкнешь. Ничего, восполнять их будешь пищей для ума и сердца. Если же ты обжора, завтрак — хлеб с чаем — стоит десять-пятнадцать сантимов.
У Антона засосало под ложечкой.
— Рекомендую соблюдать режим с первого дня, иначе туговато будет. С завтрашнего. А нынче по случаю благополучного прибытия кутнем. Тут рядом есть студенческая столовка. В ней к тому же русским скидка — за то, что непривередливы.
Виктор нахлобучил картуз:
— Двинули. Заодно кой с кем из наших познакомлю.
Вдоль узкого помещения тянулись два ряда столиков, застланных пестрой клеенкой. У входных дверей парень жарил на черной чадящей сковородке картофель, в проходе сновали хорошенькие толстушки в белых чепчиках и грязных фартуках и во весь голос пронзительно выкрикивали заказы в сторону стойки, над которой возвышалась яркая блондинка с жирно блестевшим носом. За спиной матроны, на стене от потолка свисал на крюке щит меню. Цифры были выведены огромными черными знаками.
— Не просчитаешься, — показал на них Виктор.
За столиками тесно сидели парни и девушки. Парни, заказывая еду, норовили ущипнуть официанток, толстушки шутливо отвешивали оплеухи. Антон увидел, что большинство посетителей уплетает огромные, подозрительного цвета сосиски.
— Что это они выкрикивают? — повел головой Антон в сторону официанток, обескураженно чувствуя, что доморощенный французский начинает подводить его.
— Эти сосиски с отрубями они называют «дурочками». Слышишь, так и заказывают: «большую дурочку» или «маленькую дурочку». Салат на здешнем языке — «хлорофилл», а вино — «ай-ю-ю!». Что будем заказывать?
Они заказали по «большой дурочке», по порции «хлорофилла» с жареным картофелем и по стакану крепкого, самого дешевого, алжирского вина. Официантка обратилась к Антону тоже на «ты», как к завсегдатаю, и это ему польстило.
— Как они держатся!
— Что ни мордашка — прелесть, — неточно понял его Виктор. — Если приглядеться, ничего особенного, многие даже некрасивы. Но, обрати внимание, ни одной простушки. По-французски это и называется «шарм».
Антона поразило, что товарищ по партии ведет такой легкомысленный разговор. Но он и сам с удовольствием глазел по сторонам, восторгаясь каждым девичьим лицом.
— Я же говорил: кого-нибудь из наших непременно принесет! — Виктор подтолкнул его в бок и показал на вкатывающегося в столовую толстяка, который снимал в дверях мягкую шляпу. — Вот и наш эскулап. И окликнул:
— Яков, прошу к нашему шалашу!
Толстяк подошел. Виктор представил Антона:
— Сегодня принял на Сен-Лазаре. Товарищ Владимиров.
— Очень приятно, — протянул толстяк руку, оказавшуюся в пожатии неожиданно твердой и сильной. — На что жалуетесь, коллега?
— Сразу и меддопрос! — засмеялся Виктор. — Люби его и ублажай, Владимиров, это тот самый доктор, который пользует всю российскую колонию, особливо нашего брата большевика: Яков Отцов.
«Так вот кто носит псевдоним, который хотел взять я!» Антон с особенным интересом посмотрел на невольного своего соперника. Доктор понравился ему. От всей его фигуры веяло добродушием и спокойствием. Наверное, у такого врача хорошо лечиться, всегда будешь уверен в быстром выздоровлении...
Отцов тоже заказал «большую дурочку», «хлорофилл», вино и, поглощая их, со знанием и интересом начал расспрашивать о Питере. И тоже, на удивление Антону, не о политических событиях, не о партийных делах, а о гастролях Собинова и Анны Павловой, да пошел ли по Литейному электрический трамвай, и все так ли весело на Крестовском... Неожиданно в этих расспросах Антону почудилась тоска товарища по России, по дому. И юноша понял: если и его, немолодого врача, час обеда загоняет в студенческое бистро, не так уж блестящи его житейские дела.
Тут же втроем они обсудили, чем следует заняться Антону. Виктор посоветовал, не теряя времени, записаться на факультет в Сорбонну, позаботиться о жилье. И Антон отметил про себя, что ни его добровольный опекун, ни доктор не интересуются даже, каково же его партийное задание, что привело его в Париж, помимо столь прозрачного повода «продолжать учебу», и чем он занимался в России. Это была та ненавязчивая, непоказная конспирация, которой учил его Феликс.
В тот же день Виктор помог Путко снять неподалеку от его собственного обиталища крохотную, почти без всякой мебели, комнатку под самой крышей — доподлинную студенческую мансарду с покатым потолком на улочке рю Мадам в Латинском квартале, рядом с Сорбонной и под боком у собора Сен-Жермен-де-Пре. Хозяйка, узнав, что постоялец — русский, сразу же предупредила: она и ее квартиранты не терпят песен после полуночи; появления гостей, когда дом уже спит; громких споров, бросания окурков в окна и всего прочего, что неизменно связано с представлением: «Oh, ces russes!» Антон торжественно (но легкомысленно) обещал, что ничего подобного он себе не позволит. И началось его приобщение к эмигрантской жизни, знакомство с ее обычаями и нравами, а заодно и с Парижем.
Город бесславных Людовиков и великой Коммуны, бравых мушкетеров и гениальных мыслителей, город сверкающих огнями Больших бульваров и кривых, как в Замоскворечье, переулков поразил его, хотя из книг, из гимназического курса классических и прочих наук, своими памятниками истории и культуры был, казалось, знаком досконально. Поразил он Антона не предметными открытиями. Действительно, Нотр-Дам, Триумфальная арка и Эйфелева башня были точно такими же, как на рисунках Бенуа, разве лишь не столь величественными, как представлялись; и треугольная шляпа Наполеона хранилась рядом с гробницей императора в подземелье Дома Инвалидов. Но дух Парижа, сам воздух, вдыхаемый его жителями и определявший, казалось, их характер и темперамент, был как играющее солнечной чешуей море по сравнению с закованной в лед Невой. Только что премьер Клемансо подавил бунты виноградарей на юге Франции, бастовали горняки на севере и машинисты поездов метро в самой столице, — а Париж беспечно смеялся, кутил, танцевал, флиртовал, тратил последние франки в кабачках Монмартра, был весел и абсолютно равнодушен к кому бы то ни было, к чьему бы то ни было несчастью. Поистине — солнечные блики на поверхности воды, пусть ледяной и черной в глубине.
Скованная льдом жизнь на родине была суровей, но зато и определенней. Антон представил, каким бы недопустимым контрастом выглядела в режиме полицейского Петербурга жизнь эмигрантов — точно так же, как если бы стайка бразильских колибри залетела в вороний грай на деревья Измайловского сада. Но если прежде по обрывочным рассказам, просто в своем воображении Путко представлял русскую эмиграцию в Париже как некую сплоченную группу единомышленников-борцов, дружно преодолевающих невзгоды во имя общей цели, думал, что существует какой-то особый квартал в городе, где все политические живут бок о бок и чуть ли не ходят взявшись за руки, то именно в этом он разочаровался больше всего. Новый центр новой российской эмиграции только еще заполнялся прибывающим людом, вырвавшимся из царских застенков, из тюрем или с этапов. Эмигранты рассеивались по городским трущобам, и при встречах жестоко спорили меж собою, кляня и свою судьбу, и неудачную попытку поднять темную массу забитого крестьянства на великие свершения: социалисты-революционеры, анархисты, народные демократы, представители меньшевистской фракции РСДРП — каких только мастей и колеров не было в среде эмигрантов.
Среди всех уверенно в себе, поистине дружно держались лишь большевики. На сетования обозленных людей, которые кляли себя за участие в «роковом безнадежном предприятии», большевики отвечали: «Революция, хоть и потерпевшая временное поражение, — незаменимая школа борьбы. Придет час, и возьмемся снова!» Эта их уверенность и достоинство наполняли Антона чувством гордости. Он — частичка этой партии, и он готов, как и прежде, к выполнению любых ее заданий. Но вот только не забыли ли товарищи о его существовании? Почему нет вестей ни от Феликса, ни от Леонида Борисовича? А тот же круглолицый Виктор с пшеничными усами только и делает, что пожирает книжки и «больших дурочек».
Но однажды поздним вечером — как раз в тот час, когда ветхий дом на рю Мадам, населенный рано поднимающимся на работу людом, гасил огни, — ступени лестницы исполнили энергичное аллегро на ксилофоне, в дверь гулко забарабанили, послышался знакомый хриплый голос:
— Принимай, дорогой хозяин, гостей!
И в мансарду в сопровождении Виктора ввалился Камо.
Вот кому был рад Антон!
— Проходите, проходите, товарищи! — он засуетился, подставляя колченогие стулья. — Хотите чаю или кофе? Это я в момент!
— А водки у тебя нет? Эх ты, скучно живешь!
— Могу и за водкой!
— Смотри, поверил! — рассмеялся Семен. — Какой же кавказец употребляет эту гадость? Ставь бочонок имеретинского или, на плохой конец, коньяк! Нету? Пусто в кармане? Хочешь подзаработать, а? Осла позвали на свадьбу, а он говорит: «Знаю, зачем зовут: или воду возить, или жернов крутить». Вот так и тебя!
В этом залпе насмешливых шуток Антон уловил для себя что-то обидное. «Не простил он мне Куоккалы?» — подумал Путко.
— Ты не обижайся, — миролюбиво сказал Семен. — Ты же свой, да? А мне правда нужен помощник. Я тут проездом, чужому человеку нельзя доверить, а вот он, — Камо кивнул на Виктора, — не может, должен встретить одного нашего, из России. Поможешь? За три дня обернемся.
— Конечно, помогу. Что надо?
— Ах какой, сразу что да почем! По дороге все и узнаешь. Встречаемся завтра в семь утра на вокзале Бурже, у первой кассы, запомнил?
На вокзале роль Антона прояснилась. В камере хранения Семен получил два больших тяжеленных чемодана, перетянутых ремнями. Их предстояло доставить в Берлин, а оттуда еще куда-то. Чем набиты чемоданы, Антон не знал. Догадывался — не побрякушками.
Вот тогда-то, в купе поезда, и зашел у них разговор об Эквадоре и Никарагуа. Камо рассказал — теперь та история быльем поросла, — как полтора года назад он вместе с Феликсом закупал оружие в Бельгии, в Льеже. Семен изображал атташе Эквадора. Часть того оружия была благополучно переправлена на Кавказ, в боевые дружины партии, все остальное покоится на дне морском — там, где наскочила на мель шхуна «Зара». Товарищ Владимиров не слышал об этой печальной истории, нет? Ну и хорошо, что не слышал. А вот теперь у партии снова есть деньги, и немалые. Товарищ Владимиров догадывается, откуда они взялись? То-то!.. И надо снова покупать оружие. Только никогда не следует повторять сыгранную роль, надо придумать что-нибудь оригинальное. Если в Никарагуа и нет короля, он, Камо, поищет, где подходящий король имеется.
Почему ему нужен непременно король, Камо не объяснил, — на короле он поперхнулся, закашлялся.
— Простыл? — участливо спросил Антон.
Кавказец отрицательно покачал головой.
— Тогда много куришь. Вредно.
Камо потер ладонью горло:
— Не курю я совсем, дорогой. Доктор тоже: «У тебя хронический катар», — знаешь нашего доктора? Хороший человек. «Конечно, катар», — говорю, зачем обижать человека? Обманул, это ведь у меня от веревки.
— Какой еще веревки?
— Ну, когда вешали, понимаешь? — Семен весело посмотрел на студента. Взгляд его был с косинкой.
— Вешали? — в ужасе переспросил Антон.
— Конечно. В декабре пятого мы подняли вооруженное восстание в Тифлисе, мои боевики в Надзаладеви держали оборону, знаешь этот район?
— Нет, я только Солалакскую, Лорис-Меликовскую, Миллионную... и Эриванскую площадь! — улыбнулся юноша.
— Не знаешь ты тогда Тифлиса. Надзаладеви — по-русски Нахаловкой называют, рабочие там живут. Там меня и схватили казаки. Ни за что бы не схватили, да без сознания был, пять дырок сделали, — он ткнул пальцем себе в плечо, руку и ногу.
Антон с удивлением разглядывал его круглое, простодушное, с круглыми веселыми глазами под темными дужками бровей лицо: трудно поверить! И говорил он весело, как о приключении.
— Один казак нос хотел отрезать, а я взмолился: «Послушай, ай мард, как же я к девушкам без носа, чего подумают, а?» Не о девушках я, понятно, а как без носа, на конспиративной работе? Нос — самая особая примета. Можно, конечно, резиновый, а вдруг в самый момент отскочит? Казак оказался добрый: «Все равно — без носа или с носом вздернуть!» Стали они меня вешать. Один раз я уже плясать на веревке начал, они сняли и снова с дурацкими вопросами: «Где твои прячутся, как зовут?» Они снова накинули веревку, а я незаметно подбородок в петлю подсунул и вишу хоть бы хны, целую жизнь так можно висеть. Веревка и оборвалась. Они удивились, что живой, и в Метехский замок отправили, чтобы как полагается повесить, по всем правилам. А я из замка и удрал. Дырки зажили, а вот хрипота осталась. Доктор думает: катар, вот чудак, а?
«Дурака он валяет? Врет все? — в смятении думал Антон, разглядывая Камо. — А тогда, на Эриванской, среди бомб — офицером на дрожках?.. Ну и человек!»
— А давно ты начал... так вот? Сколько тебе было?
— Длинный язык укорачивает жизнь, знаешь? Но тебе скажу: не молодым начал, девятнадцать уже стукнуло.
— А как?
— Э, и вспоминать скучно: письма носил, на собрания собирал, библиотеки устраивал. Правда, на одной демонстрации при красном знамени шел...
Антон подумал: «А мой кружок на Арсенальной, листовки и ночевки? Но до сих пор еще ничего важного, а мне уже двадцать один!»
— Да, а как листовки бросали — очень красиво получилось! — вспомнил, оживился Семен. — В театре «Гамлета» давали. В ложе сам наместник, в партере от золота глазам больно, а мы на галерке, в первом ряду. Открылся занавес: Эльсинор, площадка перед замком, часы бьют полночь — и появляется призрак! Помнишь: темно, сзади синий свет, и Горацио обращается к призраку...
Камо поднялся с сиденья, развел в стороны руки и продекламировал:
— «Кто ты, без права в этот час ночной, принявший вид, каким блистал, бывало, похороненный датский государь, — я небом заклинаю, отвечай мне!»
Семен снова откинулся на мягкую спинку:
— Все оцепенели, в этот самый момент мы и пустили в зал — как белые голуби. Что началось!
Он самодовольно ухмыльнулся.
— А еще раз, тоже на Шекспире, на «Ромео и Джульетте». Только, чтобы не повторяться, не в начале, а в самом конце, в пятом акте — зачем обижать классика, пусть посмотрят... А когда Ромео появился с факелом на кладбище у гробницы, куда засунули его возлюбленную, — Камо снова начал с чувством, нараспев: — «О смерть с ненасытимою утробой, ты съела лучший из плодов земли! И вот тебе я челюсти раздвину и брюхо новой пищею набью!..» Как сказал он: «брюхо набью», мы со своей галерки и бросили. Одна пачка не рассыпалась, прямо на плешь генералу, командующему войсками, хлоп! Он чуть богу душу не отдал!
Антон слушал во все уши. Вот это биография!
— А не страшно?
Камо пожал плечами:
— Ты знаешь, все говорят и говорят: «Страшно, но все равно долг выше, в том и дело, чтобы перебороть страх». А мне, если по-честному, вот ни столько не страшно.
— Даже когда вешали?
— Тоже не было. Думал: «Не может быть такого, чтобы меня повесили, как это я жить не буду?» И вот видишь — живой. Я везучий, знаешь.
— Тьфу, тьфу, не сглазь!
— Э, дорогой, я в приметы и дурной глаз не верю. А драться я с детства люблю, на кулаках, хотя дед у меня святой человек был, от этого к моей фамилии и прибавляется «Тер».
Он осекся, будто понял, что сболтнул лишнее.
— Давай будем друзьями на всю жизнь! — с порывом воскликнул Путко.
— Давай, дорогой. Но если друзья на всю жизнь — надо в один бокал вина по капле крови твоей и моей, и до дна.
— Жалко, вина нет... — сказал Антон. — Вот приедем!..
Багаж был доставлен по назначению, в небольшую деревушку неподалеку от границы. Домик, куда они дотащили чемоданы, стоял на краю селения, у самого леса. Камо постучал. Дверь открыл молчаливый пожилой немец, впустил их и старательно задвинул засов, повернул ключ в скважине.
Хозяин встретил Семена как старого знакомца. Провел их в комнаты, что-то проворчал. Молодой голос отозвался по-немецки, и им навстречу вышел кудрявый молодец с рассеченной бровью, в скрипучих сапогах. Молодец осклабился и на чистейшем русском, с раскатистым «о», пророкотал:
— Здорово, други!
Внимательно глянул на Антона.
— Где я тебя видел?
Одежда кудрявого, его новые сапоги с музыкой показались студенту какой-то приладкой «под народ». Антон невольно вспомнил себя во время поездки по Волге.
— Нигде ты видеть его не мог, на отсидке он еще не был, — весело ответил Камо. — Будь знаком: Владимиров, подопечный Никитича.
— А-а, — многозначительно протянул молодец и представился: — Федор. — Рука у него была цепкая.
Он легко подхватил оба чугунных чемодана и уволок их куда-то в комнаты.
— Передавай приветы, нам гостить нет времени, — сказал Семен, когда он вернулся.
— Куда теперь?
— На кудыкину гору, в гости к королю Леопольду, — ухмыльнулся Камо.
Они обнялись.
На пути в Берлин Антон не удержался, сказал:
— Не нравится мне этот кудрявый, деланный какой-то, дергается, как на ниточках.
— Поздравляю, Шерлок Холмс! — состроил физиономию Семен. — А ты, дорогой, не обратил между прочим внимания на его руки? А стоило бы. Кандалы их до кости проели. Федька и вправду деланный, наш доктор собрал его по кусочкам, когда мы выволокли его из тюрьмы. Сейчас он один из главных наших транспортников. А то, что шумный, — так у нас говорят: беги от той воды, которая не шумит и не журчит...
Приехав в Берлин, они остановились на ночь в отеле «Бремишер-Гоф».
В ресторане Путко заказал бутылку рейнского. Налил бокал до краев, уколол вилкой палец, выдавил каплю крови.
— Чего ты?
— Ты же говорил...
— А, вот оно что, — посерьезнел Камо. — Но знай: до гробовой доски.
Он тоже надрезал палец, и алая быстрая кровь заструилась по нему. Вино на мгновение помутнело, потом снова стало кристальным.
По очереди они отпили из бокала.
— Пируете? — они не заметили подошедшего мужчину в смокинге, со старательно расчесанными напомаженными усами. В мужчине не сразу можно было распознать Феликса.
— Здравствуйте, ребятишки, все в порядке? — сказал он таким тоном, будто они расстались только в обед. —
Семен рассказал о поездке: груз доставлен вовремя и теперь (он глянул на часы) уже должен быть на пути к базе.
— Хорошо, — одобрительно кивнул Феликс и повернул голову к Антону. — Привет тебе от Никитича.
— Как он? — с волнением спросил Путко. — Как его здоровье?
— Ничего, передюжил. Скоро, наверно, появится в этих краях. А ты как устроился?
Антон понял: это не праздное любопытство. Подробно рассказал обо всем, что произошло за дни после их встречи, вспомнил о случае на пляже Крестовского острова, прояснившем окончательно, кто такой его бывший приятель Олег Лашков. Рассказал и о ничем не примечательной, разве что досмотром в таможне, поездке с Лидиным. Феликс слушал молча, лишь кивая. «Мотает себе на усы», — улыбнулся про себя Путко.
— Добро, — Феликс тряхнул жесткой шевелюрой, обрамлявшей могучий его лоб. — Спасибо за помощь. Теперь возвращайся в Париж. Никитич передал: не теряй времени попусту, берись за учебу в Сорбонне.
Он оглядел стол, щелкнул ногтем по бутылке:
— Веселитесь?
Семен взял бокал, допил до дна, перевернул. Единственная капля упала и впиталась в скатерть.
— Лев сказал: «Никого не боюсь — кроме двух братьев».
— О чем ты, восточный мудрец? — не понял Феликс.
Но Антон понял и радостно улыбнулся.
ГЛАВА 2

Экипаж Аркадия Михайловича Гартинга подкатывал к светло-зеленым воротам дома № 79 на авеню Гренель ровно без трех минут восемь. Три минуты требовались ему для того, чтобы пройти через двор, открыть английский замок малоприметной двери во флигеле, миновать комнату канцелярии и сесть в кресло за столом своего кабинета. Аркадий Михайлович отличался исключительной пунктуальностью, не позволял себе ни опаздывать, ни тем более терять время на ожидания.
Однако сегодня, 13 октября 1907 года, он изменил своим привычкам, поднялся на час раньше. Дом его был необычно безмолвен. Впрочем, на половине Мадлен по утрам всегда было тихо. И он представлял, как в постели, еще хранящей память о нем, жена с удовольствием досматривает ночные видения, и ресницы ее вздрагивают, и глазные яблоки перекатываются под веками, будто она притворяется спящей. Не в пример множеству других он берег свой домашний очаг, не скупился на жертвоприношения пенатам, дабы не оставили они покровительством его дом. Он женился поздно. Мадлен была молода и обворожительна, не говоря уже о том, что именита и богата. Это заставляло Аркадия Михайловича не допускать поблажек себе: следить за внешностью, не полнеть, не отставать от моды. Что ж, он благодарен ей и за это. Как говорят французы? «Женщине столько лет, на сколько она выглядит». Эта поговорка относится и к нему. На вид он молодой, лишь преждевременно поседевший мужчина, а резкие морщины на сухом энергичном лице и только набухающие мешки под глазами — свидетельства скорей не лет, а бурной жизни. А кого из представителей сильного пола не красят такие меты? Можно было бы отказаться и от седины. Парижские кауферы — великие искусники. В париках он совсем юноша. Но он не хотел возвращаться в свою молодость. Для этого у него были основания. Нет, Аркадий Михайлович не опасался чего-либо. И все же благородная белая шевелюра очень изменила его лицо. По утрам, тщательно выскабливая щеки, он разглядывал себя. И впрямь — мужское лето. И щеки не одрябли, и руки — не мягкие подушки и не сухой, в прожилках, пергамент: крепкие, загорелые, бугрящиеся мускулами. Выдавала возраст только шея с морщинистым старческим зобом. Но он носил высокие жесткие воротники, и даже у ночных рубах и пижам был высокий глухой ворот — и в постели Мадлен не должна чувствовать разницу их лет.
Как возраст матери определяют по возрасту ее детей, так молодят его и эти двое шаловливых малышей, Аннет и Серж. Он любит их той особой, снисходительной и восхищенной любовью, которая доступна лишь пожилым родителям, принимающим детей как чудо. К тому же он переносит на них и свое всепоглощающее чувство к их матери. Дети просыпаются рано. И, вставая, Аркадий Михайлович слышит их возню и смех наверху, прерываемые назидательными нотациями гувернантки. И это топотанье над головой, как и покойная тишина, словно бы струящаяся из спальни Мадлен, доставляют ему удовольствие и сознание того, что это он дарует благоденствие своему дому, наполняют Аркадия Михайловича гордостью и заряжают молодой энергией на день грядущий.
Горничная с мятым от сна лицом, наспех причесанная и с провисшим подолом нижней юбки, расплескала кофе на блюдце. Швейцар, отпирая дверь, сопел и давился зевотой. Но сегодня Аркадий Михайлович пропускал все это мимо своего внимания, как и неизменно радовавшие его взор картины, когда фиакр нес его от дома с тихой авеню Капуцинов около площади Гран-Опера через Большие бульвары, Конкорд, мимо парка Тюильри, по мосту над Сеной, а затем вдоль ограды Бурбонского дворца — в район посольств и миссий, на неширокую авеню Гренель.
Сегодня Гартинг, отпустив экипаж, не вошел в ворота, а, миновав их, поднялся по ступеням к массивной, темного полированного дерева с латунными ручками, двери, нажал и долго не отпускал кнопку электрического звонка, пока за дверью не щелкнула крышка глазка, не залязгали в скважинах ключи, не забренчали цепочки и дверь не распахнулась. На пороге вытянулся, вскинув бороду и едва не преградив ею вход, привратник Кузьма в расшитой золотом ливрее и с начищенными медалями на могучей груди.
Кузьма озабоченно глянул в лицо Аркадия Михайловича, наметанным оком отметил густую синеву под глазами, которая проступала из-под слоя пудры и свидетельствовала о дурно проведенной ночи, и наспех повязанный галстук, выдающий нервное состояние его владельца, и, что уже вовсе было невиданно, нечисто выбритую щеку. Скрывая смущение, он прогудел иерихонской трубой:
— Здравьжелавьвашвысокблагродь!
И по-уставному отступил на шаг, освобождая дорогу Аркадию Михайловичу.
Привратник Кузьма, трехпалый отставной унтер-офицер, нес службу при посольстве Российской империи с незапамятных времен. Гартинг помнил его с тех пор, когда мальчишкой-студентом впервые побывал на авеню Гренель. Держали старика не столько за усердие, сколько за эту диковинную для Парижа бороду. Сменялись послы, советники, консулы, а Кузьма все стоял на своем посту, и представить эту пядь российской территории без Кузьмы было так же немыслимо, как залу приемов — без портрета императора и Париж — без собора Нотр-Дам.
Привычно кивнув, Гартинг прошел в молчаливые комнаты. В небольшой, еще зашторенной зале на журнальных столиках уже были разложены стопки полученных ночным экспрессом газет из Санкт-Петербурга и утренних парижских изданий, рекламные проспекты, альбомы с изображениями особ царствующего дома и российских достопримечательностей.
Одна дверь вела из залы в кабинет генерального консула, статского советника Зарина, другая — в комнату вице-консула, коим и являлся в штатной росписи дипломатического представительства Российской империи в Париже Аркадий Михайлович Гартинг. Генеральный консул был в длительном отсутствии, принимал курс лечения на водах благословенного Карлсбада, и обязанности Зарина выполнял Гартинг. Он мог располагаться во внушительном кабинете генерального консула, обставленном мебелью, которая массивными своими формами как бы символизировала незыблемость самого государства.
Однако Аркадий Михайлович на сей раз не воспользовался такой возможностью. Он прошел в свою куда более скромную комнату, но не задержался и здесь — открыв малоприметную дверь в панели, Гартинг вступил в узкий коридор-тамбур. Слева и справа легкие двери вели в туалетную и гардеробную. В конце тамбура была еще одна дверь. Отперев и ее, вице-консул оказался в просторном помещении. Половину его занимал роскошный, дорогой резьбы, стол красного дерева под зеленым сукном. Сзади, над затянутым в кожу креслом, висел в золоченом лепном багете портрет Николая II, а справа, напротив окна, портрет младенца-престолонаследника, цесаревича Алексея. Дополняли обстановку напольные часы «Павел Буре», позолоченные канделябры, мраморная статуэтка в углу, диван и кресла под красным сафьяном вдоль стен и у стола, прекрасный ковер на полу. И каждая деталь свидетельствовала о значительности хозяина этого помещения и важности дел, вершимых в этих стенах. Если у кого-либо и могли закрасться на этот счет сомнения, то они тут же и рассеялись бы, стоило только посетителю бросить взгляд на стол, где в рамку слоновой кости, инкрустированной золотом, был оправлен портрет вдовствующей императрицы Марии Федоровны — подарок хозяину кабинета с ее автографом.
И если бы кто-либо мог наблюдать за Аркадием Михайловичем, то уловил бы неприметную для него самого трансформацию, происшедшую за те мгновения, которые потратил он на десяток шагов от кабинета вице-консула до этого величественного апартамента, — трансформацию в выражении лица, в осанке и самой походке. Из холодно-учтивого лицо его приняло выражение жестко-властное, вежливый изгиб спины, столь характерный для дипломатических чиновников, приобрел генеральскую резкость. И даже ступни ног он ставил не так, как в помещении консульства — словно бы с единственным желанием не создавать лишнего шума, — а твердо, на всю подошву, как человек, которого не заботит, что могут подумать о нем окружающие.
Оказавшись в кабинете, Аркадий Михайлович оглядел его, словно бы прощупал глазами решетку окна, выходящего в тенистый внутренний двор, общий для посольства и консульства, удостоверился, что все на своих местах, и, подойдя к столу, привычно сел в кресло, облокотился о его спинку, своими вмятинами и выпуклостями давно уже приладившуюся к спине хозяина.
Там, за двумя дверями с английскими замками, в помещении консульства, Аркадий Михайлович Гартинг был всего лишь средним, шестого класса, чиновником в невысокой должности. Здесь же он являл в своем лице как бы главу сепаратного государства в государстве, имел свой, только ему подчиненный обширный штат сотрудников, своего шифровальщика и свой особый шифр для сношения с Санкт-Петербургом — но не с министерством дел иностранных, а с министерством дел внутренних, ибо Аркадий Михайлович Гартинг был заведующим заграничной агентурой, управителем одного из важнейших подразделений департамента полиции Российской империи.
Перед тайной властью заведующего ЗАГ (как сокращенно именовалась в служебных особо секретных документах заграничная агентура) трепетало само посольство, и Гартингу не указ был даже действительный тайный советник Александр Иванович Нелидов, чрезвычайный и полномочный посол империи. В системе дипломатических миссий российское посольство в Париже считалось одним из наиважнейших. Сам Нелидов, прежде чем удостоиться Парижа, долгие годы представлял империю в Константинополе, Вене, Риме. Все ведущие дипломаты на авеню Гренель были в высоких придворных чинах, камергеры или шталмейстеры. Здесь набирались опыта те, кому самой судьбой были уготованы кабинеты в посольствах, во дворцах на Сенатской или Исаакиевской. Вот и сейчас на побегушках при военном атташе были князь штаб-ротмистр Орлов и князь лейтенант флота Голицын.
Мало кто в посольстве знал о действительной роли Гартинга. Однако личность его была окружена ореолом таинственности. И хотя за его фамилией не обозначалась громкая в истории отечества родословная, но в торжественные дни на его парадном мундире сверкало столько бриллиантовых звезд и золотых с эмалью крестов, к тому же не одних российских, что этому мог позавидовать не то что сам посол, но даже и кое-кто из членов царской фамилии. Посольские побаивались Гартинга и не упускали повода выказать ему уважение, не соответствовавшее его скромной должности: бывало, что неосмотрительный насмешник, столичный ловелас, рисовавший в своем воображении радужные перспективы, вдруг получал уведомление о переводе куда-нибудь в египетскую жару. Ибо ни один смертный не лишен недостатков и хоть единожды, за карточным столиком, в дружеском кругу или в постели любовницы, да и выскажется фривольно... И в Санкт-Петербурге чиновник, глядишь, и «загнет угол» на его служебной карточке. Впрочем, Аркадий Михайлович в подобных случаях не проявлял поспешности, ибо нужно было предусмотреть тысячи сопутствующих обстоятельств: кто обрадуется освобождению штатной должности в Париже, а кто и захочет заступиться за титулованного отпрыска. В пестром клубке интриг высшего света Гартинг прослеживал все нити.
Но, конечно, же, на заграничную агентуру возлагались куда более серьезные и обширные задачи. Среди них немаловажное место занимало наблюдение за национальными движениями в сопредельных странах, за иностранной прессой, затрагивающей вопросы внутренней или внешней политики России, за развитием международных отношений, деятельностью международных социалистических организаций и особо — Международного социалистического бюро. Но и эти задачи были лишь второстепенными в перечне писаных и неписаных обязанностей ЗАГ. Самая же главная заключалась в том, чтобы через консульства, с помощью собственных агентов и агентов частных иностранных сыскных бюро, а также используя перлюстрацию, следить за русской политической эмиграцией, изучать ее объединения и группировки, литературно-издательскую деятельность и прессу. Для этого Гартинг должен был внедрять своих осведомителей в партийные школы, организуемые за границей, и в транспортные группы, с помощью которых литература и оружие направлялись в Россию. Его обязанностью было наблюдать за бытовыми условиями жизни эмигрантов, а также не упускать из поля зрения связи между партийными ячейками в империи и их организациями за границей. Не только на территории Франции: дом на авеню Гренель был как бы штаб-квартирой, куда стекались сведения, добываемые людьми вице-консула в Вене и Риме, Лондоне и Стокгольме, Бухаресте, Белграде, Софии, Афинах и даже за океаном, в Нью-Йорке и Бостоне. Сколько их было, агентов ЗАГ, что они собой представляли — об этом знал только Гартинг. Он же был организатором царской тайной полиции за границей.
Впрочем, Аркадий Михайлович не переоценивал своих заслуг. Заграничная агентура была создана не им, хотя ныне он — старейшина ЗАГ по стажу работы. Российскую тайную политическую полицию основал в Париже, еще при Александре III, чиновник особых поручений Рачковский, и он же добился такого ее расцвета и авторитета, что президент Франции Лубэ охотнее доверял охрану своей персоны агентам Рачковского, чем своим собственным. Немало чиновников сменяли один другого в кабинете на авеню Гренель, пока Аркадий Михайлович неуклонно поднимался по ступеням охранной службы. Но вот в 1905 году он занял наконец и этот кабинет. С той поры сменилось два министра внутренних дел — Святополк-Мирский и Дурново, и правит третий, Столыпин, а никого лучше Гартинга они не смогли найти среди своих верных людей, хотя куда как заманчиво это кресло! Да, истинно: не место красит человека, а человек — место, так-то, господа!.. Аркадий Михайлович не жалеет усердия для дела политического сыска, ибо оно — его призвание. Вполне образованный и достаточно независимый для того, чтобы не принимать на веру авторитеты, он использует в своей деятельности опыт европейских политических полиций. Хотя принцип российской охранной службы решительно отличается от любого другого, ибо основание всей ее системы — не собирание улик и расследование, а внедрение секретных сотрудников-провокаторов. И все же небесполезен опыт германской политической полиции, забрасывающей как можно более густую сеть пусть и неквалифицированных агентов. Но Гартингу больше импонирует тонкий английский стиль: агентов немного, зато каждый — мастер своего ремесла; таким приходится платить больше, зато и результаты лучше. Уже сколько раз благодаря осведомленности заведующего ЗАГ сведения о важнейших антиправительственных злоумышлениях, намечаемых в самой России, департамент получал из Парижа! Сам же вице-консул был превосходно осведомлен обо всем, что происходило в Петербурге, и особенно на Фонтанке и даже при дворе.
Он знал и о переполохе, который неожиданно вызвал, казалось бы, малозначительный факт тифлисской экспроприации, и о том, какую окраску придал делу государь, как отреагировал Столыпин, в каком затруднительном положении оказался директор Трусевич. И бородач-привратник Кузьма, приметив небрежность в одежде вице-консула и синеву под глазами, напрасно подумал, что его высокоблагородие находится в дурном расположении духа. Отнюдь. Со вчерашнего дня Гартинг пребывал в том особенном, без вина хмелящем состоянии возбуждения, какое испытывает рыбак, закинувший леску на окунька и вдруг почувствовавший, что на крючок попалась совсем иная рыбина — невероятная, огромная. Он тянет леску, подпускает, снова напрягает — и уверен, что и она не лопнет, и крючок не соскользнет, и у самого хватит сил и умения вытащить добычу. Впрочем, однажды, два десятилетия назад, на заре своей карьеры, он испытал такое же восхитительное чувство. И оно не обмануло его. Оно предсказало все: ордена, звания, состояние, положение в обществе, это кресло в центре Парижа, даже Мадлен...
Казалось бы, за эти последние сутки ничего особенно значительного не произошло: просто он сделал свой ход в игре, в которой принимают участие государь, Столыпин и Трусевич. Может быть, игра и не стоит такой затраты эмоций. Но сейчас он полагается на свою изощреннейшую интуицию. А интуиция еще никогда не подводила его.
Аркадий Михайлович перебрал ключи на цепочке, полуобернувшись в кресле, открыл дверцу потайного сейфа, вмонтированного в стену за портретом императора, и достал тонкую кожаную папку. И снова с удовольствием, критически отмечая недостатки стиля, принялся читать копию донесения, которое вчера вечером отправил директору департамента:
«Имею честь доложить Вашему превосходительству, что на днях в Берлин прибыл некий армянин из Тифлиса, носящий кличку «Камо», настоящая же его фамилия пока агентуре неизвестна; он разъезжает по загранице с паспортом на имя австрийского подданного (из Тифлиса) Demetrius Mirsky. Названный Камо, принимавший участие в устройстве 11 типографий, 3 лабораторий бомб, в массовой доставке оружия, несмотря на свои молодые годы (24 г.), является крайне активным и смелым революционером-террористом, высоко ценимым всеми большевиками, даже Лениным и Никитичем. Правая кисть руки у Камо наполнена осколками взорвавшегося капсюля в момент приготовления бомбы, от этого же у него пострадал и правый глаз.При ближайшем участии названного Камо кавказцами задумано крупное предприятие, при участии Меера Валлаха (Литвинова) и Никитича, по покупке оружия на экспроприированные деньги и решено таковое направлять, в целях вооружения центров, в огромнейшем количестве, при особой конспирации, на Кавказ и в большие города России, а там его укрывать с особой предосторожностью. Камо и его единомышленники рассчитывают, что, если перерыв революции продолжится года три, то за это время удастся вполне вооружить и подготовить к восстанию все большие центры России. В общем, этой организацией предположено сделать в декабре и январе закупку оружия тысяч на 50, преимущественно револьверов и патронов к ним, так как везде в организациях теперь решили не приобретать ружей и карабинов, ввиду их неудобства для революционеров; все это закупаемое оружие будет постепенно водворяться через границу в Россию.В данное время Камо с помощью Меера Валлаха и проживающего в Льеже социал-демократа, студента Турпаева купил на 4 тысячи марок 50 револьверов Маузера и Манлихера и по 150 патронов к каждому, и транспорт этого оружия недели через две будет направлен через границу..., а затем направлен в Гродно, откуда Камо (вероятно, переодевшись офицером) его переправит на Кавказ.Агентура рассчитывает быть своевременно осведомленной о моменте отправки этого транспорта из-за границы, о чем я не премину донести Вашему превосходительству, но при этом позволяю себе просить, в целях охранения агентурного источника и возможности захвата последующих транспортов, не задерживать первый транспорт на границе, при водворении, а лишь дать ему пройти внутрь России, благодаря чему удастся, вероятно, выяснить намеченный Камо путь для перевозки через западную границу больших транспортов на Кавказ.По имеющимся указаниям, в военном министерстве в Болгарии служит некий инженер (фамилия пока неизвестна), близко стоящий к социал-демократии, который изобрел особое устройство бомбы, сообщающее ей страшную силу. Хотя он, в расчете получить патент, и не рассказывает секрета своего изобретения, но тайно продает революционерам приготовленные им бомбы. На днях вышеназванный Камо вместе с Литвиновым поехали в Софию для закупки 50 штук таких бомб и двух пудов пикриновой кислоты для тифлисской лаборатории, устроенной Камо. Чемодан с этими бомбами и кислотой Камо намерен переправить в Россию через Румынию по Дунаю.Из Софии Меер Валлах намеревается проехать в Россию...»
Гартинг кончил читать, откинулся на спинку кресла. Вроде бы донесение составлено недурно. Шероховатости стиля — на совести осведомителя Ростовцева. Аркадий Михайлович лишь немного откорректировал его донесение, не переписывая заново. Важен не стиль, а важна суть. Вот он и найден, истинный осуществитель тифлисской экспроприации: Камо! Какая удача, что провокатор Ростовцев оказался давним знакомцем этого армянина и все сведения получил — и будет получать — из первых рук.
Можно представить, какой переполох вызовет это письмо т а м. Снова патроны, бомбы, тайные лаборатории!.. Перст судьбы: с этого и он сам начинал. Но разве тогда был такой масштаб? А вот же взлетел, словно на взрывной волне. Без сомнения, Трусевич доложит эту депешу Петру Аркадьевичу. Не исключено, что Столыпин упомянет о ней в своем еженедельном докладе государю. Возможно, император полюбопытствует: «Кто сообщил?» — «Наш заведующий ЗАГ Гартинг». — «Гартинг? — у его величества отличная память на фамилии. — Это та история с мастерской бомб в Париже?» — «Совершенно верно, ваше величество», — ответит министр... Стоп! Поживем — увидим, что последует в дальнейшем, еще не было случая, чтобы обошли Аркадия Михайловича царскими милостями. Одно бесспорно: отныне следствие по делу о тифлисской экспроприации перемещается с Фонтанки сюда, на авеню Гренель. И ему, Гартингу, предстоит делать решающие ходы.
Аркадий Михайлович ощутил прилив энергии. За работу!
Он достал чистый лист бумаги, плотный, если глянуть на свет — с водяным знаком Меркурия. Итак, герои сей истории. Он начал выписывать столбцом фамилии:
«Камо (Дмитрий Мирский),Никитич (Красин),Валлах (Литвинов),Турпаев, студент,инженер — болгарин...»
И, держа листок в руке, прошел в соседнюю с его кабинетом комнату. Вторая эта комната походила скорее на отсек боевого корабля. Два окна, также зарешеченные и обращенные в дремлющий под вековыми платанами двор посольства; вдоль стен стальные шкафы, упирающиеся в потолок; обитые листовой сталью двери... В одном из шкафов — архив заграничной агентуры, рядом карточный каталог, точнее, два каталога. В одном собраны (на карточках, отпечатанных типографским способом) сведения — фамилии и приметы — без малого двадцати тысяч мужчин и женщин, в той или иной степени замешанных в революционной деятельности. В другом каталоге, на карточках, заполнявшихся от руки, зафиксированы данные о пяти тысячах русских политических эмигрантов, проживающих за пределами России и находящихся под постоянным негласным надзором ЗАГ. Отдельно хранились альбомы фотографий — основные, сводные, в каждом по нескольку сот снимков, и маленькие, оперативные, предназначавшиеся для филеров. Кроме того, в стальные шкафы были упрятаны папки «агентурных листков», досье на каждого из революционеров, аккуратно подшитые розыскные циркуляры департамента полиции, в которых указаны были партийные клички, родственные связи — даже товарищеские и любовные отношения разыскиваемых политических преступников, — и много иных бумаг, помеченных грифом «Совершенно секретно».
А в отдельном сейфе, несгораемом, с дверцей и стенками из тройного бронированного листа, с запорами, шифр которых знал лишь сам Гартинг, оберегалась святая святых, поистине сокровищница ЗАГ и всего департамента — досье на секретных сотрудников, тех без малого ста платных осведомителей, которые угнездились в крупнейших городах Европы и Нового Света. Но и в этих досье не было ни фотографий «с. с.», ни их подлинных имен и фамилий, а лишь клички: «Пьер», «Серж», «Вяткин», «Гретхен», «Москвич», «Ростовцев»...
Кроме того, в канцелярии стояли по ранжиру конторские столы с «ундервудами». Обычно за каждым к тому моменту, когда в комнату входил шеф, уже сидели с черными нарукавниками и сосредоточенными лицами делопроизводители, и стальные стены множили сухим эхом трескотню пишущих машинок.
Сейчас комната была еще пуста. Аркадий Михайлович набрал шифр на замке и отпер дверцы шкафа с каталогом. Ловко, как кассир купюры, начал перебирать картонки. «Так... На Камо или Мирского ничего нет... Следовало ожидать... М... Н... Ни... Никитич».
На Никитича, конечно же, карточка имеется. Несколько месяцев назад Аркадий Михайлович уже сообщал о нем в департамент. Вот она, сплошь испещрена пометками:
«Никитич» — «Зимин» — «Винтер» — «Финансист»... Красин Леонид Борисович. 1870. Русский, православный. Место рождения — г. Курган. Инженер. 1891 г. — исключен из СПБ Технологического института...»
Надо же, у них одна альма-матер! И он, Аркадий Михайлович, тоже вынужден был прервать обучение посреди курса. Правда, за десять лет до Красина... Гартинг бежит взглядом по строчкам, отпечатанным на карточке, по датам арестов, по приметам, по номерам розыскных циркуляров. Удовлетворенно кивает и ставит на листе рядом с псевдонимом «Никитич» жирную черту-минус. Красин, без сомнения, в этом деле фигура первой величины.
Теперь он перебирает картонки в обратном направлении: «Н... М... Л... Валлах»... Эта фамилия тоже всплывает не первый раз, осела в одной из ячеек цепкой памяти Аркадия Михайловича. Так и есть:
«Валлах» — он же «Папаша», «Феликс» — Литвинов Максим Максимович. 1876 года рождения, из Белостока, в РСДРП — с момента основания партии. Привлекался к дознанию при Киевском губернском жандармском управлении по делу о тайной типографии и складах изданий РСДРП, содержался под стражей с 17 апреля 1901 года. Совершил побег из тюрьмы 19 августа 1902 года...»
А-а, это та история с побегом одиннадцати политических из Лукьяновского замка! Вот было переполоху на всю Россию! Высокие чины из департамента даже приезжали в киевскую тюрьму. Оказалось, побег был совершен во время вечерней прогулки: часового накрыли одеялом, и пока другие политические держали его с кляпом во рту, эти одиннадцать перебрались через стену по веревочной лестнице... Среди беглых были Бауман, Пятницкий и вот этот — Валлах. Никого тогда обнаружить не удалось. И никого из них тюрьма, как и следовало ожидать, не образумила. Пожалуйста: после побега Валлах — агент «Искры», член администрации «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии», организованной Ульяновым-Лениным в Цюрихе. Недавно, всего два месяца назад, он был замечен в Штутгарте на Международном конгрессе II Интернационала. Ни много ни мало: делегат и секретарь российской группы. Тоже — жирная черта против его фамилии. Аркадию Михайловичу льстит перспектива помериться силами с таким противником. Ну-с, кто кого?
На Турпаева карточки нет. На безымянного инженера — болгарина — и быть не может. Итак, сосредоточить усилия на выявлении личностей этих двух неизвестных, дать команду филиалам в Льеже и Софии. Но главное внимание, неусыпное наблюдение — за Камо, Никитичем, Феликсом и всеми, кто окажется в их окружении. Сегодня же он распорядится завести картограммы на каждого из этих троих. Нельзя терять ни минуты, события не заставят себя ждать.
Аркадий Михайлович вставляет, как в пеналы, длинные и узкие ящики с карточками, тщательно запирает стальные шкафы и возвращается в свой кабинет. Удобно располагается в кресле, уходит в себя, как бы растворяется в тишине комнаты. Он смотрит не видя, слушает не слыша, он весь обнаженный нерв, обостренная мысль, на ощупь и на проблески света отыскивающая ходы в темных катакомбах. В задумчивости он внедряет мизинец глубоко в ноздрю. С детства у него привычка ковырять в носу, ставшая поистине дурной и тем более непреодолимой, как любая иная дурная привычка. В обществе ему стоит немалого труда сдерживаться. Но зато, когда он остается один на один с собой, он не в силах отказать себе в таком удовольствии.
Он сосредоточенно думает.
Максимилиан Иванович получил из Парижа одновременно два пакета. В одном было письмо от «Крафта» — Гартинга. Как и предполагал Аркадий Михайлович, его сообщение о Камо произвело впечатление в доме № 16 на Фонтанке. Но Аркадий Михайлович немало бы удивился, если бы имел возможность ознакомиться с содержанием второго пакета, в котором было донесение «Данде» — секретного агента, подчиненного лично директору департамента и действовавшего в Париже независимо и в полной тайне от заведующего ЗАГ. Гартинга озадачило бы не самое присутствие у него под боком неведомого сотрудника департамента — прекрасно знающий нравы российской политической службы, он понимал, что Петербург держит под контролем и его самого. Нет, его поразил бы текст донесения, почти дословно воспроизводивший — по содержанию и стилю — письмо вице-консула.
Однако у Трусевича столь разительное совпадение вызвало лишь холодную усмешку. Оно лишний раз подтверждало его давнюю догадку, что «Данде» — он же и Ростовцев — великий пройдоха, сосущий двух маток. Максимилиан Иванович никогда не видывал этого ловкача и не снизошел бы до личной встречи с ним. «Данде» достался Трусевичу от предшественника, директора департамента Лопухина. Но подозрение, что осведомитель — двойник, хотя и работающий на одно ведомство, возникло у Максимилиана Ивановича только в самое последнее время. Теперь оно подтверждалось. Выходило, что в системе одним реальным агентом меньше. Однако сведения «Данде» — Ростовцева позволяли еще более пристально контролировать деятельность Гартинга. А заведующий ЗАГ особой симпатии у Трусевича не вызывал.
Максимилиан Иванович приказал вызвать к себе подполковника Додакова.
— Прошу, — показал директор на стул. И когда Додаков беззвучно сел, пододвинул к себе депеши. — Нами получены от заграничных служб наводки на главных участников и на соучастников по тифлисскому делу. Извольте записать исходные данные и приступить к разработке означенных лиц.
Карандаш и рабочая тетрадь были уже в руках подполковника.
За эти несколько месяцев в судьбе Виталия Павловича произошли существенные перемены. В первых числах сентября он получил новое назначение — перебрался из дома на Александровском проспекте в прокуренную, дурно пахнущую от близкого соседства с общим туалетом каморку в доме на Фонтанке. Но хотя внешние условия отличались в худшую сторону, новое назначение было ступенькой-двумя выше по служебной лестнице, ибо отныне Додаков был сотрудником особого отдела департамента, и перед ним обозначились бескрайние перспективы.
Особый, или политический, отдел был самой важной и обширной частью департамента, и сотрудники его занимались наиболее секретной и ответственной работой по политическому розыску и охране. Сфера отдела была поистине безбрежна: он следил за деятельностью легальных и нелегальных политических партий и организаций в России, за настроениями и революционными выступлениями рабочих, крестьян, интеллигенции и студенчества; за брожением в армии и во флоте; за работой различных общественных организаций — профессиональных, научных, художественных и культурно-просветительских. В компетенцию особого отдела входило освещение национального движения и многое, многое другое.
При отделе находились и библиотека нелегальных изданий, и фотоотдел. Гордостью его была коллекция фотокарточек лиц, когда-нибудь обративших на себя внимание департамента, — иными словами, каждого россиянина, хоть единожды задумавшегося над каким-либо политическим вопросом, пусть даже в благожелательном для правительства духе. («Раз начал задумываться — до добра это дело не доведет!») И на каждого из этих «думающих» чиновник департамента мог буквально в несколько минут получить из каталога особого отдела исчерпывающую регистрационную карточку с указанием номеров дел, по которым тот «проходил». Таких карточек в здании на Фонтанке хранилось без малого миллион. Короче говоря, особый отдел был всесильным, всезнающим и всемогущим. Его карающая длань была вознесена над каждым из инакомыслящих подданных империи, и только от воли департамента зависело, когда она неумолимо обрушится на злоумышленника, чье имя указано в карточке. Эти карточки располагались по определенной системе и отличались по цвету: белые были заведены на деятелей различных легальных общественных групп, в том числе и монархических, желтые — на студентов, зеленые — на анархистов, красные — на социалистов-революционеров, а синие — на социал-демократов.
Додаков имел дело только с синими карточками — на Фонтанке он продолжал заниматься исключительно РСДРП, уже не руководителем группы, а как один из исполнителей. Хоть и рядовой исполнитель, Виталий Павлович должен был теперь заново и углубленно изучать объект своих исследований — Российскую социал-демократическую рабочую партию с самого момента ее возникновения. И, приступив к многотомным «разработкам», он обнаружил, что исходным документом «Дела о РСДРП» служило донесение его первого учителя Сергея Васильевича Зубатова. В этом донесении, совершенно секретном, датированном 29 января 1899 года, за № 259, начальник Московского охранного отделения, в ту пору еще ротмистр, уведомлял особый отдел, что «по имеющимся вполне конфиденциальным сведениям, съезд представителей нескольких местных революционных организаций, на котором было провозглашено объединение последних под общим названием «Российской социал-демократической рабочей партии», происходил в г. Минске с 28 февраля по 4 марта 1898 года... Два общих собрания участников съезда (7—8 человек) имели место вечерами 1-го и 2-го марта, в одном из домов на Захарьевской улице. Предметами обсуждения съезда были заранее составленные по особой программе вопросы: о компетенции Центрального Комитета вновь образовавшейся партии, о степени автономности местных групп, их единообразном наименовании, об отношениях к партиям «социалистов-революционеров», «народных прав», «польской социалистической» и т. д. Главнейшие постановления съезда вскоре же были опубликованы во второй части известного Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии». Да, мудрейший человек был Сергей Васильевич! Где-то в Белоруссии, а не в столицах, собирались вечером в избе семь-восемь человек — а надо же, разглядел за ними целую партию, через каких-то несколько лет ставшую самой грозной антиправительственною силою и главной, ежечасной заботой департамента!.. Поначалу Зубатову не поверили, а потом спохватились. Вот в «деле» донесения секретных сотрудников со всех съездов и конференций, отчеты о деятельности местных организаций РСДРП на фабриках и заводах, в городах и деревнях, о военных, боевых и технических группах, складах оружия и тайных лабораториях, о фракционных группировках и внутрипартийной борьбе, о наиболее выдающихся ее деятелях. Поразительная картина, если смотреть на нее отсюда, сверху. И особенно поучительная, если не забывать о прошлом. Даже теперь, по прошествии стольких лет и событий, Додаков может удивляться проницательности своего первого наставника и одновременно его непростительной близорукости.
Это он, Зубатов, еще в самом начале века, когда социалистические идеи начали широко распространяться среди пролетариата, уловил нечто неизведанно-грозное как в гуле демонстраций, так и в безмолвии забастовок.
— Мы прозевали появление нового врага, — сказал однажды Зубатов на узком совещании офицеров охранного отделения. — Надо быть честными: ни в Петербурге, в министерстве и департаменте, ни мы, в отделениях, не оценили социаль-демократического движения. А оно, на мой взгляд, в сто крат опаснее, чем террористы «Народной воли» и анархисты, вместе взятые.
Додаков, тогда еще новичок-поручик, с недоверием слушал Сергея Васильевича. Ужасные бомбисты «Народной воли», поднимавшие руку на самих государей и высших сановников империи, обуреваемые страстью к разрушению последователи Бакунина и Кропоткина — и безобидные социал-демократы, поклонники модного бога Маркса, чьими портретами были украшены комнаты и углы студентов и курсисток! Марксизмом увлекались в России самые просвещенные круги. Да и власти, сквозь пальцы глядя на новомодное поветрие, даже поощряли его, считая марксизм как бы громоотводом, противовесом народовольчеству, устрашавшему террором. И вдруг Зубатов заявляет, что эти последователи добропорядочного немецкого ученого опаснее всех злостных и тайных врагов престола!
Теперь Виталий Павлович вспоминал, как тогда, в кабинете Зубатова, он отважился и спросил:
— Какая же особая опасность таится в социал-демократах?
— Такая, милостивый государь, — терпеливо начал разъяснять полковник, — что ежели эти идеи получат развитие, то действия целого организованного класса окажутся неизмеримо ужаснее актов самых фанатичных террористов с самыми сильными бомбами. Целью их борьбы провозглашены социальная революция и диктатура пролетариата. Нам с вами эти цели кажутся бредовыми. Но вспомним, что говорил отнюдь не простак в политике Наполеон Буонапарте: «Перевороты совершаются брюхом». Иными словами, не одиночками, а массами, гложущими черствую корку и возмечтавшими о ситнике. Социаль-демократы сеют дьявольские зерна, из коих прорастет классовая рознь, а урожаем будет темное царство безграмотных и невежественных крестьян и фабричных мужиков, царство босяков и хамов. Мы с вами грамотные люди. И вы, и я, конечно же, почитывали у социаль-демократического апостола Карла Маркса, что торжество так называемой «диктатуры пролетариата» неизбежно. Но мы с вами, милостивые государи, упускали из виду, что соединение подобных идей с миллионной гущей фабричного люда представит угрозу самому существованию российского общества. Я предвижу, что начинается новая полоса в истории революционного движения в России. Но, благодарение господу, я знаю, как с этой эпидемией бороться!..
Как в ту пору казалось Додакову и другим сотрудникам Московского отделения, Зубатов действительно знал противоядие от социал-демократической инфекции. Да, устремления фабричного люда к улучшению своего положения, условий труда и быта становилось все труднее пресекать обычными мерами департамента полиции и жандармского корпуса. Однако эти устремления рабочих к организации и сплочению оказалось возможно взять под контроль властей и ценой незначительных уступок весь грозный вал повернуть в нужное русло мирного профессионального движения.
— Социаль-демократическое руководство мы подменим руководством из Гнездниковского переулка, — давал установку полковник. — Мы выработаем особую тактику и привьем рабочему люду идеологию, которая основывается на таких доступных уму самого темного фабричного мужика постулатах: царь-батюшка поставлен богом над всеми сословиями, и ему равно дорого благоденствие каждого его верноподданного; поэтому улучшить условия жизни можно, обращаясь к царю и властям. Сейчас социаль-демократы отказываются от экономизма, но именно в сторону экономического движения мы направим рабочую массу. Существуют же в просвещенной Европе монархические пролетарские союзы. Однако задуманная мною организация будет по духу истинно российской...
И вот, сообразуясь с такой тактикой, добиваясь призрачных уступок у фабрикантов, Зубатов и его сотрудники стали распространителями движения, удостоившегося имени своего вдохновителя, — «зубатовщины». Социал-демократы окрестили его «полицейским социализмом». Успехи начальника Московского охранного отделения получили высокое признание. Казалось бы, все предвещало умножение их после того, как Сергей Васильевич был переведен в Петербург и назначен заведующим особым отделом департамента. Но вот одесские рабочие, сплоченные по методу Зубатова сотрудниками местного охранного отделения в кружки и клубы, летом 1903 года организовали дружную политическую забастовку, возглавили которую именно те недостаточно проверенные личности, кои и должны были пропагандировать «полицейский социализм». Как у каждого преуспевающего деятеля, у Зубатова было немало завистников и недоброжелателей. И когда разразилась в Одессе забастовка, они обрушились на полковника: вот, дескать, что значит способствовать сплочению и просвещению черни, обхаживать ее ласкою, а не нагайкой. Да и сам высокочтимый заведующий особым отделом — не есть ли он по убеждениям соцьялист и революционер?.. К тому же вскрылось, что Зубатов участвовал в интриге против министра внутренних дел Плеве, возможно, с тайной мыслью занять его кресло. И разгневанный министр доложил императору, что виновник одесских беспорядков — без меры возомнивший о себе выскочка, действовавший самочинно. С громким скандалом Зубатов был отрешен от должности, уволен из департамента и даже сослан во Владимир, хотя вскоре ссылка была отменена и он возвратился на жительство в город, где так блистательно и скоротечно прошла его бурная деятельность.
Позже Додаков, бывая наездами в белокаменной, непременно навещал домик в Замоскворечье, где коротал дни опальный новатор. И за самоваром он не раз хотел спросить своего наставника: может быть, провал «полицейского социализма» был вызван не только нерадивостью местных чиновников, а какими-то более глубокими причинами? Может быть, в любом случае нельзя было допускать сплачивания рабочих?
По обязанности Виталий Павлович знакомился с нелегальной литературой и с интересом читал все, что писали революционеры о полиции, жандармерии и «полицейском социализме». В одном из листков «Искры» он прочел:
«Мы можем и должны добиться того, что новый зубатовский поход весь пойдет на пользу социализму».
А еще спустя некоторое время та же «Искра» торжествующе оповестила:
«...вся эта зубатовская эпопея кончилась жалким крахом, сделав гораздо больше на пользу социал-демократии, чем на пользу самодержавию: одесские события не оставили и тени сомнения на этот счет».
Неужели в поединке победили они, социал-демократы, лучше знавшие истинные интересы рабочих, чем мудрый Зубатов?..
Но теперь, сам вступив в борьбу с РСДРП, Додаков привнес в него, помимо профессиональных навыков, свою личную ненависть к рабочей партии и желание отомстить ей за поражение своего учителя. Нет, уж он-то не допустит никаких сантиментов и не поддастся никаким иллюзиям!.. Хоть и рядовой исполнитель, он, став сотрудником департамента, как бы разом поднялся над узкими интересами местных охранных отделений и жандармских управлений. Теперь ему было, в сущности, все равно, кто преуспеет больше в охоте за революционерами: его бывший шеф, угрюмый полковник Герасимов или ненавистный петербургским охранникам ретивый служака из Москвы фон Коттен — лишь бы был результат.
Переход Виталия Павловича на Фонтанку прошел не совсем гладко. В последнюю минуту неожиданно заартачился Герасимов. Скупой на проявления чувств, Василий Михайлович вдруг заявил, что весьма ценит Додакова и согласится отпустить его только при равной замене. Причем преемника должен порекомендовать ему сам подполковник. Додаков перебирал в уме претендентов, ни на ком не мог остановиться, пока не всплыла на ум цинично ухмыляющаяся физиономия Петрова (после доклада о Лисьем Носе произведенного из поручиков в ротмистры). Чем не кандидатура? Исполнителен, инициативен, изобретателен. К тому же его вульгарные манеры и хамский лексикон должны импонировать Герасимову, добавлять последний штрих в общий рисунок мрачного здания на Александровском. Сам Додаков чувствовал себя в хозяйстве Герасимова белой вороной. А этот выученик генерал-адъютанта Орлова найдет общий язык и с шефом, и с Железняковым, и с унтерами, выбивающими показания от арестованных в подвалах охранного отделения.
Петров был срочно затребован из Кронштадтской крепости, опрошен Герасимовым и вскоре занял стол Виталия Павловича. Конечно, ротмистру предстояло еще набираться и набираться опыта, и не было у него такого несравненного учителя, как Сергей Васильевич Зубатов, и молод уж очень. Но Додаков мог предположить, что познания, приобретенные Петровым в карательной экспедиции по Прибалтийскому краю, а затем и в жандармской крепостной команде, тоже чего-нибудь да стоят. Как бы там ни было, Петров теперь вершил дела на Александровском, а он на Фонтанке, и не было сомнения, что еще не раз и не два предстоит им встречаться.
Петрову же Виталий Павлович передал всех своих секретных сотрудников, ибо чиновники департамента лично с агентами не общались: филеры и осведомители состояли в штате охранных отделений и местных жандармских управлений. Передал всех, за исключением Зинаиды Андреевны. Понимая, что совершает в некотором роде должностной проступок, Виталий Павлович не в силах был перебороть себя. Сама мысль о том, что Зиночке предстоит встречаться с Петровым на конспиративной квартире, была нестерпима. Он вспоминал, как плескался Петров в мелкой воде после казни на Лисьем Носу, видел его гладкое, в легком жирке, тело, самоуверенную физиономию и понимал, что уж этот-то прохвост не преминет воспользоваться нежданным подарком. И всего обидней, что он-то и сможет понравиться этой сумасбродной девчонке — такие гладкие наглецы со стальными глазами и нравятся.
Нет! По крайней мере, до тех пор, пока не выявятся определенно его взаимоотношения с Зиночкой. Никакого же движения в них не было. Он предупредителен и заботлив, она настороженна и мила, и только. С переходом его в департамент служебная надобность во встречах отпала. К тому же главный интересующий его объект — инженер Красин так и не появился в правлении «Общества электрического освещения»: все пребывал в Куоккале, ссылаясь на затянувшуюся болезнь. Ко всему прочему Додаков лишился и всех своих конспиративных квартир, также принадлежавших ведомству Герасимова. Продолжать встречи с Зинаидой Андреевной без служебного повода и при ее выжидательной позиции — значило принять на себя окончательное решение, которого он, по совести говоря, побаивался. Быть на содержании она откажется — он недвусмысленно уже наводил на это. Жениться?.. А его карьера, его положение в корпусе и обществе?.. Может быть, страсть утихнет, и он оставит Зиночку без сожаления? Может быть... Но он не видел девушку всего месяц, а страдал все мучительнее. Кончить все разом — отдать ее Петрову?.. Эта язвящая самолюбие мысль ранила острее штыка. Да неужто он, подполковник корпуса, кавалер орденов, столь блистательно поднимающийся вверх, состоятельный и не урод, не дурак, не может покорить какую-то мещанку или придумать что-нибудь такое, перед чем она не устоит, какие бы дерзко-честолюбивые планы ни строило ее воображение?.. Но до сих пор он ничего придумать не мог. И единственное умиротворение находил в работе.
Цепкий и находчивый ум его был легок на конструирование отнюдь не стандартных схем розыска и наблюдения. И теперь, в пересказе директора департамента ознакомившись с донесениями из Парижа (Трусевич не назвал Додакову клички ни одного, ни другого осведомителя), Виталий Павлович мог лишь возблагодарить судьбу за свою выдержку и за парадоксальную мысль, пришедшую ему в голову три месяца назад, когда он еще нес службу на Александровском. Да, словно бы предвидел он, какая забота ляжет на него в ближайшем будущем.
Дело в том, что депеша «Данде» в одной фразе отличалась от письма Гартинга, составленного на основании донесения Ростовцева. И в этой фразе говорилось, что Камо-Мирский встретился и поддерживает постоянные контакты с недавно прибывшим из России в Париж неким Владимировым, который, судя по всему, был знаком Камо-Мирскому и ранее. Этот молодой человек, примерно двадцати лет от роду, как удалось выведать источнику, был студентом Петербургского технологического института.
— Ваше превосходительство, — поднялся со стула, вытянулся Виталий Павлович. — Обозначенный в наводке Владимиров — без сомнения, студент Технологического института Антон Владимиров Путко, имеющий непосредственное отношение к тифлисской экспроприации. Генерал Герасимов по моему предложению разрешил студенту выезд за границу. Паспорт был беспрепятственно выдан Путко для того, чтобы, продолжая наблюдение за ним в Европе, выявить все связи злоумышленников. Тем более что Путко не подозревает о надзоре.
— Живец? — оживился Трусевич, бывший на досуге превеликим любителем тихих омутов, мормышек и блесен.
— Так точно, ваше превосходительство.
— Что ж, подполковник, представьте предложения по дальнейшему ходу расследования.
ГЛАВА 3
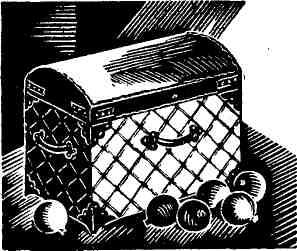
Феликс и Семен встретились в Вене, в отеле «Националь».
Перед тем они вдвоем побывали в Льеже, где болгарин-эмигрант Борис Стомоняков помог им разместить заказы на оружейных заводах. Феликс остался в Бельгии, а Камо отправился в Вену, Белград и Цюрих. В каждом из этих городов он выяснял возможности закупки оружия и транспортировки его различными путями в Россию. От осведомленных людей Семен узнал, что македонский революционер Наум Тюфекчиев, живущий в Софии и даже служащий в болгарском военном министерстве, изобрел новое взрывчатое вещество огромной разрушительной силы. Камо встретился с Тюфекчиевым. После этого он и вернулся в Вену, где в «Национале» его уже поджидал Литвинов, записавшийся под именем минского купца Павла Поллачека.
В номере отеля Семен показал товарищу на сундук:
— Хорош, а?
Сундук был деревянный, с узорной латунной оковкой и литыми изогнутыми ручками.
— Так и прыгает в глаза, а? — Камо цокнул. — Если очень бросается, никто ничего не заметит.
Он повернул ключ. Замок оказался с музыкой. Прозвучала мелодичная фраза, что-то щелкнуло, и крышка приподнялась.
— На пружинах! По специальному заказу сделан, второго такого на всем свете не сыщешь!
Камо охапкой выбросил из него на пол вещи, нажал изнутри на какую-то планку, и приподнялась нижняя доска. Под ней, на потайном дне, лежали плотно уложенные капсюли, круглые бомбы-македонки, какие-то пластины и мешочки.
— Отвезу в Авчалы, попробуем, как и что, — с удовольствием еще раз обозрел он свое богатство. — Скоро пригодится, а?
— Думаю, не очень скоро, но пригодится обязательно, — ответил Феликс.
По совести говоря, сундук ему не очень понравился. Действительно, «прыгал в глаза». Но спорить с Семеном было бесполезно. Тем более что предстоял нелегкий разговор.
— Как будем дальше? — Камо побренчал мелочью в кармане.
Литвинов понял:
— Да, денег больше нет. Остались только неразмененные. Но за них я опасаюсь.
Сто пятьдесят тысяч рублей из двухсот пятидесяти, захваченных группой Камо, были в мелких и, главное, уже обращавшихся бумажках с разными номерами и сериями. Почти все эти деньги Большевистский центр предназначил для расходов на нужды партии в самой России. Те же суммы, которые были выделены на закупку оружия за рубежом, Семену и Феликсу удалось без всяких помех обменять в разных странах на местную валюту. А вот остальные сто тысяч тифлисского экса — 200 билетов пятисотрублевого достоинства каждый — были новенькими купюрами прямо из-под печатного станка. Их еще предстояло обменять.
— Опасаюсь, что это будет не так-то просто.
— Придумаем, дорогой, неужели мы с тобой и не придумаем? — широко улыбнулся Семен. — Вот вернусь с Кавказа — и придумаем!
— С Кавказом тебе придется подождать... — Литвинов сказал это легко, как само собой разумеющееся.
Но Семен сразу насторожился:
— Это еще почему?
— Что сказал тебе наш доктор? — вопросом на вопрос ответил Феликс.
— Что сказал, что сказал! Ты всегда слушаешь докторов, Феликс, дорогой? Если их слушать — ложись и помирай!
— А все же?
— Яков сказал: не совсем очень хорошо.
— Не ври. Он сказал: очень плохо, я сам спрашивал у Отцова. А если запустить — без глаза останешься, вот что он сказал!
Семен понуро опустил голову:
— Без глаза мне нельзя... Честное слово, приеду домой — вылечу.
— Пойми, Семен, в России тебе к врачам обращаться нельзя. Если охранка что-нибудь разнюхала, тебя ищут. В России тебе придется каждый день менять явки, города. А тут надо недели две полного покоя. — Литвинов говорил мягко, убедительно.
— Согласен, — сказал Камо. — Вернусь с Кавказа и к какому хочешь Гиппократу пойду, пусть хоть в лечебницу кладут.
Феликс вздохнул и совсем другим тоном, жестким, не допускающим возражений, отрубил:
— Нет. Приказ: сначала вылечишь глаз и руку.
— Чей приказ? — вскинулся Камо.
— Мой. Если тебе мало: Никитича и Большевистского центра!
Кавказец с остервенением хлопнул крышкой сундука. В музыкальном замке завибрировала жалобная нота. Но он сдержался, промолчал. Литвинов же, словно ничего и не заметив, продолжил:
— Отсюда поедешь в Берлин. Вот тебе адрес. Яков со дня на день тоже туда подъедет и устроит тебя на лечение к тамошнему окулисту, лучшему в Европе.
Он с неприязнью посмотрел на сундук:
— Но таскать с собой это произведение искусства небезопасно.
— Я ведь тоже купец, — угрюмо отозвался Семен.
— Хорош товар, ничего не скажешь... Приедешь в Берлин — и как можно скорей отправь его. Или через Федора, или по морю, на Финляндию. А я подошлю тебе в помощь Владимирова.
— Подсылай, — скучно сказал Камо, поднял крышку и начал укладывать в сундук одежду. Когда запирал, снова прозвучала мелодия.
— А если честно: болит? — спросил Феликс.
— А, вырвал бы и еще плюнул! — взорвался, даже топнул ногой кавказец. И неожиданно признался: — Соскучился я, понимаешь? Как там девчонки, откуда я знаю?
Вот оно в чем дело! Он скучает по сестрам. Феликс знал о семье друга, как-то Семен раскрыл душу. Рассказал, каким самодуром и деспотом был отец, богатый скототорговец, какой беззащитной и забитой была мать, отданная замуж в пятнадцать и родившая его, первенца, в шестнадцать. Семен боготворил ее и, когда подрос, всегда защищал от отца. Она рожала детей каждый год. Из двенадцати в живых остались пятеро, он и младшие сестры. Мать умерла рано, отец разорился и бросил семью, и все заботы легли на него, старшего сына. Теперь уже и девочки подросли, старшая из них, Джавоир, — участница его боевых операций. Он здесь, но они-то там, и неизвестно, что с ними.
Литвинов взял его за плечи, прижал к себе, как маленького:
— Хорошо, вылечишься и сразу же поедешь. Но надо потерпеть, понимаешь?..
«Камо Берлине хранит своей комнате в чемодане двести капсюлей бомб, заготовленных для миллионной экспроприации в России, о чем знают лишь Никитич и Валлах. Ввиду крайней трудности проследить за чемоданом, который будет отправлен на днях в Финляндию, единственный исход обыскать Камо Берлине, задержать и требовать выдачи; прошу срочно ответить, дабы я успел сейчас туда ехать для переговоров властями...»
Трусевич прочел телеграмму из Парижа и вызвал Додакова.
Протянул ему бланк:
— О миллионной экспроприации — это Гартинг цену набивает. Но обстановка осложняется. Если Камо смог обойти все наши капканы здесь, то где гарантия, что он не проведет и Гартинга?
Виталий Павлович подождал, не разовьет ли свою мысль директор, но, поняв, что Максимилиан Иванович, напротив, ждет его соображений, сказал:
— Опасения заведующего ЗАГ понятны, ваше превосходительство. Но с преждевременным арестом Мирского-Камо может оборваться нить, которая заманчиво обещала вывести нас к самым главным деятелям заграничного Центра большевиков.
— Что же вы предлагаете? — нетерпеливо потряс листком Трусевич. — Выпустить? А кто нам простит, если эти бомбы появятся в столице и, упаси бог!..
Он многозначительно вскинул глаза:
— Какими мотивами вы будете тогда объяснять нашу медлительность? К тому же Камо, бесспорно, главный в тифлисском деле, а государь уже теряет терпение.
У Додакова болезненно засосало под ложечкой: так прекрасно придуманное им и уже начавшее осуществляться предприятие рушится. Пытаясь спасти его, он начал исподволь:
— Ваше превосходительство, меня заботит: мы сможем доказать участие Камо в экспроприации?
— В нашем распоряжении лишь агентурные донесения. Конечно, на суд мы их не понесем, — вроде бы согласился директор, но тут же и отверг: — Для Петра Аркадьевича и государя этого довольно, а для суда что-нибудь придумаем.
Виталий Павлович снова повел атаку обходным путем:
— А может быть, при Камо-Мирском — и похищенные суммы?
— Сомневаюсь. Источник знал бы это, он весьма близок к поднадзорному.
— В таком случае не чрезмерно ли мы спешим, ваше превосходительство? — решился Додаков.
— Нет, — сухо ответил директор. — Постараемся выжать максимум положительного и из этой ситуации. Определенных целей мы достигнем. Как вам известно, после майского съезда социал-демократов в Лондоне большевики во главе с Ульяновым предпринимают усилия к сплочению партии. Умело организованная кампания в прессе в связи с арестом большевика-экспроприатора поможет нам углубить раскол, ибо меньшевики осуждают насильственные действия. Кроме того, бомбы в чемодане произведут нужное нам впечатление на общественность Европы.
— И заставят эмигрантов быть более осторожными. Неужели нет иной возможности, ваше превосходительство? — Додаков сопротивлялся, не щадя живота. — Осмелюсь посоветовать, ваше превосходительство, — прежде чем предпринять меры к задержанию Камо, заведующий ЗАГ должен выяснить, где хранятся деньги тифлисского экса.
Трусевич понимал, что соображения подполковника резонны, хотя и чувствовал, что в его настойчивости — какая-то иная, невысказанная цель. Это его мало заботило. Страшило другое: случись что — Гартинг окажется чист, мол, предупреждал, и не единожды. А играть на руку Гартингу директор департамента не был намерен. Этим и объяснялась резкость тона, каким он отверг резоны своего нового сотрудника:
— Обе задачи Гартинг и мы будем решать одновременно. Запросите особый отдел канцелярии наместника о всех компрометирующих материалах на Камо. Они понадобятся при предъявлении требования об экстрадиции. Исполняйте.
Додаков понял, что разговор окончен.
— Будет исполнено, ваше превосходительство! — четко ответил он.
В тот же день в Париж была послана директорским шифром телеграмма:
«Поезжайте Берлин. Войдите соглашение полицей-президентом».
Иными словами, Трусевич разрешил Гартингу действовать по собственному усмотрению.
Прямо с вокзала Аркадий Михайлович поспешил с визитом к полицей-президенту.
В Берлине он не был давно. И теперь, направляясь по Унтер-ден-Линден к зданию рейхстага, в правом крыле которого располагалось управление германской полиции, он с интересом смотрел по сторонам. Хотя в чопорно-монументальной картине немецкой столицы ничего нового не обнаруживалось, Аркадию Михайловичу все же казалось, что и дома, и бульвары, и сами жители выглядят иначе, чем раньше. Или все зависело от того, как он сам смотрит на них?.. Ведь этот город был знаком ему досконально. Здесь Гартинг пять лет возглавлял берлинский филиал заграничной агентуры и успехами в борьбе с эмиграцией, особенно в выявлении путей транспортировки литературы и оружия в Россию, обеспечил себе назначение в Париж, на авеню Гренель. Именно в Берлине проявились его способности в организации «внутренней агентуры». Аркадию Михайловичу удалось внедрить осведомителей во все без исключения группы русских эмигрантов, представлявших антиправительственные партии и их заграничные центры. Из первых рук он получал отчеты о всех заседаниях, конференциях, принятых решениях и намечаемых действиях.
Тогда же, в 1902 году, он завербовал и члена социал-демократической партии, получившего у него кличку «Ростовцев»; в период раскола партии прозорливо порекомендовал ему присоединиться к фракции большевиков — понял, что они-то и будут играть первую скрипку в революционном оркестре. Впрочем, еще до службы в заграничной агентуре Ростовцев состоял на содержании у германской имперской полиции, и Аркадий Михайлович просто перекупил его, дав отступного берлинским чиновникам, а ему положив на сто марок в месяц больше, чем прижимистые немцы. Тогдашний директор департамента Зволянский отметил в докладе товарищу министра внутренних дел князю Святополк-Мирскому:
«Со времени поступления на службу Ростовцева сообщения берлинской агентуры сделались особенно содержательны и интересны».
В Берлине Ростовцев вошел в транспортную группу ЦК РСДРП. Это давало, департаменту не только сведения об отправляемой нелегальной литературе, но, что было еще более важным, многие адреса, явки и пароли в самой России. Ростовцева же Гартинг направил в конце 1903 года в Швейцарию — для выяснения всех обстоятельств, связанных с расколом в редакции «Искры». Этот осведомитель освещал и III съезд РСДРП. А затем, когда Аркадий Михайлович перебрался в Париж, Ростовцев под благовидным для большевиков предлогом тоже переехал в столицу Франции.
Аркадий Михайлович принадлежал к типу руководителей, которые не стремятся приписать себе успехи своих подчиненных, а, наоборот, всячески поощряют их перед вышестоящим начальством, резонно полагая, что и в глазах вершителя хорош не тот должностной чин, который сам делает все, а тот, кто заставляет ревностно служить других. Из года в год Гартинг добивался у дирекции прибавки к жалованью и увеличения наградных для Ростовцева. Однако, превознося заслуги агента, Аркадий Михайлович не поступался и своими интересами. Он трезво рассудил, что осведомленности сотрудника хватило бы на двоих агентов, и зачислил этого «второго» в штат, нарек «Киевлянином» и ежемесячно получал жалованье и за него, а когда представлял к наградным, то и наградные. Уличить Аркадия Михайловича было невозможно, так как никто, кроме заведующего ЗАГ, не знал и не имел права знать ни Ростовцева, ни его мифического двойника.
Ростовцев и вывел Гартинга на неуловимого организатора тифлисской экспроприации: сам Камо рассказал об этом осведомителю, которого в среде эмигрантов считали безукоризненным товарищем. От Камо и от других большевиков сотрудник агентуры выведал и о планах закупки оружия. Пока агенту не удалось узнать истинного имени молодого героя, а также выяснить, вывезены ли уже все деньги из России или нет. Аркадий Михайлович не собирался форсировать события: Ростовцев должен действовать с предельной осторожностью, чтобы не навлечь на себя ни малейшего подозрения. И вдруг облегчил задачу сам Камо, задержавшийся в Берлине на лечение после возвращения из Вены. При встрече с Ростовцевым он показал «верному другу» сундук с двойным дном и даже сказал, что в самое ближайшее время сундук будет отправлен в Россию. Вот простота!..
Со смешанным чувством удовлетворения и озабоченности выверял Гартинг по дороге в полицей-президиум фразы из телеграммы директора. Они означали: «Ты знаешь это дело лучше нас — тебе и карты в руки». Или: «Принимай на себя всю ответственность, а мы потом разберемся». Что ж, чутье подсказывало ему, что сейчас надо действовать без промедления.
Взглянув на визитную карточку, поданную секретарем, полицей-президент принял его тотчас.
— Смею вас уверить, глубокоуважаемый герр Гартинг, что имперские власти Германии озабочены деятельностью анархистов не менее, чем власти российские. Борьба с врагами монархического правопорядка — наша общая задача. Разрешение на обыск у Деметриуса Мирского, а в случае обнаружения взрывчатых устройств — и на его арест, я дам. По законам Германской империи Мирский при наличии улик будет заключен в тюрьму.
— Как вы сами превосходно понимаете, глубокочтимый герр президент, наше правительство будет крайне заинтересовано в выдаче преступника.
— Я полагаю, глубокоуважаемый герр Гартинг, что августейшие кузены найдут общий язык.
Они смотрят друг на друга. Холодно блестит монокль в глазу президента. Холодно и лицо Гартинга: два высокопоставленных чиновника двух дружественных государств. Но каждый знает цену другому: оба начинали карьеру с должностей мелких полицейских агентов и в том качестве, еще на заре юности, оказали один другому немало услуг, уповая на святой принцип: долг платежом красен.
Услуги услугами, но не следует и чрезмерно переоценивать их: Гартинг не намерен сообщать полицей-президенту, кто именно скрывается под паспортом Деметриуса Мирского, купца, австрийского подданного. При малейшей неосторожности немцев это может повредить его ценнейшему агенту.
— Как вы сами великолепно понимаете, глубокоуважаемый герр президент, нам было бы крайне нежелательно, чтобы в ваших действиях усматривалась связь с моим визитом в Берлин. Кстати, это умалило бы и заслуги подведомственного вам высокого учреждения.
Шеф германской полиции снисходительно кивает, монокль его тускло блестит, отражая искаженное лицо Гартинга. Но в скрипучем голосе его, а главное, в произносимой этим голосом фразе звучит нотка благодарности:
— Это вполне соответствует и нашим интересам, глубокочтимый герр Гартинг. Как вы полагаете, когда следовало бы произвести обыск?
— Хотя я еще не получил прямого указания из Санкт-Петербурга, но считаю, что без промедления, глубокоуважаемый герр президент. И последнее, на чем хотелось бы акцентировать внимание: купец Мирский, конечно же, никакой не революционер, а чисто уголовный элемент, не так ли?
Президент кивает. Монокль выпадает. Глаз у президента искусственный. Настоящий он потерял давно, в какой-то полицейской переделке.
Виктор передал Путко, что Феликс просит его немедленно выехать в Берлин и явиться по адресу: Эльзассерштрассе, 44. В этом доме остановился австриец-торговец Деметриус Мирский, с которым студенту нужно встретиться. Кто он, зачем и почему именно Владимирову предложено ехать в Берлин, Виктору неизвестно, и сам юноша узнает обо всем этом на месте.
...Поезд прибыл на вокзал Альбертбанхофф поздно вечером. Антон не знал, ждать ли утра, переночевать где-нибудь в отеле или сразу отправляться на Эльзассерштрассе. Феликс передал: «Немедленно». Лучше идти сейчас же. Словоохотливый старожил-берлинец, снизошедший к его ломаному немецкому, объяснил, как найти улицу, благо она недалеко от вокзала.
Город был погружен в темноту. Горели редкие газовые и электрические фонари. В Париже, когда Путко выезжал, было безоблачно и тепло, а здесь накрапывал осенний холодный дождь.
Эльзассерштрассе — неширокая скромная улица — была сумрачна и пустынна, но у дома № 44 маячило несколько фигур. Мужчины в черных плащах прохаживались вдоль фасада. Тут же, в стороне от подъезда, под стрижеными липами стояли две кареты с глухо зашторенными окнами. Все это Антону не понравилось. Однако же он с независимым видом прошел мимо них в подъезд, с темноты показавшийся освещенным особенно ярко. Видимо, в доме находился дешевый пансион. Тут же в вестибюле было несколько столиков. За одним из них сидел пожилой мужчина, смуглолицый, с шапкой легких седых волос, он отпивал маленькими глотками кофе и листал иллюстрированный журнал. Из вестибюля вела вверх винтообразная лестница. У нижних ступеней ее стоял парень в плаще, руки в карманах.
Антон подумал: «У кого спросить о Мирском — у парня или у старика?» — и направился было к седоголовому, решив, что он-то и есть хозяин заведения, как в это время сверху, с лестницы, послышался шум многих шагов и голоса. Парень в плаще выпрямился, как солдат на плацу, даже сдвинул каблуки.
Спускающиеся преодолели последний виток лестницы — и к ужасу своему в тесном окружении черных фигур Антон увидел Семена. Руки Камо были вытянуты вперед и перехвачены никелированными обручами. Замыкали шествие двое дюжих мужчин, с трудом несших за литые ручки большой, окованный узорной латунью сундук.
Путко сделал невольное движение к другу. Но в вестибюле он был уже. не один — набежала прислуга, постояльцы. Они охали, в испуге и изумлении смотрели на полицейских.
Камо свирепым взглядом обвел помещение и словно бы ткнул им, остановил Антона. Глаза его были налиты кровью.
— Es sollen alle wissen! Das ist doch eine Provokation! Ich muß ein paar Zeilen an den Bruder schreiben! — крикнул он, лицо его исказилось гримасой боли.
— Schweigen Sie! — оборвал его окриком старший, и они двинулись к дверям.
Белоголовый мужчина, сидевший за столиком, отставил чашку, долгим взглядом проводил группу и снова углубился в иллюстрированный журнал.
Антон с великим трудом пересилил желание броситься вслед за товарищем.
— Что случилось? Кого поймали? — набросились постояльцы и прислуга с расспросами на спустившихся с полицейскими понятых. Среди понятых был и взмокший от пота, с прилипшими к лысине прядями толстяк в широких подтяжках.
— Хозяин, этот парень ограбил банк? У него в сундуке алмазы?
— Хуже! Боже милостивый, гораздо хуже!
Антон с трудом понимал, о чем они кричат. Но этот взмокший толстяк, наверное, хозяин пансиона.
— Что здесь происходит? — по-французски спросил он.
— Ужас! Ужас! Вы видели сундук? Он был полон адских машин и бомб! Страшно подумать! А если бы они у него взорвались? Боже милостивый, а такой приличный на вид господин!..
— Что он крикнул?
— Что он крикнул! Крикнул, что это провокация, что он хочет оставить записку какому-то брату. Откуда брату, если он жил тут один? О боже, какой ужас!..
«Брату!..» — болезненным эхом отозвалось в сердце Антона.
ГЛАВА 4

Той же ночью из Берлина Гартинг отправил директору департамента полиции телеграмму:
«Получив указания, что Мирский должен сдать кому-то чемодан для перевоза в Россию и уехать нелегально в Финляндию, я был вынужден, не получив ответа на мою вчерашнюю телеграмму, просить утром полицей-президиум о его задержании. При обыске найдено более 200 запалов, много электрических препаратов для производства взрыва, коробка неизвестного взрывчатого вещества в листках... Переписки не обнаружено. Соображениями агентуры я назвал лишь фамилию Мирского, но не Камо...»
Первым же поездом он выехал в Париж. Утро застало Аркадия Михайловича в кабинете на авеню Гренель.
Усталости он не чувствовал. Наоборот, как скакун высокой породы томится в стойле и легко дышит в стремительном галопе, так и он увядал от серого мелкотемья и расцветал в дни больших дел.
С послом Нелидовым Гартинг был в сугубо деловых отношениях. Аркадий Михайлович чувствовал, что в глубине души этот сухопарый лощеный вельможа, продумывающий за сутки вперед все фразы, которые намерен произнести, презирает его за плебейское происхождение, за импульсивность и за все другое, что было ему известно, но в то же время не может не считаться ни с его положением, ни с его заслугами и связями. Гартингу же претили чванливость посла, его чрезмерная осторожность, свидетельствовавшая о робости или ограниченности. Но чрезвычайный и полномочный есть чрезвычайный и полномочный, да еще в столице Франции, да к тому действительный тайный советник, чин второго класса, в перспективе — министр или даже канцлер. По всему этому, вернувшись из Берлина, Аркадий Михайлович уведомил Нелидова об аресте Камо, отнюдь не вдаваясь в подробности, единственно ради того, чтобы посол узнал об этом от него, а не через службу министерства иностранных дел, и не остался в обиде.
Нелидов выслушал, не выказав ни малейшей заинтересованности или просто любопытства. И отчужденный его взгляд из-под полуприкрытых истонченных пленок век как бы лишний раз показал: «Не хочу мараться в вашей грязи, мое дело — высокая политика».
Аркадий Михайлович, сухо поклонившись, вышел из кабинета посла. Настроение его не омрачилось. Наоборот, вернувшись к себе, он с воодушевлением приступил к работе. Достал из сейфа лист с водяным знаком Меркурия и вертикальной жирной палочкой перечеркнул минус против фамилии Камо. «Плюс в мою пользу или крест на судьбе злоумышленника», — подумал он. Улики налицо. Камо — в камере следственной тюрьмы. Вопрос о выдаче его российским властям — дело времени. Он, Гартинг, свою миссию выполнил. Он не сомневается, что августейшие кузены столкуются полюбовно и «австрийский подданный» угодит на виселицу. «Молод и горяч, всего-то двадцать четыре от роду», — вспомнил он лицо арестованного в вестибюле пансиона. И ему сделалось даже жаль парня. Вот так и исчезают в небытие, еще и не начав жить, — «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю», — потому что там, наверху, богиня судеб по неожиданной прихоти своей обрывает нить. В данном случае роль провидения сыграл он, Гартинг... Что этот юноша кричал о провокации и привете брату? Напрасно немцы не разрешили ему оставить записку. А хотел ли он оставлять? Кавказец достаточно опытен, хотя и чрезмерно доверчив. Может быть, этим восклицанием он хотел кого-то о чем-то предупредить? Как бы там ни было, на нем — крест, и теперь на очереди Валлах-Литвинов.
Гартинг достает белый картонный квадрат с цветными кружками — картограмму, внимательно изучает ее. Валлах и его связи достаточно ярко высвечиваются и снаружи, и изнутри, хотя здесь, в Европе, это делать гораздо труднее, чем в отечестве, где на службу полиции поставлены все ведомства. От кружка в центре — «Феликса» — россыпь кружков по всему картону: «Виктор», «Петр», «Отцов», «Дядя Миша», «Юрий»... Связи Валлаха обширны: не только почти все, за малым исключением, эмигранты социал-демократы фракции большевиков, но и многие деятели социалистических партий других стран, такие, как Либкнехт в Германии, Гюисманс в Бельгии, Жорес в самой Франции. Где он, Феликс, в настоящий момент? Бесспорно одно: в Париже он после венской встречи с Камо больше не появлялся. Иначе не миновать ему ни Ростовцева, ни тем более филеров Генриха Бэна, старшего инспектора сыскной полиции Парижской префектуры, исполняющего одновременно (конечно же, в глубокой тайне) обязанности руководителя службы наружного наблюдения в ведомстве российского вице-консула. Гартинг приказал Бэну, чтобы его молодцы в эти дни дежурили на всех вокзалах и не выпускали из-под наблюдения квартиры наиболее важных большевиков.
Но что же предпринять, чтобы и Валлах попался в сети? Конечно, самым лучшим было бы схватить его вместе с Камо. Может быть, и следовало подождать с арестом кавказца? Не хватило выдержки? Нет, медлить было нельзя. Но теперь большевики сделают выводы. К тому же Валлах отнюдь не простодушен и доверчив, да и Ростовцев совсем не в таких близких отношениях с Феликсом.
За время, пока Гартинг был в Берлине, от осведомителя поступили немаловажные сведения. В одном письме — обстоятельная справка на Камо: о его родителях, сестрах, о боевых операциях, в которых он участвовал, в том числе и подробности тифлисской экспроприации. Ростовцев пишет, однако же, что других участников Камо не называл даже в самых доверительных беседах, как не проговорился и о своем настоящем имени. Осведомитель подтверждал, что среди большевиков Камо был известен как «в высшей степени ловкий, хитрый и находчивый организатор всяких технических предприятий, что он пользовался у товарищей громадным уважением». Эпитеты Аркадию Михайловичу были ни к чему, но новые сведения, раздобытые агентом, помогали установить личность арестованного и его связи в Петербурге и на Кавказе.
В столице должны были заинтересоваться и еще одним донесением, которое подготовил Аркадий Михайлович к отправке на Фонтанку.
Директор Трусевич изучает очередную депешу, только что поступившую из Парижа:
«У большевиков в настоящее время, как достоверно известно, имеется 100 000 рублей, экспроприированных Камо в Тифлисе, которые, возможно, до сих пор сохраняются у Никитича в С.-Петербурге. Выяснение этого обстоятельства продолжается...»
Да, с этим инженером тоже пора кончать. Максимилиан Иванович делает пометку для особого отдела:
«Надо Никитича во что бы то ни стало арестовать, о чем написать генералу Герасимову».
Заведующий особым отделом подполковник Васильев со своей пометкой передает распоряжение директора подполковнику Додакову, в непосредственном производстве которого находится тифлисское дело. А Виталий Павлович, уже с третьей резолюцией, пересылает его с фельдъегерем на Александровский проспект, своему бывшему начальнику, теперь как бы оказавшемуся у него в подчинении.
У генерала Герасимова предписание с Фонтанки вызвало мстительное удовольствие. Он доподлинно знал, что Никитича ни в столице, ни в зоне деятельности петербургского отделения нет. А где он? Вот теперь пусть и попрыгает дружок фон Коттен!.. Василий Михайлович тут же настрочил ответ в департамент, и днем позже его бывший подчиненный подготовил на подпись начальнику новый вариант распоряжения, на этот раз на имя начальника Московского охранного отделения:
«В департаменте полиции получены указания, что часть денег, похищенных в г. Тифлисе 13 июня с. г., находится в распоряжении фракции большевиков и сохраняется у члена Центрального Комитета Леонида Борисова Красина (Никитича), который состоит в постоянных сношениях с Меером Валлахом по приобретению за границей и водворению в Россию оружия для революционных целей.Сообщая об изложенном, департамент полиции предлагает во что бы то ни стало арестовать Красина, который, по донесению начальника СПБ охранного отделения, выехал по партийным делам в г. г. Москву и Иваново-Вознесенск, и о последующем уведомить».
У Виталия Павловича закрадываются сомнения: вряд ли честолюбивый и исполнительный Василий Михайлович хочет подбросить Коттену такую сахарную косточку. Если бы он точно знал место пребывания Красина, он бы приказал своим оперативным сотрудникам арестовать его, будь то даже у самых дверей дома на Гнездниковском. А впрочем, пусть грызутся!..
Между тем к Трусевичу начинают поступать сведения об аресте Камо уже через министерство иностранных дел и непосредственно от германских властей, приступивших к проведению следствия. Максимилиан Иванович принимает условия игры, предложенные Гартингом: о личности задержанного на Эльзассерштрассе ему ничего не известно. В таком духе он и отвечает полицей-президенту, покорнейше прося его сообщить подробности относительно обыска, произведенного у Деметриуса Мирского, а также выслать образцы найденных у него приборов. Глава берлинской полиции без замедления сообщает ему обо всех деталях ареста и прилагает фотографии арестованного анфас и в профиль.
Гартинг просматривает газеты, полученные из Берлина. На первых полосах под кричащими заголовками — сообщения об аресте опасного преступника. Версия, которую предложил репортерам полицей-президент, как нельзя более устраивает Аркадия Михайловича: в ней нет и намека на участие заграничной агентуры и тем более осведомителя: мол, сами берлинские власти выследили наконец этого человека, занимающегося закупками взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов для преступных целей. Что ж, коллеги с немецкой точностью выполняют обещание.
Но берлинский агент Гартинга (служащий в самом германском комиссариате полиции) уведомляет и о другом факте: коллеги утаили, что у Мирского была обнаружена записная книжка с многочисленными адресами. Ну и хитрецы! Ничего, тот же агент сообщает, что снял с книжки копию.
Между тем Ростовцев попросил о внеочередной встрече в связи с чрезвычайно важными обстоятельствами. Агент зря такими словами не сорит.
Встреча состоится через три часа. Аркадий Михайлович готовится к ней с бо́льшими предосторожностями, чем если бы ему предстояло свидание с любовницей на глазах у Мадлен. Гартинг убежден, что ни одному эмигранту-революционеру не известна его истинная роль. Но как вице-консула его не могут не знать, и встреча большевика тет-а-тет с императорским дипломатом равносильна политической смерти для эмигранта. В маленькой гардеробной позади своего кабинета он надевает парик, тонирует лицо, меняет костюм, туфли и шляпу. Даже фигура, походка становятся иными. На что уж проницателен ливрейный Кузьма, но и он равнодушным взглядом провожает одного из посетителей консульства.
Они сидят в уютной комнате небольшой квартиры, которую снимает Аркадий Михайлович за счет департамента на тихой улочке Телье за Сеной. Особенность квартиры в том, что у нее два выхода — и ни один не находится под присмотром любознательных парижских консьержек. У Ростовцева и Гартинга отдельные ключи, приходят они в разное время и встречаются уже в гостиной.
Приятный, раскрепощающий час свободы, когда даже грим на лице и приклеенная борода не мешают быть самим собой, — редкая роскошь, которую Аркадий Михайлович не может позволить себе ни в консульстве, ни тем более дома. А с Ростовцевым он может держать себя открыто — они связаны неразрывно, как сиамские братья, и служат они одному богу. Разница в том, что Ростовцев еще относительно молод. Но пойдет он далеко, хотя о таких высотах, каких достиг Гартинг, ему, конечно, и мечтать не приходится: не те времена, да и, без ложной скромности, задатки не те. Вездесущ, памятлив, безукоризненно ведет себя среди «товарищей», но нет дерзости и широты, поэтического наития. Даже трусоват, пожалуй. Впрочем, оно и к лучшему: отсутствие самостоятельности он компенсирует исполнительностью.
Сейчас Ростовцев откинулся в кресле, попыхивает сигарой. Тоже наслаждается. В кругу нищих эмигрантов небось мусолит мерзкие папироски. И о «Наполеоне-Карвуазье» может лишь мечтать за стаканом дешевого алжирского. Не чересчур бы хорошо от него пахло, когда вернется к своим! Ничего, на дорогу пожует луку или чесноку...
Ростовцев пришел не ради желания увидеть своего шефа. И не ради того, чтобы уведомить о немаловажном факте: Валлах объявился в Финляндии. Это он мог сообщить и по каналам связи, не подвергая себя риску.
— Большевистский центр предложил мне срочно выехать в Россию для встречи с Никитичем, — огорошивает он Гартинга, с удовольствием пуская сизую струйку дыма к потолку.
— Вот как! А с какою целью?
— Узнаю на месте. Хотя и догадываюсь: деньги.
— Вы хотите сказать, что у Никитича — те самые злополучные сто тысяч?
— Вполне возможно. И не исключено, что он поручит вывезти их из России именно мне.
— Хм... Не хватало бы еще, чтобы вас задержали с билетами и отправили в места не столь отдаленные.
— Зато деньги были бы возвращены в казну, — иронизирует Ростовцев.
— Нет, милый коллега, вы мне дороже ста тысяч, — откровенно говорит Аркадий Михайлович. — И отпускать вас в Россию сейчас, в самый ответственный момент лишиться вашей помощи... Нет!
— Отказаться я не могу. Не имею права. У большевиков это невозможно.
— Скажитесь больным. Мне вас учить!
— Невозможно. Болезнь — не оправдание.
— Ох, уж эти Рахметовы!.. Что же придумать?
— Я поеду. Центр уже отправил телеграмму Валлаху, чтобы он не возвращался в Париж, а дожидался встречи со мной в Финляндии. Возможно, именно ему я должен буду передать деньги, полученные от Никитича.
— Вот как! Это существенно меняет дело.
Гартинг в уме перебирает варианты. У него ум и тренировка шахматиста-маэстро, привыкшего обдумывать развитие партии на десяток ходов и контрходов вперед. Польза от поездки Ростовцева в Россию становится очевидной. Аркадию Михайловичу известно о том, что департамент потерял след Никитича. Заграничная агентура поможет Петербургу — выведет на инженера. Плюс. Ростовцеву будут указаны, конечно же, новые, вряд ли известные Фонтанке явки в России. Еще один плюс. Если агент действительно получит от Никитича, а затем передаст Валлаху те самые банковские билеты и с этими билетами Валлах будет задержан в Европе, его не спасет ничто, тем более что немцы в ходе расследования уже установили контакты Валлаха и Камо: прислуга в венском «Национале» и берлинском «Бернишер-Гоф» это подтвердила. Еще один плюс. А успешное выполнение Ростовцевым задания партийного Центра еще больше укрепит его позиции в их среде. Однако реальная и угрожающая опасность: как бы не арестовали в России самого агента, да еще с деньгами. Эти болваны в Петербурге могут позариться на сто тысяч и ради них провалить лучшего осведомителя и даже упечь его на каторгу. А если и отпустят с богом, на Ростовцева ляжет пятно... Гартинг запускает мизинец в ноздрю, очищает удлиненный ноготь мизинца ногтем большого пальца.
— Что ж... Придется вам, дорогой коллега, ехать, — решает он. — Будьте исключительно осторожны... чтобы вас не сцапали в России жандармы! Ни в коем случае никому, даже директору департамента, коли доведется встретиться, не проговоритесь, боже упаси, что деньги у вас. Соответственно и я приму необходимые меры. — Он наполняет рюмки. — Решили — не мешкайте. К утру выправим паспорт, билет берите на завтра. Ваши успехи!
Потом он достает бумажник:
— Думаю, этой суммы хватит.
— Вполне, — небрежно, будто деньги имеют для него ничтожно малое значение, говорит Ростовцев, перекладывая пачку в потайное отделение своего бумажника. — Не хватит — добавлю свои.
«Школа! — улыбается Аркадий Михайлович, ласково поглядывая на сотрудника. — Достойный ученик!»
— Нуте-с, а какое впечатление произвел на большевиков арест Камо?
— Самое тяжелое. Среди нас... в нашей среде он пользовался всеобщей любовью и уважением. Можно не сомневаться, что партия предпримет самые энергичные усилия, чтобы спасти его. Я слышал, однако это еще не проверенные данные, — борьбу за освобождение Камо возглавил сам Ульянов. Когда узнаю определенно, уведомлю во всех подробностях. Я, конечно же, убит этим трагическим обстоятельством, которое свершилось прямо у меня на глазах...
— Вы так и сказали им: у вас на глазах?
— Зачем же скрывать? Во-первых, многие знали, что в тот момент я был в Берлине. Кто-то мог видеть меня тем вечером на Эльзассерштрассе... Сказав, я отвел всякие возможные подозрения. Тем более что в искренности моего горя никто бы не посмел усомниться — я действительно был очень близок с юным героем.
В голосе Ростовцева звучала глубокая скорбь.
«Великолепно! — еще раз подумал Гартинг. — Талант!.. Не дай бог, если что-нибудь случится с ним в России!»
И он в третий раз щедро наполнил рюмки «Наполеоном-Карвуазье».
Утром, проверив, выправлен ли паспорт для Ростовцева, Аркадий Михайлович сел за составление обстоятельного письма в Петербург.
«Я руководствовался соображениями, что конспиративность поручения несомненно сведет агентуру со всеми, — Гартинг жирно подчеркнул слово «всеми», — секретными заправилами большевиков, ибо дело это ведет не Центр, а лишь самые выдающиеся секретные лица из него, чем еще больше упрочит его положение как хорошего исполнителя особо важных поручений... Сотрудник мною снабжен паспортом на имя Ильи Иванова Шорина, но я почтительнейше прошу Ваше Превосходительство не отказать в моей просьбе о несопровождении его наружным наблюдением из опасения, что таковое будет замечено революционерами и приведет к нежелательным выводам. Подробные сведения о результатах его поездки я немедленно буду представлять Вашему Превосходительству...»
Украшенный сургучными печатями консульства пакет тотчас же отправляется в Петербург дипломатической почтой.
А спустя час француз-агент наружного наблюдения Леруа докладывает:
— Мсье в клетчатом пальто и с черным саквояжем отбыл вторым классом берлинским поездом.
Что ж, карты перетасованы и пересданы, игра продолжается, ставки растут...
Однако срочная телеграмма из Берлина, поступившая на следующий день к вечеру, снова путает все расчеты:
«Мама неожиданно заболела. Просит остаться. Жозефина».
«Жозефина» — кличка Ростовцева, которой он вправе пользоваться в особо важных обстоятельствах. Обстоятельства действительно из ряда вон выходящие: сотрудник сообщает, что из Парижа ему приказано дальше не ехать, остаться в Берлине. Что означает этот непонятный ход Большевистского центра? Почему — и дальше не ехать, и не возвращаться в Париж? Неужели его заподозрили и хотят изолировать?.. Что предпринять? Как вернуть его сюда, черт с ней, с поездкой в Россию? Да, напрасно он поторопился с письмом Трусевичу: там уже небось потирают ручки, предвкушая арест Никитича и все прочие удовольствия, которые сулила прогулка агента по конспиративным адресам большевиков.
Сейчас самое время — запереться в кабинете и все хорошенько продумать. Но, черт возьми, как раз сегодня он обещал Мадлен нанести визит ее родителям — и те, конечно же, ждут, собрали всех своих юродивых!
Все эти титулованные дряхлые родственники жены ненамного старше самого Аркадия Михайловича, но сама мысль, что они — люди одного поколения, кажется ему нелепой. До чего же они бездеятельны, вялы, а он полон энергии и занят важной работой; они лениво расточают в своих дворцах и загородных виллах праздные дни, а у него на учете каждый час и каждая минута, и ему кажется такой бессмыслицей тратить это богатство — время на пустые разговоры. Но ничего не поделаешь: в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Он презирает их, хотя в глубине души и тешится горделивым чувством, что ныне принадлежит к их кругу.
Но Мадлен любит и их, и большой дом в аристократическом предместье Сен-Дени, с фамильным гербом на воротах и карнизе, с ливрейными слугами, с обтянутыми шелком комнатами, где прошло ее детство. Старики же души не чают в дочке, тем более во внуке и внучке. Однако Аркадий Михайлович знает, что чванливый и осторожный отец Мадлен в глубине души не очень доверяет чужеземцу, несмотря на его положение в обществе и ранг дипломата. Чтобы умилостивить старика и не дать повода кичиться родичам Мадлен, Аркадий Михайлович является к ним с визитом как на президентские приемы — во фраке и при орденах, какие и не снились всем этим маркизам и виконтессам.
По дороге домой он завернул к знакомому ювелиру. И вошел к Мадлен, держа в руке открытую бархатную коробочку: на золотой филиграни асимметрично рассыпаны были голубые камни — живые, яркие, как небо в весенний день. Аркадий Михайлович любил делать жене такие подарки без повода, и Мадлен радовалась этим пустячкам, как ребенок конфете, хотя сама могла бы без раздумий купить все содержимое той ювелирной лавки.
— Какая прелесть, милый! — воскликнула она, приколола брошь и благодарно поцеловала его в губы.
— Это ты прелесть, Мадлен! Сегодня ты чудо как хороша!
Она зарделась от удовольствия и шаловливо погрозила пальцем:
— Только сегодня? А вчера?
Гувернантка привела уже одетых Сержа и Аннет, и весело, шумно они расселись в карете, с шутками и смехом покатили через весь Париж. Какая счастливая, благополучная семья! Да так оно и было, и любой мог позавидовать им!..
Мажордом ударил посохом о плиту и провозгласил:
— Мадам и мсье Гартинг!
Аркадий Михайлович с удовольствием прислушался к звучанию своей фамилии, как если бы она возносилась по лестнице на крыльях почета. Дети опрометью пустились вверх по ступенькам, а они начали подниматься чинно, рука об руку. На верхней площадке их уже ждали родители Мадлен. Дочь поцеловала их, а Аркадий Михайлович приложился к дряблой руке матери и пожал сухую руку отца.
За столом разговор, как всегда, зашел о Николя, о русском государе.
— Как здоровье Николя, как здоровье инфанта? Скоро ли Николя соберется с визитом в Париж? — полюбопытствовал отец Мадлен и выслушал ответ, прижав перламутровый рожок к уху.
К их беседе с уважением прислушивались другие родичи жены. Не без участия самого Аркадия Михайловича в этом доме была распространена легенда, что муж дочери, хотя исполняет весьма скромную роль в дипломатических сферах, однако же высокая персона, с которой связана какая-то тайна российского двора: не случайно же он обладатель стольких высоких орденов Европы, в их числе и звезды «Почетного легиона» — а этого ордена, как известно, удостаивались лишь самые выдающиеся иностранцы за особые заслуги перед Францией. К тому же французские дипломаты не раз видели его в ближайшем окружении августейших особ во время их визитов в другие европейские страны и даже на завтраке за столом у самой вдовствующей императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары... О, это такая же жгучая тайна, как тайна Железной Маски! И не исключено, нет, совсем не исключено, что в жилах этого веселого и остроумного господина течет царственная кровь. Уж в столице-то Людовиков (родители Мадлен в своем представлении еще жили во Франции Бурбонов, а не при вульгарной Третьей республике) знают немало историй о побочных отпрысках!.. Эти легенды в пересказе Мадлен возвращались к Аркадию Михайловичу. Жена сама была снедаема любопытством, но из деликатности не посягала на тайну. А Аркадий Михайлович не отвергал их и не подтверждал, лишь загадочно улыбался. Эта улыбка была искренна — она внешне отражала то веселье, которое он испытывал при мысли: вот бы огорошить их рассказом о своей родословной, которая, впрочем, и не была ему известна, ибо какое генеалогическое древо может быть у выходца из ничтожнейшей мещанской семьи, у беднейшего и жалкого студентика из захолустнейшего городка Пинска?.. А скажи — и ведь не поверят! Решат, что это очередная шутка вельможи. Нет, его прошлое утонуло, кануло на дно Леты.
Визит проходит безупречно. Все расстаются, чрезвычайно довольные друг другом и каждый — самим собой. Аркадий Михайлович рад и тому, что может вернуться к своим заботам.
Ночью Мадлен улавливает его настроение:
— Ты чем-то встревожен, милый?
— Нет, мое чудо. Кощунственно думать о чем-то другом, когда ты рядом.
Ей не составляет ни малейшего труда пробудить в нем желание. Боже, как она прекрасна!.. И все же мысли его там, в кабинете на авеню Гренель: что произошло с Ростовцевым?
Утром, в консульстве, он читает еще одно донесение от Жозефины:
«Папа уже здесь. Заказ на цветы переведен в Париж».
Это означает, что Валлах прибыл в Берлин и, самое главное, «цветы» — деньги уже в столице Франции.
Что делать теперь, после случившегося на Эльзассерштрассе? Слова, которые выкрикнул в вестибюле Семен, предназначались, конечно же, ему, Антону. Что они должны были означать? Кому сообщить об аресте — ведь он единственный свидетель катастрофы? Он должен как можно скорее уведомить товарищей. Но кого? Тех, кого он знал уже по Парижу? Вправе ли, известен ли им Камо? Сказать Виктору? Он привел Семена к Антону. Да, Виктору!.. А может, не следует? Мало что привел. Лидина он тоже встречал на вокзале, но ведь с тех пор у них ни слова не было о «подопечном», хотя, конечно же, Антону хотелось бы узнать, почему и зачем оберегал он в пути мужчину с мефистофельской трубкой. Кому же сказать — Виктору, Отцову?..
В эти дни Антон встретил в Париже дядю Мишу. Кого угодно, но только не бывшего своего «ученика» с Арсенальной ожидал он увидеть на французской земле. Путко знал, что дядя Миша — депутат Питерского Совета — был арестован и заточен в Петропавловку еще в декабре пятого года. Теперь, поскрипывая жесткой ладонью по седой щетине нечисто выбритой головы, дядя Миша, еще более угрюмый и нелегкий на разговор, скупо поведал свою историю: как в страшные морозы санным путем бежал из Нарымского края, как через всю Россию пешком шел к границе — считай, без малого год заняла дорога... Антон спросил: не слышал ли старик о товарищах с Металлического. Слышал. Многие — по острогам, по северным краям. Кое-кто остался на заводе. А Захара до смерти забили в «Крестах». И всю его семью выкорчевали. Внучка Варенька померла по дороге в якутскую ссылку... У Антона не было сил слушать. Дядя Захар!.. И та белоногая девчонка: «Вы к дедушке? Проходьте!..»
Сам дядя Миша очень тяжело переносил отрыв от родины. Он плохо понимал французский, не мог найти постоянной работы — то баржи разгружал, то ночами на центральном рынке корзины и туши таскал, получая за это жалкие гроши, и перебивался с хлеба на воду. Его большие, грубые, с обломанными ногтями руки тосковали по металлу, а маленькие, в сетке морщин, глаза не покидало выражение боли. Антон относился к дяде Мише с опасливым уважением, чувствуя несоизмеримость его тягот со своими. Поделиться с ним?..
К радости Антона, дядя Миша нашел его сам. Он тяжело забрался в мансарду. Был он хмур больше обычного, его усы понуро обвисли:
— Вот чего, малец... Надобно тебе в энту, как ее, в Женеву ехать.
— Ну, если надо... — Антон колебался: «Сказать ему или не говорить?» Тревога, которую он таил в себе, раздирала ему сердце.
— Ты чегой-т посерел весь? — спросил дядя Миша. И сам сказал: — О хлопчике нашем, о Камо, слыхал? Беда...
Он тяжело и глубоко вздохнул:
— Не повезло сынку.
Антон вспомнил: «Я везучий...» Эх, сглазил Семен свое счастье!..
— Что теперь? — спросил он.
— Что теперь, что теперь... Сам знаешь: каменные стены... Чего об этом? — дядя Миша поскреб ногтем по доске стола. — Оханья тут ни к чему. Камо так не бросим. А ты поезжай. Вот адрес. Спросишь в архиве заведующего, Минина. Башковитый такой, знавал еще по первой высылке... Запомнил? Чтобы не плутал, вот, товарищи велели передать, — он достал из кармана обтрепанную карту.
Ночь в пути. На рассвете засверкали, зеркальные ледяные вершины Бернского Оберленда, а еще через пару часов поезд втянулся под стеклянную крышу женевского вокзала.
Он шел и с интересом смотрел по сторонам. Вот она, Женева, город, связанный с историей России не меньше, чем Париж, но даже по первому впечатлению своим малолюдьем и степенностью столь непохожий на шумную столицу французов. Антон знал о своеобразном положении Женевы, определяющем ее характер: со стародавних времен эти улицы давали прибежище изгнанникам. Кого только не повидали эти дома, для кого только не служили кровом их черепичные крыши! Итальянские протестанты и французские гугеноты; аристократы, бежавшие от трибунала якобинцев, и коммунары, спасавшиеся от террора версальцев... Здесь жили Эразм Роттердамский и Жан-Жак Руссо, Тадеуш Костюшко и Рихард Вагнер. Но, пожалуй, особенной популярностью пользовалась Женева у русских эмигрантов. Здесь одно время издавали «Колокол» Герцен и Огарев; здесь нашли приют герои «Народной воли» и вожди анархизма Бакунин и Кропоткин. И те нелегальные брошюрки, которые еще в Технологическом институте тайком, из рук в руки передавали студенты, были напечатаны группой «Освобождение труда» и «Социал-демократическим издательством В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» тоже здесь, в Женеве. Какие дела привели и его, Антона, в этот город?
За мостом, переброшенным через широкую и быструю Рону, он свернул направо. Теперь солнце светило ему в спину — и он шагал по своей длинной тени. Остановился. Проверил по карте, которую дал ему дядя Миша. Ага, сейчас будет рыночная площадь Плен де Пленпале.
Так и есть. Площадь уже шумела: торговые ряды, тачки, повозки, праздник осенних щедрот земли — овощей, фруктов, цветов. Антон пересек площадь и у отеля «Зодиак» свернул на тихую тенистую улочку.
Вот и бульвар де ла Клюз, дремлющий под сводами могучих каштанов. Антон отыскал дом с табличкой «57». Фасад его был увит плющом. В густой зелени уже полыхали багряные листья. Под каждым окном пестрели цветы. «Архив?.. — официальное сухое слово не вязалось с этой сонно-живописной картиной. — Не ошибся ли?..». Но увидел на двери вывеску «Bibliothèque russe» и облегченно вздохнул: здесь. Вступил в прохладное парадное. На первом этаже у двери тоже табличка, уже на родном языке: «Русская библиотека имени Г. А. Куклина».
Он постучал. Подождал и постучал громче. За дверью послышался легкий шум, звякнул запор, створка отворилась, и Антон увидел невысокую женщину. Ее фигура была перетянута в талии фартуком, а длинные черные волосы распущены по плечам.
— Мсье? — спросила она, вглядываясь в полумрак парадного, и в голосе ее прозвучали удивление и досада на столь ранний визит.
Антон замер. Рванулся к ней:
— Ольга!
— Ты?.. Вы? — воскликнула она радостно: — Какими судьбами?
— Вы сами меня приглашали, не забыли? — нашелся он.
— Приглашала? — она поправила волосы. — Однако же... — оборвала, просто и весело сказала: — Проходите. Мы только встали, будем завтракать.
— Я подожду... Зайду попозже.
— Позавтракайте с нами.
— Я уже!
— В такую рань все кафе еще закрыты, — сказала она, продолжая улыбаться. — Не стесняйтесь, входите. Я познакомлю вас с мужем. — И, обернувшись, позвала: — Валя, встречай гостя!
Из комнаты в прихожую быстро вышел мужчина лет тридцати. Он был темно-рус, у него была рыжеватая бородка и коротко стриженные усы. Металлическая дужка удерживала на переносье пенсне. «Вот он какой...» — разочарованно подумал Путко. Ему казалось, что мужем Ольги должен быть красавец, какой-нибудь Алеша Попович или Руслан. А перед ним стоял невысокий, узкоплечий, сутуловатый человек без пиджака и галстука, в подтяжках и близоруко-растерянно смотрел на него, не понимая, чему он обязан столь ранним визитом.
— Этот мальчик — мой спаситель, товарищ Владимиров, — представила Ольга.
— А-а! — обрадованно произнес мужчина и первым протянул ладонь: — Минин. — Он склонил голову к плечу. — Значит, вот вы какой. Проходите. Я предупрежден о вашем приезде. Ну-с, как там Нотр-Дам де Пари?
«Он-то знает, а она даже и не знала, что я в Париже и приеду. Не интересовалась», — с обидой подумал Антон.
Но при всем том он был обрадован и взволнован, и эта нежданно-негаданная встреча с Ольгой ослабила боль последних дней.
Они сидели на кухне; в центре стола возвышалась на подставке большая сковорода с яичницей-глазуньей и поджаренными ломтиками ветчины; Ольга заботливо подкладывала в его тарелку, и Антон чувствовал себя легко, с волнением следил за ее смуглыми руками, с трудом сдерживался, чтобы не глядеть ей в лицо, и все равно ежесекундно видел перед собой ее зеленые глаза. Как она похорошела, как помолодела, когда ушли тревоги и спало напряжение непрерывной опасности... Он прислушивался к звучанию ее голоса — и отдыхал, отдыхал, будто добрел наконец до родного дома и все странствия уже позади. Валентин ел молча и аккуратно, в такт движению челюстей поблескивали стеклышки пенсне — бабочка вот-вот готова была взлететь, но никак не могла оторваться от переносья. «Чего он молчит?..» А если бы не было ее мужа за столом? Разве осмелился бы он сказать ей это или даже просто открыто, глаза в глаза, посмотреть на нее?..
— Как вы думаете?
— О чем?
Она рассмеялась. Снисходительно сказала:
— Ну ладно, ешьте и ни о чем не думайте.
Будто и не почувствовав его смущения, начал рассказывать Валентин — он уже очистил свою тарелку и даже кусочком хлеба подобрал растекшийся желток.
— Наша библиотека называется «Русской имени Куклина», а на самом деле является собственностью ЦК РСДРП, и при ней же находится архив партии, — голос у Минина был такой же сухо-книжный, как и он сам. — Библиотеку завещал партии наш товарищ, большевик Георгий Куклин. Он умер от чахотки этой весной. Наша библиотека — весьма редкое и ценное собрание книг, включающее и все те, которые запрещены в России и отражают историю революционного освободительного движения как во всем мире, так и в нашем отечестве. Если вы намерены углубленно изучать эту проблему, можете располагать ее. услугами: мы обеспечиваем книгами товарищей и в других городах и странах.
«Не изучать ли проблему прислали меня сюда? — удивился Антон. — Может, Леонид Борисович распорядился... Ничего себе, нашли время!» Но в тайниках души он был бы рад такому обороту дела.
— Мы вдвоем с Валентином и заведуем «Библиотек рюсс», — сказала Ольга и положила руку на плечо мужу.
«Архивариус какой-то — и она!..» — ревниво подумал Антон.
Он вспомнил глухую улочку в Ярославле недалеко от централа, ползущий с Волги ночной туман, услышал шелест подъезжающих дрожек и увидел белое расплывчатое лицо у подножки кареты. И снова, как тогда, удивился: «Старый партийный товарищ — она?..»
— Спасибо, — отодвинул он тарелку. — Вы не знаете, зачем меня вызвали?
— Наша библиотека к тому же и место встреч товарищей. — Минин достал часы, щелкнул крышкой. — Через сорок минут подойдет Папаша — и узнаете.
— Феликс здесь? — это известие было второй радостной новостью за женевское утро. Вот кому он расскажет об аресте побратима!
Спустя час они сидели в безоконной комнатке-боковушке. До нее надо было пройти просторный читальный зал, тесно уставленный некрашеными белыми столами, две узкие комнаты, перегороженные стеллажами, которые проседали под тяжестью книг. Здесь, в чулане, хранился архив партии и стоял запах старой бумаги и клея.
Минин остался в читальном зале, а они тесно уселись за маленький, легкий стол втроем: Антон, Ольга и Феликс. Не отрывая взгляда от товарища, улавливая смену чувств на его осунувшемся лице, Путко подробно, как требовал когда-то Леонид Борисович, рассказал обо всем, чему стал свидетелем в доме на берлинской Эльзассерштрассе.
— Да, все так, — неожиданно суммировал, тряхнув черной копной, Феликс. — Там был еще один наш товарищ... Он проводил кареты до следственной тюрьмы. Теперь Семен переведен в Моабит, в самую неприступную берлинскую тюрьму — подобие наших петербургских «Крестов».
— Как же это могло случиться? — Антона все эти дни точила недоказательная, но тем более страшная мысль: перед глазами стояло простодушно улыбающееся лицо Олега Лашкова, и в ушах звучало слово: «Провокация!» — Почему немцы арестовали его? Кто-то выдал Камо?
— Осторожней, мальчик, — сделал резкое движение ладонью Феликс, как бы под корень отсекая самую эту мысль. — В газетах пишут, что немцы давно выслеживали опасного преступника. Конечно, всему, что пишут газеты, нельзя верить. Но мы не можем не верить товарищам.
— Он же сам крикнул!.. — Путко повторил свой рассказ о последней минуте.
— Наверно, ты что-то напутал — или тот немец неправильно перевел, — угрюмо ответил Феликс. — Второй товарищ не подтверждает этого. К тому же есть и другой смысл: «Арест Камо — провокация германской полиции», можно понять и так.
— Но разве не было предателей? Еще в пятом году «Пролетарий» даже печатал их фотографии.
Феликс тяжело кивнул:
— Были они — и есть. Российская охранка — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», — так, кажется, у Тредиаковского? И провокация — излюбленный прием этого чудища. Но это еще не дает нам права подозревать товарищей.
Он снова подсек серпом-ладонью:
— Нет. Камо виделся всего с несколькими товарищами. Еще меньше наших знали о его задании и о том, что к было в его сундуке... И каждый сто раз проверен на партийной работе.
— Да, — поддержала Ольга, строго посмотрев в лицо Антона. — Недавно — не у нас, правда, у социалистов-революционеров — заподозрили одну женщину. Стали проверять. До нее дошел слух. Она покончила с собой. А перед смертью написала: «Будьте осторожнее с другими». — Ольга содрогнулась: — На свете нет ничего страшнее и подлее предательства!
Антон вспомнил, как отпрянула она в карете тогда на Фонтанке, и снова залился краской стыда: «Она тогда подумала, что я... И сейчас я только пришел и суюсь со своими подозрениями...» Но как больно за друга, который в эти часы там, в Берлине, в каменных стенах Моабита, ждет решения своей участи! — Что же делать? — воскликнул он. — Все возможное мы уже делаем — и сделаем, — скупо ответил Феликс. — И Семен не так прост. Трижды был приговорен к казни — и трижды бежал, два раза даже из Метехского замка. А это почище и «Крестов», и Моабита.
Он помолчал.
— Немцам не удастся узнать от Камо ничего. Он — камень. Он сам любит говорить: «Ветер от камня ничего не возьмет».
Он снова замолчал.
— Поэтому арест Семена не меняет наших планов. Наоборот, нам надо действовать более быстро и энергично. Это спутает и полицейские карты. — И повернулся к Ольге. — С билетами все в порядке?
— Конечно, — она кивнула на полки с папками и книгами.
— Так вот: в ближайшие недели нам нужно обменять деньги на местную валюту.
Антон не понимал, о чем идет речь.
— Часть тех денег, которые Камо захватил в Тифлисе, надо обменять на франки и марки, — объяснил ему Феликс. — Эти деньги нужны и для спасения самого Семена. Вопрос: как и когда обменять.
— Пойти в банк или меняльную контору. Я так сделал в Париже с деньгами, которые дала мне мать... — сказал Антон.
— Значительную часть мы так и обменяли. Но остались банковские билеты самого крупного достоинства: по пятьсот рублей, иными словами, — каждый билет — это больше фунта золота. Меняльные конторы их не принимают — только крупнейшие банки, корреспонденты российского министерства финансов.
— Что же вы предлагаете, Феликс? — спросила Ольга.
— Это я и хочу обсудить с вами. Во всяком случае, к участию в обмене я решил привлечь вас обоих.
Вместе они стали обдумывать различные варианты. Литвинов не сказал им, что он уже обсуждал этот же вопрос с несколькими другими большевиками, которых решил привлечь к операции, — с Викторам, дядей Мишей, Отцовым. Он старался выверить каждый шаг. В конечном счете он пришел к решению: поручить дело большой группе и молодых партийцев, и ветеранов. Конечно, в целях конспирации он не раскрывал каждой группе всех участников. А план еще не был ясен для него самого: когда, как и где осуществить обмен.
— Хорошо, — сказал он, выслушав их предложения. — О порядке обмена я сообщу позднее, может быть, возьмем за основу вашу идею, мудрецы.
Ольга ушла в читальный зал — посмотреть, нет ли кого чужого.
«А Минина Феликс не позвал», — подумал Антон, провожая ее взглядом, и с тайной надеждой спросил:
— А этот... муж Ольги — кто он?
— Товарищ Валентин? Ого! Когда я в наших делах еще под стол пешком ходил, Минин уже был удостоен «царской милости» — о нем дважды докладывали самому Николаю и по высочайшему его указу гнали на север. Товарищ Валентин в партии со дня ее основания.
«Вот тебе и архивариус», — думал упавший духом Антон, шагая вслед за Феликсом через комнаты книгохранилища. Стеллажи оставляли узкий проход. Книги теснились до самого потолка. На корешках золотом проступали надписи: «Колокол», «Полярная звезда», «Искра», «Заря», «Вперед», «Пролетарий»... Подшивки газет, фолианты в коже и брошюрки, папки с прокламациями и собрания сочинений выдающихся писателей и ученых. Феликс сказал, что он сегодня же должен вернуться в Париж. «Никитич спрашивал, как у тебя с учебой. Не бей баклуши. А когда понадобишься, мы тебя уведомим».
«Подумаешь, обменять деньги в банке — эка важность!» Предстоящее поручение казалось Антону нетрудным. Но он был рад, что приехал в Женеву и встретился с Ольгой. Пусть ничего, кроме щемящей тоски, и не сулила ему эта нежданная встреча.
Назад: ГЛАВА 14
Дальше: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕПЕША С АВЕНЮ ГРЕНЕЛЬ

