Гумбум. Монастырь Цзонкавистов
Вот уже месяц, как мы живем в Гумбуме; это – монастырь в 25-ти верстах от Большого китайского города Синина. Дорога из Синина идет в него по долине небольшой реки, вытекающей из южных гор. Вдали перед вами все время виднеется высокий хребет, острые пики которого слегка покрыты снегом; кругом – холмистая лесовая почва, почти везде распаханная, лишь перед самым монастырем дорога вступает в более высокие холмы, где по сторонам уже не пашни, а просто трава и почва вся изрыта какими-то зверками; лошадь, едва своротив с тропинки, часто проваливается в эти норы.
С одного из холмов открывается вид на котловину, кругом обнесенную горами, по скатам которых, обращенным к вам, широко разбросаны монастырские постройки; тут нет ни ограды, ни ворот, как у наших монастырей; Гумбум скорее похож на наш уездный город. Здания в нем все каменные, т. е. из необожженного кирпича, даже обнесены такими же стенами, и издали вы видите скорее ряды белых заборов, в беспорядке разбросанных по холмам, чем ряды зданий. При ближайшем осмотре вы заметите несколько храмов, которые выделяются и своей архитектурой, и окраской; вместо белой известковой окраски келий, храмы покрыты яркими красками; часто верхний этаж – красный, нижний – черный, иногда кровля, или, скорее, карниз, окружающий кровлю, покрыт яркими арабесками и резьбой; над фронтоном возвышается ряд золоченых ваз, странной, на наш взгляд, формы. Вазы эти, по словам лам, наполняются бумажками с написанными на них молитвами.
С холма вы спускаетесь в овраг, переезжаете небольшой мост и въезжаете в монастырскую улицу, ведущую на площадь перед большим хуралом. Здесь перед ним целый ряд субурганов, или белых памятников, особой буддийской формы. Низ памятника всегда представляет форму крымского яблока или груши, из широкого конца которых к небу поднимается колонна. Фигура эта, в общем, всегда одна и та же, но размеры очень различны; есть небольшие, не больше сажени в высоту, и есть величиной с наши храмы. В самых больших бывает помещение для богов, но чаще – это просто глухие постройки. Говорят, субурганы ставятся над могилами святых людей или над какими-нибудь реликвиями. Так как Гумбум – родина Цзонкавы и богат реликвиями, то здесь и стоит восемь субурганов. Храм, перед которым они вытянулись, тибетской архитектуры; здание несколько расширено книзу.
С площади, на которой шла кое-какая торговля, т. е. стояли быки с вязанками дров и тангуты с мешками соломы, картофеля и проч., мы свернули в главную улицу монастыря, идущего вдоль оврага, и потянулись в гору. Дорога шла по берегу речки, разделяющей монастырь на две половины. По обе стороны оврага тянулись монастырские здания; некоторые общественные здания имели до 20 окон в верхних этажах; были и маленькие отдельные кельи; кроме других общественных зданий, тут было до шести храмов. Один из них – с двухэтажной китайской архитектуры кровлей, которая вызолочена и ярко блестит на солнце, это – так называемый Золотой храм.

Местами берега оврага украшены тополевыми рощами; но в общем Гумбум беден деревьями, старых совсем нет, вероятно, потому, что они были вырублены дунганами. Эта набережная, прихотливо извивающаяся по извилинам оврага с перекинутыми изредка мостиками и площадками перед храмами, вероятно, самая красивая часть Гумбума.
Проехав почти весь монастырь, мы свернули в узкий переулок и должны были здесь спешиться, так как дом, на который нам указали, как на наше будущее жилище, стоял на полугоре, и к нему вела небольшая лестница из булыжника. Тут же стали снимать вьюки с наших мулов и на руках вносить их в калитку. Некоторая пустынность, отдаленность от монастырского центра, чисто выбеленные стены и новая калитка – уже теперь же расположили меня в пользу нашего будущего жилья, а когда я вошла в калитку и увидела чистый двор, кругом обнесенный постройками, окна с изящными решетками, красивую резьбу над галереей, окружающей с трех сторон двор, я исполнилась глубокой благодарностью к монастырскому начальству, давшему нам такое помещение. На дворе в это время толпились ламы, вынося из комнат разный домашний скарб. Жаль было выживать жильцов из насиженного гнезда, но в то же время я радовалась, что дом этот будет принадлежать нам одним. Мы заняли главные комнаты, прямо против ворот; в них с галереи вели ярко окрашенные двери, парадная также вся покрыта краской и картинами, направо от нее полупрозрачной резной решеткой отделяется небольшая гостиная, налево глухой перегородкой в виде ширм – спальная.
Стены комнат были белые, но фантазия художника, кроме ярких карнизов вверху и внизу, придумала еще нарисовать вверху как бы часть приподнятого занавеса, драпирующегося складками; потолки тоже были украшены рисунками цветов и арабесок и посредине каждой комнаты медальоном из бытовых сцен; каждое полотнище ширм, отделяющих спальную, тоже имело китайскую картину, больше, впрочем, похожую на карикатуру, как по замыслу, так и по исполнению; всего оригинальнее было верхнее отделение комнаты; выше ширм под потолком лежат одно на другом два круглых бревна, – художник превратил их в огромные свитки дорогих материй, затканных цветами. Двери и ставни в комнате также покрыты рисунками. Как видите, в общем у нас очень недурная и, главное, очень оригинальная квартира.
Г. Скасси, наш спутник, занял три комнаты в левом боковом флигеле дома. Направо были нежилые постройки, а в доме, который прямо против наших комнат выходит на улицу, остались жить ламы; в левом углу между нашими комнатами и комнатами г. Скасси помещаются кухня и комната для прислуги. Я забыла упомянуть о размерах помещений; каждая сторона дома занимает в длину не более 4-х сажен и столько же аршин в ширину. Главный недостаток дома, на наш русский взгляд, – это неимение печей; отапливаются комнаты снизу, со двора, и это очень мало нагревает их. Сзади дома есть небольшой двор, также прикрытый галереей; с него едва можно видеть узкую полосу неба, – так круто возвышается глиняный обрыв над домом. С переднего двора тоже видно немного, спереди над плоскими кровлями видны вершины двух холмов, с часовенкой на одном из них, назад, над обрывом, видна часть стены и ворот чьей-то кельи. Чтобы видеть больше, надо войти на кровлю; отсюда открывается вид на дворы домов наших соседей-лам. Везде такое же устройство, как у нас, т. е. квадратный двор, с трех сторон его – кельи, с четвертой – амбар и кругом всего двора – галерея.
Небольшая толпа мальчиков-лам и стариков сопровождала нас и вошла с нами на двор. Кругом слышался монгольский говор; на лицах виднелось любопытство, но не было заметно ни недоброжелательства, ни презрительной насмешки, так неприятно действующей на вас среди китайской толпы. Скоро явились какие-то ламы, изгнавшие толпу с нашего двора; они объявили, что пересланы от монастырского начальства, чтобы поселить нас здесь, и что мы можем обращаться к ним, как бы к смотрителям нашего дома. Сейчас же они назначили нам одного молодого послушника в водоносы, другого поселили в привратников, и мы сделались гражданами монастырской общины.
В день нашего приезда в Гумбум был праздник, – праздновался седьмой день кончины Цзонкавы; вечером монахи зажгли иллюминацию. Я вошла на кровлю, чтобы полюбоваться огнями. Вид был очень красив; на темном фоне холмов и ночного неба со всех сторон рисовались огненные строчки. Каждый владелец кельи выставляет у себя на кровле ряд масляных лампочек; богатые выставляли длинный ряд во всю стену, бедные – с десяток. На кровлях виднелись группы монахов в их красных драпировках; поставивши лампы, монахи набожно творили земные поклоны, обращаясь в сторону храма, откуда в это время доносились слабые звуки труб и бубна.
Живя в монастыре, мы, однако, мало видим лам – у нас бывают только двое приставленных к нам от начальства, один из них сделался большим нашим приятелем, он всегда желанный гость. Это – тангут по происхождению, родина его недалеко от Гумбума, человек лет 40, с большим тактом. Он бывал в России, ездил к бурятам торговать ламскими товарами, знает русские порядки и, кажется, находит их недурными, любит щегольнуть знанием нескольких русских слов и, приходя к нам, всегда здоровается по-русски. Он никогда не отказывается дать какое-нибудь нужное нам разъяснение, достать нужную книгу или найти знающего человека для каких-нибудь расспросов. Какие его обязанности в монастыре, – нам неизвестно; но он принадлежит к общине монахов, «изучающих писание». Ближе видим мы жизнь лам, поселившихся на нашем дворе. Это, большею частью, молодые еще люди и бедняки. Самый старший из них, с лицом желтым, как дубленая кожа, и хриплым голосом, мало разговаривает, он вечно занят чтением молитв и, по правде сказать, иногда нагоняет порядочную тоску, читая их нараспев своим гробовым голосом, по целым часам не переставая; остальное время он занят перепиской священных тибетских книг.
Другой жилец, тоже почти невидимый нами, молодой художник; он встает на рассвете и уходит в мастерскую живописи и лепных работ, а возвращается, когда уже стемнеет. Родом он из Восточной Монголии, пришел сюда почти ребенком. Большие серые глаза, пухлые губы и более светлый цвет лица выделяют его среди здешних сухих и смуглых тангутских лам. На галерее нашего двора постоянно можно видеть двух лам: одного – монгола родом из-под Долон-нора, из Восточной Монголии, человека лет 25, высокого, с тонкими чертами лица, несколько прихрамывающего; другого – молодого ордосца, почти мальчика. Первый, по имени Лобсын, с утра до ночи занят шитьем заказного платья, это его средство к жизни; в хурал к богослужению он не ходит; варить пищу для своих сотоварищей и топить кельи чаше всего выпадает на его долю, так как он – большой хозяин-хлопотун. Иногда мне случалось видеть, как этот труженик, приковыляв на галерею (шить в комнате темно и, главное, холодно), лишь только успевал разложиться со своими лоскутками, нитками и иголками, как во двор являлся нищий и, протягивая чашку, затягивал свою назойливую песню.

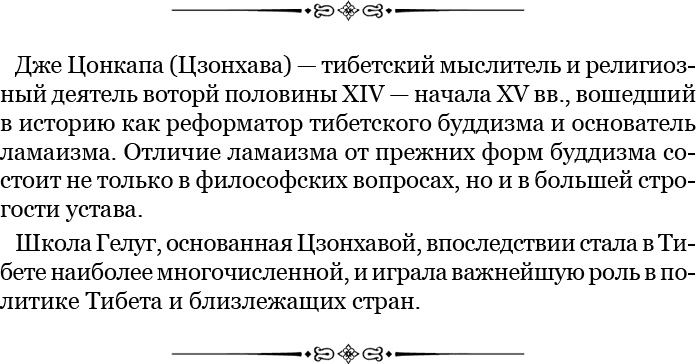
Хромой лама сейчас же вставал, оставлял работу и отправлялся к себе, чтобы зачерпнуть чашку дзамбы для просителя; лишь только он усаживался и разбирался в работе, как снова в калитку просовывалась голова и рука с чашкой, и наш лама снова отправлялся за дзамбой. Мне иногда досадно бывает на этих батырчи (нищих), но ламы никогда на них не жалуются. Эти батырчи, иногда молодые люди, часто, может быть, лишь временные странники, отыскивающие, где лучше? И каждый из лам, живущих на нашем дворе, может быть, бывал в подобном положении или, может быть, в нем очутится, как скоро ему придет охота к паломничеству. Как ни мало зарабатывал наш лама, он никогда не отказывал никому в подаянии; точно так же он не отказывался помочь всякому в его работе. Трудолюбивый, скромный и деятельный, он, по-видимому, любим всеми окружающими.
Другой общий любимец, больше всего оживляющий наш двор, это – ордосец Ратна-Бала; он бежал из родительского дома в Гумбум, когда ему было 12 лет (теперь ему 17); но когда вы смотрите на его круглую, как мяч, голову, на красное, как будто подбитое ватой, лицо, на круглые брови и глаза, на расплывшийся детский нос и детские же губы и подбородок, вам трудно относиться к нему, как к взрослому. И на дворе он известен под именем джалхын-ламы, т. е. маленького ламы (даже больше, чем маленького: в слово «джалхын» монголы вкладывают больше ласки).
Притом же джалхын-лама сохранил и ребяческую живость, говорит, сильно жестикулируя, лицо беспрестанно переходит от одного выражения к другому, смех его раздается беспрестанно по всякому малейшему поводу.
Он чаще всего занят ученьем, т. е. твердит вслух какую-то книгу, и чаще прочих ходит в хурал. Иногда на наш двор является еще один тангутский юноша, товарищ маленького ламы: тогда они начинают учиться вместе. Тангут становится в ораторскую позу, поднимает в воздух красивым жестом руку и начинает предлагать ордосцу какие-то вопросы; тот, пренебрегая всякой заученностью, сыплет ответами и с торжеством щелкает пальцами и хлопает в ладоши, когда вопросы и ответы идут удачно или когда он одерживает верх над противником. Таким способом они приготовляются к торжественному состязанию, которое устраивается в Гумбуме между ламами. Это что-то вроде наших ученых диспутов или публичных экзаменов: присутствующие могут предлагать вопросы и выражать свое одобрение или неодобрение аплодисментами и криками. В чем заключаются эти диспуты, я не могу сказать, но, по-видимому, на них обсуждают не одни богословские вопросы.
Гумбумские монахи делятся на четыре отдела, или ордена: Тенкур, Мамба, Чорова и Джютба. Кроме этих лам, есть еще ламы-чернорабочие, они не составляют особого хурала, а распределяются по разным отделам. Первый орден – Тенкуры, или гадатели; это – ламы, к которым обращаются за указанием дней счастливых или несчастных, хороших или дурных для начала какого-нибудь дела. Второй орден – Мамба, или медики; они изучают и собирают травы, составляют лекарства и лечат; третий орден – Чорова – из лам, изучающих писание и держащих публичные диспуты, самый многочисленный и влиятельный в Гумбуме; четвертый орден, Джютба, состоит из лам, исключительно занимающихся молитвами, созерцанием и чтением книг тарни.
Это – высший орден; в него не принимают малолетних и людей с какими-нибудь физическими недостатками. Члены его обязаны поститься; они должны вставать и начинать молитву до восхода солнца ранее других монахов; они могут есть только однажды в сутки и притом умеренно; никогда не должны ходить толпой или попарно, но всегда один за другим, и притом никогда не оглядываться по сторонам. Плащ свой они носят несколько иначе, чем другие монахи. Из двух последних орденов могут являться хубилианы. Переход из одного отдела в другой возможен только в восходящем порядке; из высшего ордена в низший переходить не дозволяется.
Маленький лама впадает на этот счет в ересь; он уверяет меня, что высший орден не Джютба, а Чорова. «Хороший Чорова, – восторженно говорит он, – сидя в Гумбуме, может представить себе весь мир, и Сумбер-Олу, и все другие горы и реки!»
Когда я, в доказательство превосходства Джютбы, указывала ему на то, что туда не принимают малолетних, он возражал мне: «Это потому, что такие дети, как я, не могут вставать по ночам на молитву, а Джютба собираются в хурал ночью».
Понятие о важном значении Чорова выработалось в Гумбуме, вероятно, потому, что власти преимущественно избираются из этого ордена. Притом самый маленький лама ордена Чорова садится выше, чем старый из простых лам.
Здешние монахи все носят пунцовое платье совершенно особого покроя. Внизу белая юбка, сверху красная, придерживающаяся на бедрах поясом; торс прикрывается безрукавым камзолом, который называется ренкыг, руки и шея остаются открытыми. Стан стягивает широкий кушак из грубой желтой материи. Сверху этого накидывается кусок пунцовой материи аршин в пять длиной и в два шириной. Как бы сильно холодно ни было, ламы осуждены кутаться в одно это одеяло, – ни шубы, ни панталон монастырский устав им не разрешает. Богатые имеют свое одеяние из грубого сукна, а бедняки осуждены мерзнуть в тонких бумажных тканях. Часто одежда лам состоит из лохмотьев и заплат. Сшить новую одежду нужно много денег, а они не всегда водятся у лам.
Нагота рук и шеи лам не бросается в глаза, так как цвет тела, под влиянием воздуха и толстого слоя грязи, обыкновенно покрывающей руки простых лам, совершенно изменил их цвет.
Идя в хурал к богослужению, ламы надевают желтую мантию и желтую же шапку в виде фригийского колпака. К поясу в таких случаях всегда подвешивается карман, в котором висит сосуд со святой водой, это – необходимая часть костюма при богослужении.
Многие путешественники высказывают мнение, что ламы – ленивые дармоеды, живущие на счет работающих членов общества. Едва ли это справедливо в общем. Сколько мы видим лам в здешних монастырях, это все народ – работящий и ремесленный. В монастырях, кроме художников, занятых изготовлением рисованных и лепных работ, есть также столяры, портные, сапожники, работающие на заказ. Из них одни лишь особенно искусные художники живут безбедно, остальные едва-едва имеют приличное платье и живут, большею частью, впроголодь. Богатые ламы, правда, занимаются часто торговлей, это, по-видимому, не считается предосудительным, но для этого надо иметь капитал. В Гумбуме от монастыря выдается рядовому ламе лишь 12 шенов в год ячменя, принадлежащим к какому-нибудь ордену – 15 шенов, но этого недостает на год. Между тем, кроме дзамбы, которая приготовляется из ячменя, надобно иметь чай и, хотя изредка, мясо и другую приправу к еде, не говоря уже о платье, которое лама тоже обязан сделать на свой счет.
Деньги, жертвуемые в монастырь, в большинстве случаев идут на монастырские постройки и на пополнение их храмов статуями и священными сосудами. Ламам раздают деньги лишь в том случае, когда жертвователь прямо дает свое пожертвование в пользу лам. Да и тогда деление производится неровно: старшие получают две-три доли, а младшие – одну.
А между тем, мне кажется, сословие лам не лишено культурного значения. Грамотность сохраняется в монастырях, там книги печатаются, списываются и переписываются ламами; ими же передаются изустные легенды и рассказы морализующего свойства.
Паломничество, знакомя лам с разными странами и обычаями разных народов, расширяет их кругозор. Лама-паломник вместе с рассказами о разных чудесах и святынях, виденных им, знакомит своих соотечественников с географией и этнографией тех стран, которые довелось ему посетить. В Халхе воспитание молодого поколения, главным образом, в руках лам.
Зажиточные монголы берут в дом ламу, чтобы обучить своих детей грамоте, иногда отдают мальчиков в монастыри. Конечно, жаль, что ламы мало изучают родную монгольскую литературу; книги, пользующиеся уважением лам, написаны на книжном тибетском языке, но здесь, в тангутских монастырях, эта разорванность учения от жизни не так велика. Религиозные или ученые состязания идут в монастырях на языке разговорном – монгольском или тангутском; чамы, или религиозные пляски, хотя обыкновенно бывают лишь чисто мимическими представлениями, без речей, сопровождаются обыкновенно изустными комментариями присутствующих и потому не пропадают бесследно для поучения зрителя.
В половине февраля нового стиля здесь праздновали новый год, но в Гумбуме более празднуется последний день этого праздника – 15-е число первого месяца. За день до Нового года (т. е. до 1 числа 1-й луны) был чам, т. е. религиозные пляски и сожжение соров, из каждого отдела, или ордена, из которых состоит Гумбумское монашество, из храма выносили особым образом испеченный хлеб, положенный на поднос, убранный разными украшениями, между которыми непременно должно было быть изображение мертвой головы; иногда эти украшения составляют пирамиду в сажень высотой, – ламы сопровождали соры с музыкой, под балдахинами, с знаменами; все соры собрались на площади, где был приготовлен соломенный костер. Здесь, среди огромной толпы народа, начались пляски лам в масках; затем маски разрубили соры и бросили в огонь. Мы смотрели на это с кровли дома одного из лам, так что толпа не беспокоила нас.
К 15 числу Гумбум наполнился богомольцами; в каждом дворе были приезжие родственники и знакомые лам; 18 числа был опять большой чам, внутри двора самого большого храма. Зрители сидели на лестницах, ведущих в здания, окружающие двор со всех сторон, и на дворе по краям, а также на кровлях, где можно; хамбу-лама, т. е. настоятель Гумбума, сидел против храма на галерее противоположного здания, на высоком кресле, в парчовых облачениях; это был гэгэн (по имени Джая-гэгэн), еще молодой человек, лет 26; все время, казалось, он был неподвижен, как статуя. Маски, выходя парами из храма, медленно с пляской подвигались к нему и делали поклоны; затем двигались дальше, также медленно описывая круг. Пляшущие ламы все были в уродливых масках, две были с головами быков, две с оленьими и еще четверо мальчиков с оленьими головами и четверо мальчиков с мертвыми головами, у последних с обеих сторон головы приделаны были лопасти, должно быть, изображающие крылья бабочки; маски эти так и называются «бабочки», эрбекэ по-монгольски; скорее они должны быть названы скелетами, – пальцы у них были удлинены, на груди разделаны ребра, не говоря уже про мертвую голову.

Главная маска представляла быка с огромными фигурными рогами. Это бог Чойчжиль. Были также и две комические маски с человеческими, но карикатурными лицами; они забавляли публику, в то же время раздвигая толпу, стесняющую арену; их роль была служебная: они выносили ковер, кресла; имя их – азнрга. Между прочим, они под руки вывели из храма маску, представляющую дряхлого старика с огромной лысой головой, за полы его халата держались четверо маленьких детей с пучками волос на висках бритой головы, как это мы обыкновенно видим на китайских рисунках. Старика усадили в кресло, около него расположились дети, семья эта возбуждала смех в окружающей публике; замечательно имя этого старика. Его называли Кашин-Хак по-монгольски и Кашин-Джаву, или Гомбу, по-тангутски. Джаву – то же, что хан, Гомбу равносильно монгольскому нойон, или князь. Кашип некогда в монгольском языке значило тангут, так что в переводе это будет тангутский хан; но название это, встречающееся только в книгах, уже неизвестно в народе. Эта же фигура в чаме встречается в Ордосе; в Хами, кажется, ее нет.
Одежды на маскированных были богаты, шелковые сапоги – не обыкновенные здешние, а мягкие белые; плясали стройно, хотя и медленно и не всегда удачно, благодаря тому, что двор был выстлан булыжником. Фигуры маленьких оленей совершенно подражали в своих движениях шаманам и, ставши на колени перед хамбу-ламой, они, я думаю, с полчаса, не переставая, размахивали своими ветвистыми головами, точно так же, как это делают шаманы. После этой пляски они разрубили на части какую-то фигуру, заранее положенную на ковре среди двора; фигуру эту называют лянга или лянка.
Ламы занимали галерею, противоположную храму; они сидели на ковриках по обе стороны хамбу-ламы; непоместившиеся на галерее сидели на дворе внизу; перед почетными лицами стояли столики с лакомствами; на кровле над ними и на паперти храма помещались музыканты с трубами и с медными тарелками. Правое крыло двора, считая от хамбу-ламы, тоже было занято в центре креслом другого важного гумбумского гэгэна (Аджа-гэгэна), юноши лет 16, и окружающими его ламами, а ниже и по сторонам – публикой. Нам тоже были поставлены скамьи на этой стороне и ставились столики с лакомствами; но так как было очень тесно, то столы убрали, и у самых наших ног на лестнице уселись тангуты, тангутки, монголы и монголки; верхние ряды блистали своими шелковыми шубами и богатыми шапками; внизу публика была попроще, в нагольных шубах.
От времени до времени Гецкуй, полицеймейстер Гумбума, как мы его называем, высокий лама-тангут, вооруженный огромным жезлом (четырехгранной палкой), украшенным позолотой и лентами, раздвигал теснившуюся публику. Из-под его оркимджи, суконной по положению, выглядывала парчовая дорогая безрукавка; за ним, в качестве помощников, ту же историю проделывали и другие власти Гумбума. Эти власти в Гумбуме выборные, они заведуют полицейскими с хозяйственными делами, избираются на три года и утверждаются хамбу-ламой. Хамбу-лама, ведающий дела духовные, также избирается на три года, но выбор ограничен: можно избирать лишь гэгэнов, да и то не всех, а более важных и известного возраста. Своего преемника, избранного монашеством, утверждает также хамбу-лама. Говорят, что многие отказываются от этой чести, так как надо быть богатым, чтобы с честью держаться на этом посту.
15-го числа в Гумбуме был большой съезд из окрестностей и из Южной Монголии: в этот день вечером, по закате солнца, бывает выставка масляных барельефов, известных у тангутов под именем Чоба, а у монголов Чечек – «цветок». С утра в монастыре началось оживление, а около него устроилась ярмарка, – купцы раскинули по степи палатки или разостлали циновки и разложились с товаром; из Синина приехал шотландец, продающий св. писание на языках китайском, тангутском и монгольском, член китайской внутренней миссии. Был торгующий и сарт из Хами; китайских купцов я уже не считаю. Разноплеменная толпа беспрестанно бродила из китайской слободы в монастырь и обратно, вдоль узкой улицы, образовавшейся из торговых палаток.
Когда совсем стемнело, за нами прислали лам с фонарями и повели смотреть Чоба. Наш Сандан Джимба сказал, что надо взять с собой денег. Около главного храма стояла толпа и любовалась на огромные щиты, ярко освещенные; щиты эти состояли из черных досок, на которых очень искусно, в китайском вкусе, были вылеплены из сала или масла фигуры и рисунки. Первый щит представлял треугольник сажени в четыре высотой; центральное место занимала фигура Далай-ламы, красивого молодого человека, благодушно улыбающегося; в одной руке у него был цветок, другая как бы благословляла; корона и богатые одежды были те же, что на бурханах; его сапоги поддерживали маленькие китайские амуры; на раме, окружающей фигуру ламы, были барельефом представлены сцены из жизни богов, вершина треугольника составлена из 18-ти медальонов; в каждом был один из бодхисаттв. Этот главный щит окружали занавесы, на которых представлены были целые ряды конных фигур, вся эта картина называлась «Царь Дорджитат» (т. е. царь Индии), и на занавесах, должно быть, изображены были его войска.
Занавесы были подняты так, что толпа могла ходить, не задевая за них головами. Перед щитом была лестница, уставленная рядами масляных лампочек, верх освещался фонарями. После осмотра этого барельефа, нас повели в палатку тут же на улице и предложили чаю. Кроме нас, в ней никого не было, но на полу перед главным сиденьем лежало несколько связок чохов, положенных каким-то нашим предшественником; тут же и мы положили свои чохи. Отсюда пошли дальше, налево, огибая здания большого храма; здесь был целый ряд небольших щитов, выставленных разными отделениями монахов; у всех у них был общий характер, но фигуры были уже другие, так же как и окружающие их сцены. На одном или двух щитах мелкие фигуры двигались, приводимые в движение нехитрым механизмом, что, конечно, доставляло большое удовольствие невзыскательной публике. Всех щитов было пятнадцать; они со всех сторон окружали храм; между ними был еще один большой, принадлежащий тангутской партии монахов; впрочем, главным художником в этой работе был северный монгол, живущий на нашем дворе; щит, с которого мы начали описание Чоба, принадлежал монгольской партии, и художники в нем были исключительно широнгол-монголы.
Благодаря мягкому материалу и некоторой свободе относительно замысла, фигуры эти обладают большею живостью, чем другие буддийские скульптурные работы. Каждый год в Гумбуме бывает такая выставка лепного искусства, картины каждый год меняются, на них обыкновенно изображаются сцены из религиозных легенд, содержание некоторых, по-видимому, нигде не записано, а живут они в памяти художников и передаются в народе изустно. До полночи толпа ходила по Гумбуму; затем огни были погашены, щиты сняли, масло с досок соскоблили и сложили в одно место, доски в другое и в несколько часов уничтожили работу целых месяцев, работу нескольких десятков художников. Верующие буддисты покупают это масло, считая его целебным.
Всех праздников в Гумбуме пять: 1) в первой луне 14-го числа – чам, 15-го – выше нами описанная Чоба; 2) в четвертой луне 14-го числа – чам, 15-го выносят из «Золотого храма» огромную икону с изображением божеств Томбы, Цзонкавы и Чанрези и расстилают на горе по земной поверхности; 3) в шестой луне 6-го числа – чам; 4) в девятой луне 22-го числа выставка клейнодов, подаренных императором седел и пр.; 24 числа той же луны – чам; 5) в двенадцатой луне 29-го числа – чам, описанный нами выше.


