Книга: Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках
Назад: Глава 1. Кто такая Баба Яга
Дальше: Глава 3. Снегурушка. Весенняя инициация
Глава 2. Морозко. Зимняя инициация

Испытание снегом
«Морозко» остается одной из самых популярных зимних историй русскоязычного пространства на протяжении уже многих лет. Но сказка вызывает много вопросов. Почему старик так безропотно отвозит в лес родную дочь? Почему мачеха отправляет на мороз и свою родную дочь, зная, что она может не вернуться живой? Почему главная героиня, даже замерзая, не пытается согреться?
В сказке мы видим семью – старика и старуху с дочерями от прошлых браков. В один день мачеха решает, что старикову дочь надо отвезти в лес и оставить на лютом морозе, и муж ей никак не препятствует. На первый взгляд мачеха желает смерти стариковой дочери. Но почему? Лишившись падчерицы, старуха была бы вынуждена работать за троих и выполнять абсолютно всю женскую работу в доме, тогда как сама она уже немолода, а ее дочь ленива.
В сказке «Морозко», как и во многих других, до нас доносятся отголоски древних ритуалов и обрядов. Эта история рассказывает об обряде инициации, причем о женской, которая возникла раньше мужской. Сама сказка древнее многих других подобных историй, поскольку девушек отправляют просто в лес: нет даже ритуального дома – привычной избушки, и сам обряд проходит под деревом.
Чтобы считаться взрослым в современном обществе, человеку достаточно стать совершеннолетним. В архаическом обществе путь к взрослой жизни был сложнее. Начинался он с наступления половой зрелости, и без разницы, в каком возрасте это произошло: в 11, 13 или 15 лет. После этого неофита подвергали испытаниям, чтобы он мог доказать, что он… человек. И дело здесь не в доброте или благородстве – это современные трактовки слова. Инициация требовала от неофита доказать, что он не животное, не зверь. Он должен был пройти испытания, не дав воли звериным инстинктам.

Иллюстрация Ивана Панова к сказке «Морозко».
Российская государственная библиотека
Детали испытания и их длительность могли различаться в зависимости от сезона или региона. Например, зимой неофитов испытывали морозом, а летом – жаждой и голодом при изобилии еды. После прохождения человек получал метку, например знак на коже. Однако в некоторых обществах было принято отрубать мизинцы или выбивать клыки. Нам неизвестно, какую метку и каким образом получила старикова дочь, но она выжила и вернулась домой, а значит, инициацию прошла успешно.
В свете всего этого образ старухи уже не выглядит таким зловещим. Мачеха просто понимает, что у падчерицы начались менструации, следовательно, ей необходимо пройти инициацию. После этого девочка будет считаться взрослой, сможет выйти замуж, иметь детей, полноценно участвовать в делах и обрядах рода. Естественно, муж ей не противоречит и покорно везет свою дочь в лес.
Старикова дочь сидит под деревом и начинает замерзать. Позднейшие пересказы делают акцент на том, что она плохо одета, а в северных вариантах сказки девушка и вовсе сидит босой, в одной рубашке без опояска. Она знает, для чего прибыла в лес, поэтому ведет себя правильно: отрицает в себе звериные инстинкты, не пытается согреться, даже подавляет в себе желание взвыть, когда мороз становится сильнее.
По сюжету одной из афанасьевских сказок старик, оставив дочь, набирает в лесу хвороста, но не возвращается к ней, не разводит костра, не пытается ее согреть. Он знает, что его дочь проходит посвящение в люди и потому отправляется домой. Для него, для семьи, рода и общины она временно умерла, ушла в мир мертвых и либо вернется взрослой, либо не вернется вовсе…

Двор с санями. Картина Тита Дворникова. 1900 г.
The National Museum in Warsaw
Почти окоченевшая девушка слышит: «Тепло ли тебе, девица?» – и это не издевательство, а часть ритуала. Ее ответ: «Тепло, Морозушко» – это не ложь и не выражение покорности. Это демонстрация того, что прямо сейчас девушка отвергает инстинкт самосохранения. Словесная формулировка здесь необходима: происходит переход из отроческого состояния во взрослое, после чего человек получит право на слово, которое теперь будет учитываться – на совете племени или общины, в семье, во время ритуальных действий.
Современному человеку сложно понять, к чему такая суровость. Исследование Софьи Агранович показывает, что инициационные испытания, в этом случае морозом, для архаической женщины были своеобразной школой, где она получала знания о существующих в ее обществе табу, в частности о половых запретах и о чувстве стыда. А это не что иное, как зарождавшееся в архаике понятие нравственности, которое закладывалось и воспитывалось через ритуал.
Ритуал позволял прожить и прочувствовать то, что случится при нарушении табу, но что еще невозможно было передать одними словами. В сказке во время беседы с Морозко падчерица «едва дух переводит», «уже окостеневать стала», «чуть-чуть (с трудом. – О. Я.) говорит», но взаимодействует с тем, кто проводит инициацию, правильно – и это спасает ей жизнь. Испытание, заставившее ее застывать от мороза, дало ей понимание страха, которое могло трансформироваться в стыд при неблаговидных действиях. С помощью ритуала инстинктивный страх превращался в иррациональный, чтобы человек испытывал ужас при нарушении табу, а затем – в стыд, привитый обрядом перехода.
Как уже отмечалось выше, постепенно инициацию заменили христианские обряды, но ее отголоски на Русском Севере сохранялись в бытовых деталях. Например, в Вологодской области существовал ритуал первой кудели. Первый клубок ниток, спряденный девочкой из самой грубой кудели, бросали в печь (причем делала это бабушка). Пока клубок горел, девочка должна была сидеть «голым задом» в снегу. Считалось, что такой урок поможет ей хорошо делать свою работу и прясть тонкую нить, то есть вести себя правильно, как того требовало крестьянское сообщество. В печи также сжигали тряпочку-прокладку, которую девочка использовала при своих первых месячных. Саму девочку – либо мать, либо старшие сестры – сажали на снег, и она находилась на холоде, пока ветошь не сгорит полностью.
Инициация на морозе нашла отражение в языке. Софья Агранович и Евгений Стефанский доказывают, что слова «стужа» и «стыд» произошли от одного корня. Этимологически однокоренными могут считаться «мороз» и «мерзкий» (в значении «неправильный», то есть отвратительный для человека при знании социальных запретов).
В Рязанской области еще в 1930-е годы на Святки ряженые ходили по избам, где проводили посиделки. Там они щипали девушек, плясали с ними, а перед тем, как отправиться в другие дома, выволакивали во двор тех, что на выданье. Там «деды» задирали девушкам подолы и натирали им снегом между ног. Ряженые воспринимались как предки, а их действия – как часть святочных игр, которые должны обеспечить счастливое замужество. Любая девушка, выведенная таким образом на мороз, испытывала стыд, но подобные манипуляции не считались зазорными.
Олег Трубачев сопоставляет глаголы «знобить» (дрожать от холода или простуды) и «зябнуть» (мерзнуть) с существительными «зима» и «зябь» (поле, распаханное с осени для того, чтобы засеять его весной). И все эти понятия он связывает с индоевропейским корнем – gen- – «рождаться», «быть рожденным», «прорастать», «давать ростки». В контексте обряда перехода мы видим второе рождение человека, который уже сам готов дать потомство.
Можно вспомнить также глагол «колотить», имеющий два значения: «дрожать от сильного озноба» и «бить». Этнографические исследования обычаев Полесья дают такой пример: когда у девочки обнаруживались первые менструации, мать ее обязательно била. Это пережиток инициации – обычай, при котором старшая женщина причиняет боль младшей, после того как та достигает полового созревания. Само действие сохранилось, а вот смысл его уже давно был утрачен.
Сказка «Морозко» интересна уже тем, что мы видим в ней сразу несколько женских инициаций: две, а иногда три девушки пытаются стать полноценными членами своего общества, но проходит обряд только одна из них. Мачехина дочка (либо две дочки, как в другом сюжете) погибает. Причина кроется в том, что во время испытания она ведет себя неправильно: хлопает руками, чтобы согреться; пускается в неподобающие месту и случаю разговоры, что считалось недопустимым.
В смягченных пересказах сюжета никто не погибает. Старикова дочь получает богатое приданое, то есть возможность хорошо выйти замуж, а старухина – антиприданое и осмеяние, то есть знак, что хорошего брака ей ожидать не стоит.

Аллегория зимы. Картина Леона Камира Кауфмана.
The National Museum in Warsaw
Что за приданое получает падчерица? По сути, ни в одной архаической культуре никто, пройдя инициацию, не получал материальное приданое. Они обретали право на брак. Именно на это указывает тявканье собачки: «Старикова дочь в злате-серебре едет, а старухину дочь никто замуж не берет». Первая девушка получила право на брак, а старухина, еще не пройдя посвящение, выйти замуж не может.
Со временем порядки изменились: теперь у девушки с большим материальным приданым повышались шансы удачно выйти замуж. В крестьянской среде под этим подразумевался брак с молодым человеком и крепким хозяином, а неудачей считалось соединить жизнь, к примеру, с больным или вдовцом. Под влиянием этого изначальный сюжет изменился. Падчерица получает уже богатые дары от Морозко: сундуки с добром, коней и прочее.
Игры со смертью
В схожей с «Морозко» сказке «Дочь и падчерица» сводные сестры по очереди попадают в некую землянку, где должны прясть. Но ночью туда приходит медведь и предлагает поиграть с ним в жмурки. Для героинь это была игра с самой смертью. В сказке остался отголосок ритуала, чей исход предсказать было невозможно.
До наших дней дошел безопасный вариант жмурок: одному человеку завязывают глаза и он, ориентируясь на звук, ловит в комнате других участников. Само же действие известно человечеству с первобытных времен, когда оно еще не было детской игрой, как и многие другие.
Прятки символизировали детско-подростковый период (в крестьянской среде имелся в виду возраст 7–12 лет) и проводились с Благовещения до Пасхи. Их можно сравнить с инициальным состоянием «слепых неофитов», когда ведущий и игроки не видят друг друга. Жмурки, в свою очередь, символизировали совершеннолетие, и играли в них с Пасхи до Дня апостолов Петра и Павла. Среди играющих были незрячий ведущий, изображающий умершего предка, и остальные, которые его видят. Но тот, кто попался в руки ведущего, переходил в разряд символических покойников: он приобщался к миру предков, то есть таким образом проходил возрастную инициацию. Стоит также заметить, что в жмурки играли не только во дворе или в доме, но и на погосте, что считалось вполне уместным. В разгар лета начиналась игра в горелки (разновидность догонялок), которая свидетельствовала о половой зрелости участников и их готовности вступить в брачные отношения.

Дети играют в прятки. Гравюра Жана-Оноре Фрагонара. 1881 г.
Wellcome Collection
В некоторых вариантах истории девушки в лесной избушке варят медведю кашу, и это не бытовая деталь. Момент, когда девушка обнаруживает в узелке с провизией пепел вместо муки, а вместо крупы – опилки, демонстрирует вовсе не издевательство мачехи. На самом деле он восходил к запрету вкушать пищу во время посвящения. И действительно, мачехина дочка, у которой еда была настоящей, инициацию не прошла.
Приготовление каши по приказу медведя, когда девушка сначала толчет просо, а потом варит его, присутствует в разных сказках и, по мнению Татьяны Александровны Бернштам (1935–2008), имеет глубокий символический смысл. Его можно истолковать по игровой культуре восточных славян.
Толчение проса – это символ зарождения жизни; в «Просо сеяли» девичьи группы играли с Благовещения и до Троицы (или до Рождества пророка Иоанна Предтечи), как бы воспроизводя собственное рождение и рост. Игра была частью аграрной магии, и ее воспринимали всерьез, ведь она представлялась особой силой, способной дать жизнь побегам и росткам.
С летнего солнцестояния начинались обряды «поспевания», когда выращенное просо наливалось, зрело. Девушки собирали во всех дворах деревни крупу (рожь, просо), толкли ее, потом варили кашу, обходили с ней поля, что должно было стать порукой хорошего урожая, а затем угощали ею парней. «Кашей» в свадебных обрядах называли проводы молодых на постель: их кормили пересоленной масляной кашей, а горшок, в котором она готовилась, разбивали о печку, говоря: «Сколько черепков, столько и детушек».
То, что героиня толкла просо и варила кашу в лесной избушке, свидетельствует о достижении ею половой зрелости и готовности к роли жены и будущей матери. То, что в подобных условиях проходила инициация, может подтвердить песня, записанная в Курской губернии:
У меня, молоденькой, мати не родна,
Мати не родна, мачеха злая.
Шлет меня мати в темные лесы,
В темные лесы, в пустую-то избу,
В пустую-то избу сыру рожь молотити.
А я сито смолола – куры не пели,
Я другое смолола – куры не пели,
А я третье смолола – куры не пели…
Как идет ко мне мати черна, велика,
Черна, велика, косматые ноги,
Косматые ноги, железные роги,
Нос окованный, хвост оторванный…
Приготовив кашу, девушка не ест ее, соблюдая табу на прием пищи, но по просьбе мышки кормит ее, даже если это вызывает гнев медведя. Момент кормления мыши часто встречается и в сказках, где девушка попадает в избушку Бабы Яги: там мышка учит ее, что делать дальше. А в случае с медведем даже заменяет ее во время опасной игры: бегает с колокольчиком, уворачиваясь от бросаемых в нее предметов.
От Мороза к Бабе Яге
Сказка, будучи элементом культуры, никогда не говорит об инициации напрямую. Все действия героев она объясняет через восприятие человека позднейших веков: козни злой мачехи, безволие старика, доброту главной героини, лень и грубость мачехиной дочери. Архаическое понимание сказки размывается, на сюжет наслаиваются элементы нового исторического и социального контекста.
В XVIII веке сказки обрели мораль, а в XIX веке появились авторские педагогические сказки, например «Мороз Иванович» Владимира Одоевского (1804–1869), основанная на сюжете «Морозко». У его героинь говорящие имена: Рукодельница и Ленивица. Соответственно, первая добра, послушна и трудолюбива, чего нельзя сказать о ее сестре, обладающей противоположными качествами. Живут девочки с нянюшкой, и та, хотя знает о характере каждой из них, все-таки отправляет Рукодельницу доставать утопленное ведерко из колодца. Благодаря своим трудам у Мороза Ивановича она получает в награду «пятачки и брильянтик для косыночки». Ленивица же, не прослужив у старика положенного времени, получает не награду, а насмешку – растаявшие дома дары.
У Одоевского еще упомянуты колодец, служба в чужом доме, окостеневшие от холода пальцы Рукодельницы, но все позитивные перемены объясняются послушанием, доброжелательностью и стремлением помочь другим, а негативные – ленью, капризами, грубостью и высокомерием.
Мороз Иванович перешагнул страницы детских книг и превратился в доброго Дедушку Мороза, без которого в наши дни немыслимы новогодние праздники. Впрочем, в зимние каникулы которое десятилетие идет фильм «Морозко» (1964), где женский сказочный сюжет отошел на второй план, уступив место «перевоспитанию» мужского персонажа.
Взаимодействие с батюшкой Морозушкой через обряд у крестьян сохранялось до начала ХХ века. Перед Рождеством старший мужчина в семье выходил на порог – или выглядывал в волоковое окно, если изба была курной, – и предлагал Морозу кисель или кутью, приговаривая: «Мороз, Мороз, приходи кисель есть; Мороз, Мороз, не бей наш овес». Таким образом один за другим перечислялись все злаки. На Крещение ему жертвовали рассыпанный горох со словами: «Ешь, ешь, Мороз, зимой, а не весной». И то и другое действия связаны с обычаем кормления предков-покойников, чтобы задобрить их и с их помощью получить хороший урожай.
История помнит и более суровые ритуалы, как те, что описаны в «Саге об Инглингах». Во время голода в Уппсале в жертву приносили сначала быков, затем людей. На третий год жители пришли к выводу, что в неурожае виноват конунг Домальди, и на тинге было решено, что именно он должен стать следующей жертвой богам. В середине зимы (Jul), когда по обычаю приносилась жертва для успешных весенних всходов, Домальди был умерщвлен. Легенда легла в основу сюжета картины Карла Ларссона (1853–1919) «Зимняя жертва» (шв. Midvinterblot).

Фрагмент картины Карла Ларссона «Зимняя жертва».
Per-Åke Persson / Nationalmuseum
Теперь давайте вернемся к исходной сказке, ведь «Морозко» содержит еще одну загадку. Женская инициация возникла раньше мужской, обряд инициации всегда проводила только женщина, независимо от пола неофита (в поздних интерпретациях ее заменял мужчина, переодетый женщиной). Почему же здесь мы видим персонаж мужского пола?
Имя Морозко не позволяет нам сделать однозначных выводов. Это имя по своему звучанию может быть как мужским, так и женским. Более того, славянская мифология знает мужские персонажи с именами, заканчивающимися на гласную: Ярило (Ярила), Купало (Купала).

Замерзшая. Литография К. Крыжановского по картине Г. Седова.
The National Museum in Krakow
Но известны и другие сказки с идентичным сюжетом. Падчерица по воле мачехи отправляется в потусторонний мир, где царят холода. Прослужив положенный срок в «царстве мертвых» и пройдя инициацию, девушка с приданым возвращается домой. Мачехина дочь, пытаясь повторить ее путь, возвращается с антиприданым и подвергается осмеянию.
Это сюжет гессенской сказки, пересказанный братьями Гримм, – «Госпожа Метелица». Госпожа Метелица – хозяйка потустороннего мира, ее имя связано с холодом, зимой и мертвыми, а также с весенним возрождением земли. Считалось, что солнечный свет падает на землю, когда она расчесывает свои волосы. Пух и перья, которые летят из подушек и перин госпожи Метелицы, когда их взбивают, символизируют снег, об этом напрямую говорится в сказке, но вместе с тем они отсылают читателя к более древнему персонажу – лебединой деве Перхте. Девушки, взбивающие перину госпожи Метелицы, как и героиня «Морозко», страдают от холода. И, что особенно важно для нас, госпожа Метелица – персонаж женского пола.
Образ госпожи Метелицы, или фрау Холле, очень стар, но основные его черты восходят к эпохе переселения народов. Истоки миграционных процессов объясняют разделение образа на несколько разных персонажей: госпожу Метелицу, Перхту и Бабу Ягу. Об их очевидной схожести писал еще Александр Потебня (1835–1891) в середине XIX века. Все они выполняют одну и ту функцию: служат Великой Матери. При этом проведение женской инициации было частью этого служения.
Холле стояла во главе германско-скандинавского пантеона божеств наряду с Одином. Считалось, что она научила женщин добывать нити изо льна, прясть и ткать. Как и Перхта с Бабой Ягой, госпожа Метелица берет к себе души детей, умерших до прохождения инициации. Ее дни, как и дни Перхты, приходятся на самую середину зимы, что в христианстве соответствует Янтарным дням, или Святкам: периоду от Рождества до Крещения. Благодаря ее заботам появляются весенние всходы, ведь плодородие почв обеспечивают именно покойные, ушедшие под землю, – и она сама в том числе. Образ госпожи Метелицы тесно связан с колодцами и водными источниками; и существовало устойчивое поверье, что женщины, которые окунулись в любой из ее родников, будут здоровыми и дадут многочисленное потомство.

Иллюстрация Уолтера Крейна к сказке «Госпожа Метелица».
Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm; Crane, Walter [illustrator]. Household Stories by the Brothers Grimm, 1882 / Wikimedia Commons
Епископ Бурхард Вормсский (965–1025) в своих трудах упоминал оставшееся в народной памяти предание о том, что в ночь «дикой охоты» женщины могут присоединиться к свите Холле и летать на животных. По сути, таким образом любая женщина приравнивалась к ведьме. Впрочем, еще в XIII веке в Вормсе – центре политической жизни Священной Римской империи германской нации – ее образ в сознании людей сливался с образом Богородицы. В канун Рождества ей накрывали стол и молили ее о помощи в каждом деле.
В русском фольклоре есть сказки, сюжеты которых до мелочей похожи на сюжет «Госпожи Метелицы»: упоминавшаяся выше сказка «Две сестры» и «Девушка в колодце». В «Двух сестрах» уже появляется Баба Яга как человек, проводящий инициацию. А «Девушка в колодце» сохраняет в себе отголосок матриархального уклада. Здесь главная героиня, прошедшая инициацию, сама выбирает себе жениха: «…за крестьянина не пошла, за дьячка не пошла, за барина не пошла, за дворянина не пошла, а посватал Иван-царевич, за него пошла».
Колодец и веретено
«Госпожа Метелица», «Девушка в колодце» и «Две сестры» – сказки более позднего периода по сравнению с «Морозко». Здесь уже есть ритуальный дом, и главные героини некоторое время после прохождения инициации живут в нем у Бабы Яги. Здесь же упоминаются веретена, и сказка обрастает не только символами, но и подробностями о порядке посвящения.
Веретено неразрывно связано с нитями и с работой над своей судьбой. И поговорка «Знай гребень да веретено» в эпоху матриархата не имела уничижительного смысла: знать, как управляться с этими предметами, было жизненно важно. В руках хозяйки гребень мог превратиться в лес – непреодолимое препятствие для ее преследователя. Он служил защитой и оберегом, даже если бросить его на землю. Веретено же помогало выстраивать непрерывную и ровную линию судьбы, а работа за прялкой символизировала создание и обустройство собственной жизни.
В сказках девушки нечаянно или намеренно роняют в колодец свои веретена и отправляются за ними следом, однако на дне ничего не находят, а вместо этого попадают в иной мир. Впрочем, в финале повествования они все же получают свои веретена – уже из рук Бабы Яги. Только у одной девушки оно стало золотым, что вполне можно интерпретировать как особую судьбу, хорошую Долю и вместе с тем заступничество предков, а у другой оно так и осталось деревянным, даже вымазанным в смоле, что сулило лишь бесчестье.
В сказках колодец предстает вратами в потусторонний мир, где царствует Великая Мать или ее наместница – Баба Яга. Он уходит глубоко под землю и связан одновременно с родниками и предками. В пространстве «колодца» девушки проходят ритуалы, связанные с дальнейшим плодородием.
Этнографические экспедиции в Полесье зафиксировали, что женщины пугали детей бабой, которая живет в колодце. Кажется, что логичнее было бы «поселить» там водяного или какое-то другое существо, связанное с водной стихией. Но из сказок мы помним, что часто вход в царство Бабы Яги связан именно с колодцем.
В патриархальной традиции колодец остался особым местом. Можно привести в пример библейский рассказ об Иосифе в сухом колодце и его испытаниях, которые привели к отлучению от земли предков. В кельтских мифах тела погибших погружали в магический колодец, а бог Диан Кехт вместе со своими детьми пел особые заклинания, которые возвращали мертвых к жизни. Правда, после воскрешения те оказывались лишены дара речи, то есть в архаическом понимании не были людьми.
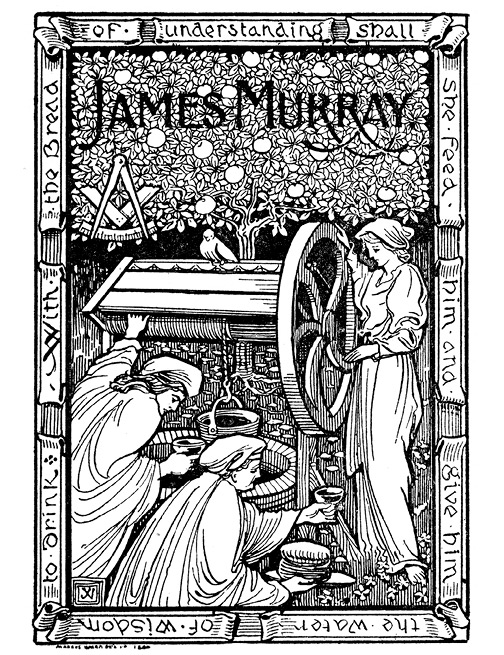
Экслибрис британского лексикографа Джеймса Мюррея с изображением колодца мудрости.
The National Museum in Warsaw
В V веке в Ирландии была письменно зафиксирована легенда с элементами мифа о встрече правителя Ниалла с некой отвратительной старухой. Ниалл с братьями выехали на охоту и через некоторое время захотели пить. Они нашли колодец, но его охраняла старуха, которая потребовала поцелуй с каждого в обмен на воду. Братья с отвращением отказались, и только Ниалл принял ее условия. В итоге старуха превратилась в красивую девушку, которая на его вопрос о том, как ее зовут, ответила: «Власть». Со временем Ниалл стал королем всей Ирландии. В этой легенде есть и колодец, и встреча с женским божеством, способным менять свой облик, и правитель, который благодаря ей обретает власть.
Обеспечивать дом водой, то есть носить ее из колодца, было женской работой, поэтому пространство вокруг него также считалось женской территорией. Чтобы увидеть своего суженого во сне, девушка закрывала на ключ навесной замок над отверстием колодца, а ключ прятала под подушку. Был и другой вариант этого рождественского гадания: девушка делала из спичек маленький колодец и клала его под изголовье кровати или под подушку. Считалось, что ей непременно приснится будущий муж: он будет просить отдать ему ключ, потому что ему нужно либо напиться самому, либо напоить лошадей. Такой колодец, упоминаемый в гаданиях владимирских крестьян, всегда имел эротический подтекст и указывал на готовность девушки к брачным отношениям.
Таков и смысл песни, изданной еще в песеннике 1780 года:
Как у ключика у гремучего,
У колодезя у студеного
Добрый молодец сам коня поил,
Красна девица воду черпала…
…У меня ль, у красной девицы,
Ни отца нету, ни матери…
Ни того ли то мила друга,
Как мила друга полюбовника!
Песня с этим зачином упомянута в романе Вячеслава Шишкова (1873–1945) «Емельян Пугачев», и автор показывает, какие чувства она вызывает: «Старинная русская песня своим словесным складом и величием напева всех очаровывала, будила в сердце давно забытое, родное. …Старушки устремляли усталые глаза вниз, жевали губами, вздыхали. Влюбленные девушки и молодые люди брались за руки, смотрели друг другу в глаза, как в волшебное зеркало, и, внимая песенным голосам, таинственно улыбались».
Если обратиться к фольклору, то можно вспомнить богатыршу Синеглазку из «Сказки о молодильных яблоках и живой воде» в обработке Алексея Толстого (1882–1945), которая настигает главного героя с упреком: «Что ж ты, вор, из моего колодца пил да колодец не прикрыл!» Становится ясно, что Иван-царевич не ограничился поцелуем, когда решился взглянуть на спящую богатыршу.
Другая сказочная героиня Белая Лебедь Захарьевна после того, как «кто-то в доме был, воды испил, колодезь не закрыл», пускается в погоню и требует от царя выдать ей младшего царевича, от которого у нее уже родились дети.
Неприкрытый/незакрытый колодец имел значение неискупленного плотского греха. Если бы герой сразу женился, то у Синеглазки и Белой Лебеди Захарьевны не было бы причин отстаивать свою поруганную честь.
Вплоть до начала XX века существовал обычай символического прыжка в колодец, напрямую связанный с половой зрелостью. Когда девочка становилась девушкой или когда ее сосватывали, мать, крестная или сваха (то есть кто-то из старших женщин) уговаривали ее прыгнуть с лавки – реже со стола – в юбку или в завязанный фартук. Иными словами, в некое кольцо, условный колодец. И хотя обычно девушка говорила: «Хочу прыгну – хочу не прыгну», – по свидетельству этнографа Дмитрия Зеленина (1878–1954), не отказалась ни одна. Таким образом, сначала шли ритуальные «уговоры», потом «раздумья» и в итоге в «колодец» прыгали все.
Кровавый ритуал
Символика действий, связанных с этими двумя предметами, довольно прозрачна. Веретено – символ мужского начала, колодец – женского. Скорее всего, в сказках мы видим отголоски ритуального лишения девственности. Об этом говорят и авторы комментариев к сборнику «Детских и домашних сказок» братьев Гримм, опираясь на то, что в сказках, которые рассказывают даже малышам, изначально были заложены совершенно недетские проблемы. В «Спящей красавице» у принцессы от укола веретеном выступает капля крови, в «Госпоже Метелице» девушка, прядя у колодца, стирает пальцы до крови… Если это и намек на взаимодействие с мужчиной, то как его объяснить? У героинь сказок в тот момент не было возлюбленных и рядом находились лишь женщины.
В Полесье во время этнографических экспедиций 1970–1980-х годов информанты рассказывали, что помнят такой обычай: на свадьбе, если жених в первую брачную ночь не мог лишить невесту девственности, ему на помощь приходили старшие в семье женщины. Они проводили дефлорацию подручными средствами, иногда веретеном. Подобные традиции наблюдались и у южных славян в Болгарии. Если жених не мог справиться с супружескими обязанностями, то приглашались опытные пожилые женщины для мануального вмешательства.
Для чего же совершалась искусственная дефлорация, если за женской инициацией, как правило, следовал брак? По мнению Эриха Нойманна, лишение девственности было жертвоприношением Великой Матери, с одной стороны, и «распечатыванием источника, заключенного колодца» – с другой. Дефлорация и последующие роды в понимании архаичного человека окончательно открывают скрытые в женской психике ресурсы. В матриархальном сознании именно через кровавые подношения Великая Мать продлевала жизнь.

Иллюстрация Уолтера Крейна к сказке «Спящая красавица».
Crane, Walter. The sleeping beauty picture book: containing The sleeping beauty, Bluebeard, The baby’s own alphabet, 1911 / Wikimedia Commons
Из сказочного материала следует, что дефлорация воспринималась как процесс опасный для героя. Вероятно, «опасность» заключалась в том, что кровь в ее естественных проявлениях – во время месячных, при дефлорации, во время родов – воспринималась как жертва Великой Матери.
Народная традиция подспудно «помнила», что жених во время первой брачной ночи с невестой-девственницей отнимает дар, предназначенный богине. И тогда героя мог заменить его помощник, как это сделал Булат-молодец в сказке «Кощей Бессмертный». Он же и произносит фразу: «Не спи, царевич, первую ночь с женой – худо будет! Лучше пусти меня на свое место!»
На практике, как отмечает Александр Гура (р. 1950) в своем монументальном труде «Брак и свадьба в славянской народной культуре», у южных славян могло практиковаться воздержание в первую брачную ночь. Он же пишет о том, что у восточных славян жениха на брачном ложе мог заменить «старший боярин» – дружка, брат или дядя.
В патриархальную эпоху девственность уже стала символом власти мужчины над женщиной, и только он имел право распоряжаться ее девственностью. От отца требовалось сделать все, чтобы сохранить «чистоту» дочери, а лишать ту девственности или карать за ее отсутствие мог лишь муж.
Баба Яга была жрицей Великой Матери, ее земным воплощением, творящим ее мистерии. До нас дошли образы Великой Матери с фаллосом, и Эрих Нойманн подробно их описывает. По его словам, Великая Мать в своем ужасном аспекте «всегда включает в себя женщину-змею, женщину с фаллосом, единство деторождения и отцовства, жизни и смерти». Она, как горгона Медуза, могла иметь даже бороду. По Нойманну, «изначально женщина была воинственной и воспроизводящей», но со временем воинственность изъяли из числа обычных женских характеристик. Бородатыми иногда изображались и кельтские богини, и ведьмы Шекспира, предвещающие смерть Макбета, что указывает на их двойственную природу – земную и потустороннюю одновременно.
Нельзя сказать достоверно, была ли ритуальная дефлорация обязательной частью инициации, но исключить этого тоже нельзя. Можно лишь предположить, что именно с утверждением патриархальных порядков функция Бабы Яги, связанная с лишением девственности, перестала быть понятной. Как и слова мачехи из сказки «Морозко» в сборнике Афанасьева: «Отдай Марфутку за Морозка», «Поезжай, буди молодых», «Увези-ка и моих дочерей-то к жениху».
Здесь можно снова вспомнить упомянутую раньше сказку, где медведь играл с девушкой/мышкой в жмурки. В сказках и песенном фольклоре медведь часто связан с девственностью. А если говорить о ритуальном значении этого животного, то Татьяна Бернштам в качестве примера приводит обычай, который был хорошо известен в Греции и существовал до второй половины XIX века. Каждая афинская девушка, чтобы напитаться природной энергией плодородия, до замужества должна была пройти посвящение и стать «медведицей». После подготовки девушка-подросток в присутствии других женщин имитировала акт соития через соприкосновение с животным. Для этих целей в Вавроне на Аттике содержалась ручная медведица (не самец-медведь!), а сам обряд, безусловно, восходил к древней женской инициации с ритуальной дефлорацией без какого-либо участия мужчин.
* * *
История о Морозко насчитывает около сотни сюжетов, но во всех вариациях это исключительно женская сказка, которую рассказывали вечерами во время прядильных и ткацких работ. А отголоски древнего обряда остались в играх, свадебных и подблюдных песнях, в действиях святочных ряженых и зимних гаданиях.

