Книга: Алиса в Стране Идей. Как жить?
Назад: Глава 36. Чаепитие с Марксом в Британском музее, Лондон, 1858 год
Дальше: Глава 38. Беседа в кабинете Фрейда, Вена 1910 года
Глава 37. Прогулка с Ницше в Зильс-Марии, лето 1887 года
Алиса ускоряет шаг, но все равно не может его догнать. Гуляющий мужчина идет быстро, даже слишком, если учитывать высоту и уклон. Очевидно, он привык. Алиса уже сомневается, удастся ли первоначальный план. Фея дала ей четкие указания: идти за ним, а поравнявшись, споткнуться и упасть. Ему придется помочь ей встать, и так они заговорят. План сомнительный, но Алиса согласилась.
Вот только нужно его догнать, что ей никак не удается. Слишком узкие ботинки сковывают лодыжки. Как ни пытается она держать темп, Ницше постепенно удаляется.
Дыша как можно глубже, Алиса прибавляет шаг. Ей хочется взглянуть вблизи на этого странного типа, который якобы решил “расколоть историю человечества надвое”. Неслабого он о себе мнения! Но при этом живет одиноко, уже много лет постоянно в дороге, останавливается в дешевых меблированных комнатах, в каких-нибудь скромных семейных пансионах в Турине, Ницце, Генуе или в Швейцарских Альпах и без конца пишет – кроме тех дней, когда ему совсем плохо. Потому что он сильно болен. Из-за чего и оставил кафедру в Базельском университете.
Все это Кенгуру рассказал Алисе по дороге в Швейцарию. Фридрих Ницше родился в семье протестантского пастора, в немецком Веймаре его рано заметили из-за литературных талантов и поразительных познаний в древних языках. Ему не было и двадцати, а он уже разбирался в древнегреческом с тонкостью лучших знатоков того времени. Базельский университет предложил ему должность прежде, чем он защитил выпускную работу! Но ему мало объяснять Софокла, Гомера и Платона или штудировать тексты, чтобы выявить ошибочное слово или сомнительный абзац. Он обнаруживает, что ученые “вяжут чулки для духа”, тогда как он хочет бежать вольно, босиком и как можно дальше. Он воскрешает дух греков, пересочиняет их и ими грезит. Объясняет, что в них есть напряжение: они мечутся между “дионисийством” и “аполлонизмом”. Со стороны Диониса – опьянение, оргии, хаос, дробность своего “я”, потеря контроля. Со стороны Аполлона – ясный порядок, гармония и мера, владение формами и чувствами. Величие греков, по мнению Ницше, в том, что они жили между обоими богами, попытавшись примирить противоположности, не отвергая ни одно, ни другое.
Так Ницше тоже пришел к тому, чтобы исследовать скрытую сторону идей, их темное происхождение, неведомый источник. За мнимым покоем древних греков он углядел противоречия и игры власти, за показной уравновешенностью – борьбу инстинктов. Тело явилось ему тем забытым краем, откуда родом желания и чувства с их многочисленными возможностями, склонностью к противоположному, вечно воюющими между собой мудростью и безумием.
Собственное его тело жило в муках – приступы головной боли, головокружений, глазной мигрени, – но он решил превратить его в наблюдательный пункт, поле экспериментов, чтобы понять, как идеи живут, отмирают или укрепляются.
Каждое лето он приезжает сюда, в деревню Зильс-Мария в Верхнем Энгадине, и ходит среди озер, по тропам Швейцарских Альп. Деревенька маленькая, она уместилась на полоске земли между двумя озерами, и виды здесь потрясающие. В гостиницу “Эдельвейс”, большое здание в стиле рококо, Ницше не селится – слишком дорого. Каждый год он возвращается в двухэтажный домик неподалеку, в скромную комнатушку наверху, где пахнет смолой и деревом, как в шале. Железная кровать с пуховым матрасом, мягкое кожаное кресло, фарфоровый кувшин под воду и окно, выходящее на лес, – этого ему хватает для покоя. Он знает, что воздух здесь легкий.
Дело в том, что у Ницше повышенная чувствительность. Влажность, ветер, свет, еда… – реакцию может вызвать что угодно. И он для того так часто меняет край, чтобы в зависимости от времени года подобрать подходящую освещенность, звуковой фон и питание, которые вернут ему немного сил. Любого пустяка – услышанной на улице песни или теплого чая – достаточно, чтобы он почувствовал себя лучше или хуже. Так что он наблюдает, нащупывает, помечает.
А еще – ходит. В любом месте, и в холод, и в зной, в любое время года он заставляет себя гулять. И мыслит так же: в движении, меняя точки зрения и углы обзора. Вот что сказал Кенгуру. Больше Алиса ничего не знает, но все равно хочет встретиться с таким необычным человеком. Тем более что верный Ведока прибавил: когда у Ницше спрашивают, как жить, он отвечает как специалист, которому нет равных.
Собрав все свои силы, Алиса умудряется нагнать идущего впереди человека. С холма деревня смотрится уже совсем маленькой. Еще пара метров… Алиса обгоняет одинокого ходока. Замечает глубоко посаженные глаза, чрезмерные усы, закрывающие нижнюю губу. И растягивается на каменистой тропке во весь рост.
– Мадемуазель, позвольте предложить вам руку, чтобы было легче встать?
– Вы так любезны, сударь, мне ужасно неловко. Должно быть, я подвернула ногу и оттого не удержалась.
– Чувствуете ли вы боль теперь, когда снова стоите?
– Разве что немного, благодарю вас. С кем имею честь?
– Фридрих Ницше, путешественник. Путешествую из удовольствия и по необходимости, однако не только среди гор, но также и времен, идей, чувств. Прошу меня извинить, такие рассуждения, боюсь, навевают скуку…
– Ни в коем случае! Это мне неловко, что потревожила вас!
– Куда вы направляетесь, мадемуазель?..
– Алиса, можно без фамилии. Я иду к старой мельнице.
– Старая мельница! Чудесная мысль! То место мне особенно по душе. Тропа дотуда крутая, но от работы мышц родятся лучшие размышления! Если хотите, пойдемте вместе. Вы здесь на отдыхе?
– Скорее, проездом. Меня волнует один вопрос, и, чтобы найти ответ на него, я отправилась в долгое путешествие.
– Будет ли нескромным поинтересоваться, что это за вопрос?
– Нет, отчего же. “Как жить?” – вот вопрос, из-за которого я странствую.
– Если хотите мое мнение, ответ на него – не самое главное. Главное – знать, кто его задает. Поиски того, как надо жить, – признак ослабления, упадка. Дикие звери не задаются таким вопросом! Сильные – тоже. Те, кто наделен мощными инстинктами, кто утверждается и знает, куда идет, никогда не задают его себе. Этот вопрос – симптом утраты жизненной силы, признак того, что жизнь недостаточно сильна, чтобы верить в себя. Вот она и ищет наружный компас, требует знаков извне, чтобы понять, куда идти. Как будто в себе ей это видно хуже или она хочет защиты.
Алиса возражает. Такое представление о жизни как о чем-то диком, властном, бездумно навязывающим себя поражает ее. Она объясняет, что на самом деле под вопросом “Как жить?” подразумевала, как жить правильно, как не причинять зла.
Ницше разражается смехом. Он хохочет звучно, долго, как если бы Алиса выдала блестящую шутку.
– Зло? Добро? И то и другое – насмешка! Причем мрачная и порой ядовитая! Эти сказки придумали слабые, робкие, боязливые, – словом, ягнята, – чтобы внушить хищникам вину. Овце нормально бояться льва. Но если она начнет убеждать льва, что есть овец – очень-очень плохо, стыдно, что это злодейство, а быть львом – чудовищно, а то и вовсе отклонение и скверное дело, то страдать начнет уже лев: он станет жертвой овцы…
Мораль, справедливость, равенство – все эти чудные ценности, якобы говорящие, как жить, – на самом деле лишь месть, зависть, ложь с целью приручить сильных. Вот почему нужно защищать сильных от слабых!
Алиса ошеломленно молчит, продолжая идти бодрым шагом. Он сумасшедший? Или мудрец? На первый взгляд это просто несносный провокатор. Но потом, размышляя над его словами, Алиса начинает думать, что он, может, и не совсем не прав. Алисе никогда не приходило в голову, что равенство может быть формой мести, злопамятства со стороны тех, кто не в силах о себе заявить. Такая мысль кажется ей жуткой и отвратительной, она хочет ее отогнать. Но потом думает, что даже если она отвратительна, это еще не делает ее неверной…
– Вероятно, мадемуазель, я догадываюсь, что вы думаете. Причина вашего молчания, должно быть, в грубости моих речей. Я мог бы принести извинения, но не сделаю этого, потому как тем самым оскорбил бы вас. На самом деле качество душ измеряется той дозой правды, которую они способны вынести. Потому что правда вовсе не обязательно ободряет или нравится. Думать, что она утешит или защитит, – заблуждение. Напротив, она потрясает, режет, бьет, причиняет боль. Чем дольше я хожу по горам среди кристально чистого воздуха, тем глубже убеждаюсь, что все идеалы, ценности, так называемые высшие цели, религии, мораль, философия и даже науки – лишь жалкие уловки, ширмы, призванные обмануть глаз.
Заглянув за эту лицевую, парадную сторону, я обнаружил, что с изнанки все кишит низостями, мерзостями, мелкой ненавистью и крупной злобой. Уверяю вас, вид не из приятных!
Слова Ницше все еще задевают Алису. Они противоречат всему, что она чувствует, а также всему увиденному в Стране Идей.
– Могу я задать вам вопрос? – спрашивает Алиса скромно. – Мне кажется, религиями – но также и философскими учениями, духовностью, моралью – движет в совокупности стремление к миру, любви, доброте. Да, им не удается распространить их повсеместно, как и постоянно поддерживать, тут я не спорю. Однако само намерение кажется отнюдь не плохим. Как вы полагаете?
Ницше смеется опять.
– И что эти прекрасные мысли делают? Поддерживают тягу к другому миру, который лучше, красивее, справедливее. Платон, чтобы уйти от действительности, в которой все постоянно меняется, придумывает совершенное небо вечных идей. Христиане сочиняют вечную жизнь, которая добывается через добродетели и жертвы. Эти потусторонние миры – выдумки, созданные, чтобы убежать от настоящего мира, действительной жизни. Это сны больного, ослабшего духа, который в таком разладе с собой, что уже не может видеть красоты жизни, не может вынести ее, настоящую. И вот они изобретают жуткие приспособления, чтобы запятнать тело, природу, инстинкты. Оттачивают невиданные методы дрессировки – воображаемые кары и награды. И жизнь из-за этих безумцев чахнет все больше.
Но я все изменю, переверну! Я заявлю им, что Бог умер! Представление окончено! Жизнь вернется, все захлестнет великое здоровье! Родится новый человек, столь же отстоящий от нас, как мы – от обезьян!
Голос у Ницше становится пронзительнее, он ускоряет шаг, размахивает руками. Алиса начинает беспокоиться. К счастью, старую мельницу уже видно. Места здесь тихие. Они идут уже давно.
– А не сделать ли нам привал? – предлагает она. И говорит, когда они опускаются на скамейку: – Если я правильно вас поняла, достаточно провозгласить, что Бог умер, и все изменится?
– Разумеется, нет! Я был уверен, что вы меня не поймете, однако ваше непонимание достаточно тонко, что вынуждает меня уточнить. Бог был грандиозным изобретением. Оно стало причиной многих несчастий для человечества, но принесло и огромную пользу! Оно вынудило животного человека размышлять над собой, руководить собой и превосходить себя. Заставило поступать иным образом. Когда идея Бога исчезнет, поначалу животное не будет знать, что делать! Безбожники влачат бессмысленную, жалкую, незначительную жизнь. Становятся тем, что я называю “последний человек”, такие считают себя умнее всех, но на самом деле это разочарованные глупцы, замкнувшиеся в своем куцем, тесном уголке.
– Так что тогда нужно делать?
– Начать с того, что разбить идолы, химеры, все душащие нас идеи – разбить разом, резко, одним ударом молота, без предупреждений! Бог, свобода, доброта, справедливость, равенство, демократия, прогресс, мир… Все это нужно разнести вдребезги, раздробить, растолочь в муку, как эта старая мельница поступала с зерном…
– А затем?
– Придумать новые ценности! Выковать новых людей! Скульпторов жизни, музыкантов бытия… Чем больше ты философ, тем больше ты музыкант! Уже мало идти и даже бежать – нужно плясать, понимаете, плясать! Плясать! Плясать!
Ницше вскакивает и увлекает Алису в неистовом танце, который едва не завершается в идущей вдоль поля канаве.
– Простите, я одержим… Такое со мной бывает, когда речь заходит о музыке. Убежден – без музыки жизнь была бы ошибкой!
– О! Это нужно запомнить! – говорит Алиса. – Можно, я запишу вашу последнюю фразу?
– Да, будьте так добры. Вот мой единственный ответ на вопрос “Как жить?”. Другого искать бесполезно, все уже в нем. Жить – значит жить как музыкант, то есть творить при помощи жизни, в этом мире, миг за мигом, продолжать свое тело сердцем и разумом, воплощая идеи и формы. Вот мир, отличный от прежних истин! Кому придет в голову отрицать звук? Кто скажет, что Бетховен “истиннее” Моцарта или “менее истинен”, чем Бизе? Музыка может быть солнечнее или туманнее, но это никак не связано с логической достоверностью!
– А с такими достоверностями вы как поступаете?
– Я их взрываю, мадемуазель, или обхожу стороной… Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума! На этом я желаю вам счастливого путешествия!
Ницше срывается с места так резко, что Алиса не успевает проститься. Вот он уже возле мельницы, идет широким шагом, не оглядываясь.
* * *
Брошенную Алису возвращают в ракету. Она пытается разобраться. Что же это за тип? Он ухитряется все перевернуть вверх дном, но непонятно, всерьез или нет. Постоянно меняет тон, точку, с которой смотрит. От того, что он говорит, тревожно и неловко.
Кенгуру позволяет себе уточнение. Он поясняет, что при жизни Ницше его читали единицы. Современные ему философы принимали его за поэта или литератора, а литераторы – за философа. И последние десять лет жизни дополнительно подпортили и без того дурную славу.
– Он никого больше не узнает, не может писать. Обессиленный, разбитый параличом, он лишь поигрывает иногда на фортепиано. Сестра Элизабет создает вокруг него нечто вроде музея в его честь. Она собирает рукописи, заметки, переписку. Люди приезжают в “Архивы Ницше” в Веймаре навестить угасшего гения, который не сводит пустого взгляда с кресла-каталки. В этом странном аду Элизабет ухищряется притянуть труды брата к самым радикальным политическим идеям. Будучи сторонницей антисемитизма и немецких националистов, она ретуширует его тексты так, чтобы сделать из Ницше, который уже не может ничего возразить, хрестоматийного для расистов и ксенофобов мыслителя.
Ницше и правда совсем не демократ. И действительно мечтал об авторитаризме. Но Германию он ненавидит, а антисемитов – и подавно. Воззрения у него до того сложные и неоднозначные, что споры о них никогда не стихали. Его пытались приписать к мыслителям левого толка, говоря, что он стал жертвой махинаций сестры. И наоборот, превратить во вдохновителя Гитлера и нацизма, забывая о множестве текстов, которые этому противоречат.
– И что в итоге? – спрашивает Алиса.
– Вопрос до сих пор открыт. Если тебе интересно, можешь сама взглянуть на материалы в подшивке, на аргументы каждой из сторон. Все это важно, но стоит запомнить еще кое-что. Ницше тоже меняет подход к идеям. В них скрыты чувства, переживания, страсти. У идей совсем другое, непривычное нам лицо. Они не что-то спокойное и безобидное. Их разрывают инстинкты: разрушения и выживания, завоевания и защиты. И в них бушуют исторические конфликты, властные вертикали, генетическая наследственность, уловки воображения. Идея единой, всеобщей, научной и безличной истины – чистой воды заблуждение, и сама наука – лишь современная религия. Вот что заявляет Ницше. Теперь ты понимаешь, почему он такой значимый и проблемный философ. Он мечтает всю Страну Идей поднять на воздух!
Дневник Алисы
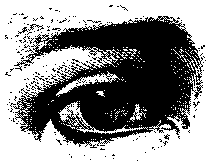
Этот Ницше сильно меня пугает, но и завораживает. Во взгляде у него есть что-то страшное. Как будто он видит сквозь все обложки, фасады, сквозь все показное. Он так потрясает, что может и свести с ума, если не хватит стойкости. И в то же время открывает новые ракурсы, взрывая то, что было раньше очевидно. Если верить Кенгуру, с этим мыслителем, заявлявшим, что он “не человек, а динамит”, нужно обращаться с осторожностью.
Что взять за девиз?
“Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума”(Ницше, “Ecce Homo”, 1888)
Фраза обманчиво ясная. Потому что на самом деле мы не знаем, о каком именно сомнении речь и какая несомненность имеется в виду. Не сомневаться в том, что вода кипит при ста градусах, – такая уверенность никого с ума не сводила. И что два плюс два будет четыре – тоже. А вот убежденность в том, что арийская раса будет править миром или что рабочее движение построит бесклассовое общество, может вылиться в смертельно опасное помешательство. Во имя сомнения никого убивать не станешь. Но мой прежний вопрос остается: как жить, когда сомневаешься?
Назад: Глава 36. Чаепитие с Марксом в Британском музее, Лондон, 1858 год
Дальше: Глава 38. Беседа в кабинете Фрейда, Вена 1910 года

