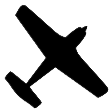Книга: Иероглиф судьбы или нежная попа комсомолки. Часть 1
Назад: Глава 23 Какие… дети! Фашисты!!!
На главную: Предисловие
Глава 24
Рейс любви
Самый конец марта 1938 года. Набережная Ханькоу.
Вечером, когда влажный воздух Ханькоу начинал густеть над улицами, и фонари загорались один за другим, Маша вышла с работы. День выдался тяжёлым, жара спадала медленно, и всё вокруг казалось пропитанным пылью, пряными запахами уличной еды и чадом жаровен из забегаловок.
Она привычно поискала глазами своего рикшу — Вана, худого, с щербатой улыбкой, который всегда первым подскакивал к ней у ворот. Но на этот раз тележку держал другой. И какой-то упитанный, неприятный, — подумала Маша.
— А где Ван, мой рикша? — спросила она по-китайски.
— Болен он, — ответил новый, подобострастно улыбаясь. — Сегодня я работать буду. Садитесь, госпожа.
Маша колебалась, но усталость победила осторожность. Она села, поправила платье и позволила себе расслабиться, глядя, как уличные огни отражаются на мокрой мостовой.
Первые минуты всё было как обычно — рикша бежал уверенно, колёса привычно постукивали по камням. И Маша задумалась о своей жизни. Что делать, она не знала. Она решила, что полюбила этого нахального лётчика — он, конечно, замечательный, но что дальше? Через полгода он уедет обратно в свою Совдепию. А что делать ей? Остаться в Китае? Или поехать с ним, чтобы её расстреляли как белогвардейку? Белогвардейца?.. Тут Маша зависла, подбирая правильную форму, и наконец-то посмотрела по сторонам.
А потом нахмурилась. Улицы стали незнакомыми, запах рыбы сменился какой-то вонючей гарью, да и дома пошли совсем другие. Она наклонилась вперёд:
— Бу ши! — сказала она резко. — Не туда! В другую сторону!
Рикша лишь улыбнулся щербатым ртом и побежал ещё быстрее.
— Стой! — крикнула она, хватаясь за край тележки, но та уже сворачивала в тёмный переулок.
Маша вскрикнула, пытаясь спрыгнуть, но её перехватили — двое, словно вынырнули из тени. Один схватил за руку, другой — за плечо.
— Тихо, госпожа, тихо, не кричите, — произнёс кто-то по-китайски, с сильным акцентом. — Не волнуйтесь. С вами просто хотят поговорить.
Её буквально втащили в дом. Внутри пахло дешёвым алкоголем, старой пылью и страхом. На низком стуле сидел мужчина в сером костюме — аккуратный, с круглым лицом и холодными глазами.
— Госпожа Мария, — произнёс он мягко, напирая на букву р. — Мы знаем, вы общаетесь с русскими лётчиками. Особенно вы близки с одним.
Он говорил спокойно, даже вежливо, но от этого становилось только страшнее.
— Мы не враги вам, — продолжал он. — Мы просто хотим знать кое-что. Вы поможете нам — и получите деньги. Много.
— Я не буду шпионить! — крикнула Маша, чувствуя, как внутри всё сжимается. — Лучше убейте меня!
— Как пожелаете! Пришлем вашему лётчику в посылке ваши лучшие части! Он даже сможет некоторое время ими пользоваться! Хи-хи. А потом, — мужчина мерзко чуть улыбнулся уголками губ, — люди узнают, что вы работали на японцев. Документы готовы. Вот, смотрите!
Мерзкий тип продолжил:
— Вы нам не особенно и нужны. Мы и сами знаем, и сколько советских, и где живут, и кто командует. Мы вас просим только сообщить когда и куда они полетят. У нас много глаз на аэродроме, так что не советую врать. И мы заплатим вам долларами, настоящими американскими долларами.
Маша молчала. В голове зашумело. Эти люди не из прошлых, не из тех, кто шантажировал её матерью и Петей, бывшим женихом. Это были какие-то новые. И гораздо, гораздо более опасные.
Самый конец марта 1938 года. Аэродром Ханькоу, основная авиабаза советских «добровольцев».
А на аэродроме в это время творилось настоящее безумие.
Под утро пришёл приказ из Москвы — короткий, но такой, что от него тряхануло, словно всё начальство дружно сунуло два пальца в розетку.
Теперь всё руководство, кто хоть краем стоял у руля или имел отношение к борту Главсевморпути, радостно стояло на ушах, попутно исполняя весёлый танец типа канкана.
А началось всё с коротенькой телеграммы — что-то вроде «желаю удачи», но со скромной подписью — И. Сталин. А затем уже хлынул целый вал телеграмм — уточняющих, объясняющих, поясняющих и просто перестраховочных.
Рычагов с Жигаревым бегали туда-сюда, споря, ругаясь и соглашаясь одновременно.
Сияющий как медный Будда, натёртый руками страждущих, полковник Чжан помчался куда-то внутрь китайской бюрократической машины добывать листовки.
Гражданский пилот Инокентий Караулов ругался с такой изобретательностью, что даже бывалые техники завистливо замолкали, слушая, как он похабно добирается до пятого колена родни начальства — правда аккуратно обходя, всех вождей строительства коммунизма.
Китайцы, не вполне понимая, зачем, метались по полосе, таская ящики и канистры, пытаясь привести ДБ-3 в состояние «почти боевое», под присмотром советских техников, которых, кажется, уже сам чёрт не мог остановить.
Кузьмич, как старый полковой конь при звуках трубы, наоборот, ожил и засветился. Деловитый, сосредоточенный и с каким-то фанатичным азартом в глазах, он сначала довёл китайцев до белого каления, требуя карты местности, потом отловил главного штурмана из группы Полынина — Федорука, и оба, словно два старых пирата, с ходу нашли общий язык. Минут через пять они уже орали друг на друга, обзывая последними словами, чертили на карте маршруты, спорили и тыкали друг другу в лицо логарифмической линейкой, словно решали судьбу мира. Казалось, ещё секунда — и кто-то получит по кумполу. Но всё закончилось примирением — торжественным единением полярной и сухопутной штурманской школ за обедом в столовой.
А Лёха, как ни странно, выспался. После ночного родео он, узнав о готовящемся дурдоме, только пожал плечами, улыбнулся вроде «ну, понеслась» и пошёл спать в сушилку. Проспав часа четыре — спокойно, глубоко, как удав после обеда, он вышел на улицу, когда аэродром уже понемногу успокаивался. Начальство перестало бегать кругами, требуя немедленного вылета, техника осталась стоять на колёсах, а китайцы наконец поняли, что от них пока ничего не хотят. Лёха потянулся, посмотрел на всё это и сказал, не торопясь:
— Ну что, товарищи, значит, полетим. Что вы носитесь, как подорванные! Дня два-три точно есть — пока китайцы свой тираж напечатают. Да и ветер нужен попутный.
Он поймал Кузьмича за рукав, подмигнул ему и друзья отправились ужинать в любимую забегаловку попаданца около дома.
— Что Лёша, поменял рыженькую лошадку на черненькую, в крапинку! — подколол нашего героя Кузьмич.
— И правда. Что-то давно Машки не видно, — сказал Лёха, задумчиво глядя на улицу. — Обычно к этому часу уже дома бывает.
И тут к нему подбежал совершенно запыхавшийся машкин рикша Ван — потный, взлохмаченный, с глазами, в которых стояла такая тревога, что у Лёхи внутри всё оборвалось.
Самый конец марта 1938 года. Набережная Ханькоу.
Лёха вынул свой верный «Браунинг» — тот самый, с дарственной табличкой от Ворошилова — и проверил обойму. Кузьмич засуетился, шаровары зашуршали, и на свет появился потёртый «Наган».
— Вот! — гордо объявил он, будто их только что наградили. — Выдали!
— Ну, теперь держись, капитализм, — усмехнулся Лёха. — Кузьмич, ты у нас ещё тот Ворошиловский стрелок, так что защищай тыл. Целься от меня в другую сторону — чтобы я не мешал твоему геройству.
Китайцы показали, что мир действительно одна большая семья. Особенно если эта «семья» — маленькая и китайская, буквально из двадцати–тридцати тысяч душ, не больше.
— Кто видел Машу? — рявкнул Лёха, но вопрос перевели как-то слишком буквально, и народ у ворот только попрятался.
Рикша Ван, с неразлучной тележкой, подскочил к воротам Машиной конторы, пообщался с какими-то местными китайцами и выпалил рассказ — краткий, горячий, сбивчивый. Обычно он ждёт Машу у ворот, но сегодня попался богатый клиент — «готовый много платить», Ван закатил глаза. Поехал в другую часть города, там его попросили подождать, а на обратном пути — бац! — улицу завалили ящиками. А Машу забрал кто-то «не из наших, не из местных». Вану рассказали, как тот выскочил и прямо к Маше — наши хотели его отогнать, мол, это наша площадь, — но он резво убежал. Вместе с Машей.
Ван, естественно, знал почти всё: «там всего два переулка» — и добавил так, будто открывал великую военную тайну: — Идём!
И они побежали. Двадцать минут — с хрипами и по китайским потёмкам. Сначала сдохла дыхалка у Кузьмича, и его аккуратно посадили в тележку — дескать, хорошо кушающему герою не к лицу падать первым. Потом сдохла у Лёхи — ну что вы хотите, сидячая жизнь и курение в неположенных местах берут своё. Самое смешное, что Ван катил тележку с Кузьмичем, подгонял их и ни разу не запыхался — уличный спорт, похоже, у него был в крови.
Потом их перехватили. Мальчишка, материализовавшийся из подворотни, горячо зашептал: «Они там! Во втором доме! Один у двери!» И правда — выглянув из-за угла, троица увидела, как у входа маячил силуэт. Лёха достал свой «Браунинг».
— Нет, — печально покачал головой Ван и выдал ему хорошо отполированную палку.
Ван, неторопливо перебирая босыми ступнями, застучал колёсами тележки по утоптанному переулку, приближаясь к охраннику. Лёха пригнулся и двинулся следом, прячась за тележкой.
Кузьмич с револьвером остался за поворотом — в качестве огневой поддержки.
Проехав несколько метров, Ван аккуратно наехал тележкой на ногу охраннику, будто это была привычная детская шалость. Тот заорал, и в тот же миг Ван рассыпался в поклонах и извинениях.
В ту же секунду Лёха огрел со всей дури отвернувшегося охранника по башке. Тот, не выдержав такого проявления уважения, рухнул, произведя негромкое «хрюк» в полумраке.
— Японец! — тут же определил Ван, без тени романтики.
Дверь была лишь прикрыта. Лёха вошёл — и, как ни старался, но скрип и грохот бегемота в посудной лавке разнёсся по всему дому, словно объявление о вторжении инопланетян. Где-то раздался невнятный окрик — и навстречу показался ещё один азиат, худощавый и быстрый. Лёха махнул палкой, тот ловко уклонился и попытался ногой попасть ему в голову. Промах! Но в левую руку Лёхе прилетело прилично — удар был такой, что глаза нашего героя на мгновение сверкнули электричеством.
Стеснительно хлопнул «Браунинг». Азиат, выпучив глаза и, кажется, искренне удивившись встрече с каратистом куда более высокого дана, завалился вперёд — мягко, как чёрная тень.
Лёха рванул вперёд и ввалился в маленькую комнатку — там, как в плохом представлении, уже стоял второй азиат с ножом у горла Маши, медленно отступая в проход вглубь дома. Его глаза блестели, и в них билась какая-то фанатичная решимость.
— Бросай пистолет! — истерично проорал он. — Убью суку!
Лёха на секунду замешкался. Глянул на Машку, на её лицо — белое, с огромными глазами, в которых плескался страх, сжатый в ниточку рот.
Тут сзади что-то загремело, затрещало и произнесло волшебное слово «бл***ть».
Резко грохнул выстрел. Японец взвизгнул, Маша закатила глаза и начала сползла на пол. Кузьмич, снося Лёху, как раненый в жопу носорог, помчался за исчезающим в темноте коридора японцем. В темноте снова оглушительно бабахнуло несколько раз.
Маша передумала падать на пол и рухнула в подставленные объятия Лёхи. На её губах дрогнула слабая улыбка и глаза закатились.
Через минуту появился измазанный чем-то подозрительным Кузьмич:
— Ушёл гад! Я чуть глаз себе не выколол о гвоздик, подскользнувшись на банановой кожуре! Зато этот хмырь промазал. У него, оказывается, тоже пистолет был.
Лёха перевёл дух и нервно засмеялся:
— Что ж, дружище, интрига осталась.
Кузьмич чиркнул спичкой и, разглядывая далекий горизонт, ехидно произнёс:
— Маша цела. Что ж ещё нужно, чтобы счастливо встретить старость?
Они вышли на крыльцо и оказались окружены водоворотом людей.
Ван, замахав руками, заговорил по-своему — быстро, с надрывом, с тем жаром, с каким объясняются только люди, у которых подгорает сверху и снизу.
Через минуту толпа уже знала всё.
— Шпионы! Японцы! Украли белую госпожу!
Толпа гудела и шумела, как разогретый самовар, пыхтя во все стороны разом.
Лёха шёл за коляской Вана с полудохлой Машей внутри, держа пистолет наготове, и думал: сколько там этих японцев? Пятьдесят? Сто? Двести тысяч?
Да если весь Китай действительно вот так поднимется, если китайцам раздать хотя бы рогатки с гайками, они их просто затопчут! Правда, где найти сто миллионов гаек — наш герой так и не придумал.
Самый конец марта 1938 года. Аэродром Ханькоу, основная авиабаза советских «добровольцев».
Через неделю, когда противный северный ветер, наконец, сменился на тёплый юго-западный, советский самолёт с гордой надписью «Аэрофлот», уже два дня прячущийся под камышовыми циновками от японских агрессоров, неторопливо вырулил на взлётную полосу аэродрома Нинбо.
— Экипаж прощается с вами и желает приятного полёта на борту нашего бензовоза! — весело объявил Лёха, подтягивая ремень. Сегодня он сидел на небольшом стуле прямо за спиной пилота. Караулов высказал всё, что он думает про армию, флот, войну, японцев, китайцев и двинул рычаги управления двигателей.
Самолёт действительно напоминал бензовоз — в своём нутре он вёз в основном бензин, немного масла, приличное количество пачек китайских желтоватых печатных изданий и одну небольшую деревянную «бомбу», раскрашенную в весёленькие цвета японского флага.
Тут стоит уточнить, что настоящих бомб нашему попаданцу не дали. По старой привычке, решив усилить воспитательный эффект парочкой взрывоопасных аргументов, Лёха нарвался на коллективный ужас — вокруг замахали руками, забегали, и всё закончилось ссылкой на волю самого великого вождя. Никак нельзя! Миссия политическая, строго агитационная, без оружия и прочих взрывоопасных излишеств.
— Даже насрать им на голову и не думай, — поддержал вождя Кузьмич.
Но мы, как говорится, тоже не лыком шиты. Лёха, за два дня вынужденного безделья в Нинбо, организовал «агитационный материал» — всё строго с формулировкой из телеграммы. Деревянную болванку старательно обклеили китайскими газетами, разрисовали тушью в национальном духе и дописали послания. Самое из приличных, если перевести китайские иероглифы на русский, звучало примерно так:
«Чтоб вас в аду любили демоны во все тыловые отверстия, извращенцы нетрадиционные!»
Надо сказать, что он с таким искренним и почти детским удовольствием воспользовался теорией Кузьмича о том, что «каждая женская истерика — это всего лишь вовремя не начавшаяся мужская командировка».
И теперь вот — улетал в командировку. Ха! Обхохочитесь! На Родину!
Самый конец марта 1938 года. Апартаменты одного советского добровольца, пригороды Ханькоу .
Дома Машу наконец-то накрыла истерика. Она держалась весь путь, пока её трясло в рикше, пока Кузьмич рассуждал о пользе банановой кожуры в ближнем бою, пока Ван нёс бессмысленную чушь про духов, охраняющих его белую госпожу. Но как только дверь за ними захлопнулась, ниточка оборвалась.
Маша осела на стул, прижала ладони к лицу и зарыдала. Сначала тихо, потом всё громче — так, будто из неё вырывали комья страха и накопленной усталости. Лёха стоял рядом, не зная, что делать. Потом сел рядом и осторожно притянул её к себе.
Она рыдала, уткнувшись ему в плечо, пока сквозь всхлипы не прорвалось первое связное слово.
— Они… — выдохнула она, — они сказали, что всё знают. Про лётчиков… про вас… про Харбин… про маму… Ы-ы-ы-ы-ы!
Минут через двадцать слёз и соплей Лёха наконец вытер машиным рукавом Машино лицо и, криво усмехнувшись, произнёс:
— Ну надо же, угораздило… живу, значит, с белогвардейским и японским шпионом в одном лице. И в прочих частях тела. Симпатичным, конечно, шпионом!
Маша всхлипнула, но в уголках губ дрогнула тень улыбки.
Лёха вздохнул, потер лоб и добавил уже мягче:
— Шпион! А что ты тут сидишь! Будем воспитательный момент проводить! Ну-ка разворачивайся к стене передом, ко мне задом! Ща, гномы откачают Белоснежку!
И юбка несмело, но шустро поползла вниз…
Он налил ей воды, подал платок, утереть слёзы и, пока она приходила в себя, тихо спросил:
— Паспорт у тебя хоть есть настоящий?
Оказалось, есть. Нансеновский. Серая книжечка с печатями и харбинской регистрацией.
На следующий день, ближе к рассвету, в Париже упитанного банкира Серхио скинуло с кровати телефонным громом. Что стоило организовать звонок из Ханькоу в Париж — мы даже вспоминать не будем, да еще так, что бы никто об этом не знал.
Но сонный Серхио успел схватить трубку — и обомлел. Из далёкой трубки донёсся искаженный расстоянием, но знакомый до боли весёлый голос:
— Ола, Серхио! Как дела? В дверь-то ещё пролезаешь или совсем растолстел от французских обедов? Элька родила тебе девочку?
Мендоса заморгал, оглядел комнату, потом сел прямо на край постели.
— Мы работаем над этим. Тьфу! Алекс… ты что ли?.. Откуда ты звонишь, чёрт тебя побери⁈
— Из Китая, дружище! — бодро сообщил Лёха. — У меня к тебе просьба — короткая и человечная.
Банкир в ужасе крикнул:
— Алекс! Подожди! — и в течении трех минут вываливал на него всё, что накопилось по делам.
Выслушав ответ по существу волновавших его вопросов, Серхио вновь был остановлен фразой:
— Я к тебе пришлю барышню. Да знаю я, что ты счастливо женат! Только попробуй! Просто помоги ей устроиться. Завтра пришлёшь телеграмму с приглашением во французское посольство в Ханькоу. Диктую данные…
На другом конце провода Серхио грустно замолчал. Потом устало выдохнул:
— Алекс… Ну какое завтра⁈ Что?.. А… Ну… Ну ты так бы и сказал. Завтра так завтра. Но ты хоть понимаешь, сколько… Хорошо-хорошо! Завтра! У нас только — четыре утра! Ладно! Я уже бегу!
На следующий день во французское консульство в Ханькоу пришла телеграмма из Service des visas et des passeports, Ministère des Affaires étrangères, Paris — Отдела виз и паспортов Министерства иностранных дел Франции, Париж.
«Просим обеспечить въезд во Францию гражданки… обладательницы паспорта Лиги Наций, для урегулирования личных дел. Срочно. Подпись: Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, Paris.» (Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Франции — первый заместитель министра.)
Консул-француз, уставший от этого проклятого Китая, от местных интриг и китайских девок и местной жизни, бросил взгляд на бумагу, поднял глаза на принесшего её клерка и хмыкнул:
— Париж? Вот ты, Марсель, можешь организовать такую телеграмму с такой подписью? Нет? А я? Ну… наверное, я могу. Если как следует напрячься. Очень напрячься. Но даже боюсь представить, скольких обещаний мне это будет стоить… Так что — это прилетело с самого верха. Сегодня же выпиши визу этой… проститу… прости, барышне!
А в далёком Париже, бывший испанский банкир Серхио Гонсалез, с чувством глубочайшего внутреннего удовлетворения, списал с личного счета Алекса неприлично приличную сумму. Потом он мстительно улыбнулся, налил себе тридцать, подумал и нет, пятьдесят грамм коньячку и не удержался от короткой приписки в графе примечания: Dépenses galantes — «На прелести жизни».
* * *
Конец 1 книги
Назад: Глава 23 Какие… дети! Фашисты!!!
На главную: Предисловие