Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями
Назад: Эпоха Тоётоми и начало эпохи Токугава (1600–1700)
Дальше: Эпоха Мэйдзи (1850 год – по настоящее время[6])
Конец эпохи Токугава (1700–1850)
Правители Токугава в своем стремлении к объединению и дисциплине задавили живую искру в искусстве и в жизни. Только образовательные учреждения для низших классов, созданные на закате эпохи, в некоторой степени компенсируют этот изъян.
В период расцвета эпохи Токугава все общество – и искусство не составляло исключения – было словно отлито по одной форме. Порядок, который изолировал Японию от всех внешних контактов и регулировал любое повседневное занятие людей – от даймё до самого нижайшего крестьянина, – сузил и ограничил художественное творчество.
Академии Кано, четыре из которых находились под непосредственным покровительством сёгунов, а шестнадцать – под началом правительства Токугава, были пропитаны дисциплинирующим духом эпохи и существовали в рамках организации обычных феодальных землевладений. В каждой академии имелся свой наследственный повелитель, который продолжал дело вне зависимости от своего таланта; он руководил учениками, которые стекались к нему из разных частей страны, а они, в свою очередь, потом становились официальными художниками при дворах даймё в провинциях. После окончания обучения в Эдо (Токио) ученикам, вернувшимся домой, надлежало работать de rigueur (по требованию этикета) в соответствии со стилями и образцами, изученными во время обучения в академии. Те из них, кто не были вассалами даймё, оказывались в некотором смысле зависимыми от повелителей Кано. Каждый должен был следовать курсу обучения, установленному Танъю и Цунэнобу, писать и рисовать определенные сюжеты в определенной манере. Отступить от этой рутинной практики значило подвергнуться остракизму, который низвел бы художника до положения простого ремесленника, поскольку в этом случае ему не позволили бы сохранить знак отличия благородного человека – носить два меча. Такое положение дел не могло не сказаться пагубно на оригинальности и совершенствовании в искусстве.
Школа Тоса
Кроме школы Кано в начале правления Токугава была восстановлена со всеми наследственными привилегиями школа Тоса с ее младшей ветвью – школой Сумиёси, но вдохновение и традиции Тоса были утрачены еще со времен Мицунобу, который героически цеплялся за свою старую школу в период Асикага. Можно сказать, что в попытках пойти против национального потока он на самом деле проявил слабость. Но мы не должны забывать, что в то время, когда все остальные художники рисовали тушью, он все еще придерживался славной традиции живописи в цвете. Новая школа Тоса, однако, лишь внешне подражала манерам своих предшественников, и любая жизненная сила, появляющаяся в ней, шла от работ Кано, как ясно видно в произведениях Мицуоки и Гукэя.
Тоса Мицунобу (1434–1525) – основатель школы Тоса; его семья традиционно служила художниками при императорском дворе.Тоса Мицуоки (1617–1691) – художник школы Тоса.Сумиёси Гукэй (1631–1705) – первый официальный художник сёгуната Токугава.
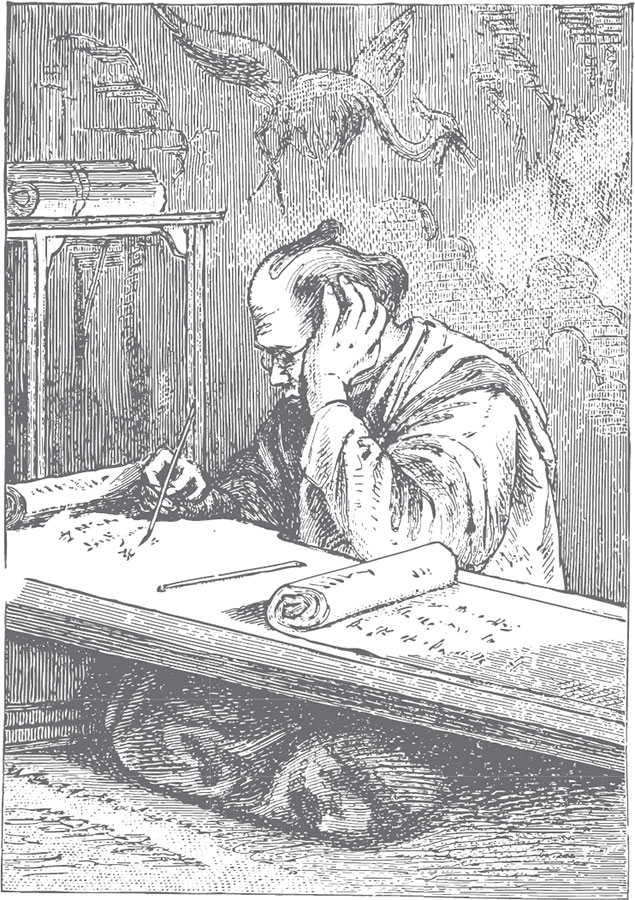
Жалкая аристократия того времени смотрела на все это как на нечто естественное, поскольку их собственная жизнь регулировалась такими же правилами. Сын заказывал картину у современника из школ Кано или Тоса так же, как когда-то его отец делал заказ предыдущему академику. Между тем жизнь простых людей была совершенно другой. Их пристрастия и стремления значительно отличались, хотя круг их существования ограничивался теми же шаблонами. Им запрещались высокие почести двора и общение с аристократическим обществом – они искали свободу в мирских удовольствиях, в театре или в веселой жизни Ёсивары. И как их литература представляет другой мир, нежели сочинения самураев, так и их искусство выражает себя в обрисовке веселой жизни и в иллюстрации театральных представлений.
Приятная простота
Народная школа, которая была единственным выражением идей масс, хотя и достигла мастерства в цвете и рисунке, не отличалась той идеальностью, которая является основой японского искусства. Очаровательные цветные гравюры на дереве, полные энергии и многогранности, созданные Утамаро, Сюнманом, Киёнобу, Харунобу, Киёнагой, Тоёкуни и Хокусаем, стоят в стороне от главной линии развития японского искусства, эволюция которого продолжалась непрерывно со времен эпохи Нара. Инро, нэцкэ, гарды мечей и прекрасные лакированные изделия этого периода являлись игрушками и как таковые не несли в себе тот национальный дух, в котором существует все истинное искусство. Великое искусство – это то, перед которым мы жаждем умереть. А произведения позднего периода эпохи Токугава позволяли человеку лишь пребывать в наслаждениях фантазии. Именно из-за того, что в Европе сначала обратили внимание на приятную простоту работ этого периода, а не на величие шедевров, скрытых в коллекциях даймё и храмовых сокровищницах, японское искусство до сих пор не воспринимается на Западе серьезно.
Китагава Утамаро (1753–1806) – художник, знаменит изображениями цветов, также погрудными портретами гейш и некоторыми непристойными сценами. Сидел в тюрьме за оскорбление карикатурой памяти Тоётоми Хидэёси.Кубо Сюнман (1757–1820) – романист, художник, мастер иллюстраций к романам.Тории Киёнобу (1664–1729) – художник, один из основателей династии Тории, больше всего изображал актеров, создавая своеобразные афиши. Изобрел стиль мимидзугаки («червеобразные») – прорисовка мускулов и фактуры тела линиями разной толщины.Судзуки Харунобу, происходил из самурайской семьи, настоящее имя Ходзуми Дзиробай (1725–1770) – художник, первым начал выпускать полноцветные гравюры, которые стали называть нисики-э, то есть «парчовый рисунок».Тории Киёнага (1752–1815) – художник, известен изображениями куртизанок как участниц сцен, вероятно, наиболее известный из живописцев, изображавших служительниц весёлого ремесла.Утагава Тоёкуни (1769–1825) – художник, работавший в стиле укиё-э и изображавший актеров театра кабуки.Кацусика Хокусай (1760–1849) – художник и гравер, работал под множеством псевдонимов.
Городское искусство Эдо (Токио), находившееся под грозной тенью сёгунов, было ограничено, таким образом, узким кругом возможностей для выражения. Именно благодаря более свободной атмосфере Киото там развилась другая, более высокая форма демократического искусства. Киото, остававшийся городом императорской резиденции, был по этой причине сравнительно свободен от правил и порядка Токугава, поскольку сёгуны не осмеливались утверждаться здесь так открыто, как в Эдо и в других частях страны. Поэтому ученые и свободомыслящие люди стекались сюда, дабы найти здесь убежище, и полтора века спустя Киото стал точкой опоры для реставрации Мэйдзи. Именно здесь художники, презиравшие иго Кано, могли рискнуть и позволить себе умышленные отклонения от традиций, а богатый средний класс имел возможность восхищаться их оригинальностью. Здесь Бусон пытался создать новый стиль, иллюстрируя народную поэзию; здесь Ватанабэ-Сико стремился возродить стиль Корина, а Сёхаку, подобно Блейку, упивался дикими образами, навеянными творчеством Дасоку эпохи Асикага; и здесь, наконец, жил Дзякутю, фанатик, который любил рисовать сказочных птиц.
Ёса Бусон (1716–1784) – поэт и художник.Сёхаку Сога (1730–1781) – художник, знаменит изображением драконов и призраков, что и позволило автору сравнить его с фантазиями английского поэта, художника и мистика Уильяма Блейка (1757–1827).Ватанабэ Сико (1683–1755) – художник, мастер медитативных пейзажей.Ито Дзякутю (1716–1800) – эксцентричный буддийский художник, интеллектуал, любил создавать сложные композиции из цветов или птиц.
Возрождение
Киото реально способствовал образованию и развитию двух важнейших тенденций. Во-первых, это введение и возрождение стиля конца правления династии Мин (1368–1662) и начала правления маньчжурской династии Цин, который создали в Китае дилетанты и эстеты, считавшие картину бесполезной, если она выходит из рук профессионала, и ставившие наброски великого ученого выше работ мастера-художника. В определенном смысле даже это следует понимать как демонстрацию огромной силы китайского сознания, пытавшегося оторваться от формализма академического стиля Юань, навязанного во время правления Монгольской династии. Художники из Киото толпами двинулись в Нагасаки, единственный открытый тогда порт: они хотели увидеть у китайских торговцев произведения этого нового стиля, уже успевшего затвердеть в маньеризме, прежде чем он достиг Японии.
Второй важной тенденцией в Киото стало начатое там изучение европейского реалистического искусства. Маттео Риччи, римско-католический миссионер, прибывший в Китай во времена династии Мин, дал импульс к развитию новой школы реализма в городах устья Янцзы.
Реалистическая школа
Тогда высоко ценились и часто копировали голландские гравюры, и Маруяма Окё, основатель школы Маруяма, посвятил этому свою юность. Особенно необычным кажется тот факт, что он имитировал линии гравюр кистью. Именно благодаря этому художнику реалистическое направление привлекло к себе всеобщее внимание, поскольку он, получив первоначальное обучение у Кано, смог объединить новые методы со своим собственным стилем. Он ревностно учился у природы, выражая ее настроения в мельчайших деталях, и его тонкость, мягкость и изысканное чередование эффектов на шелке дают ему право называться одним из лучших художников этого периода.
Маруяма Окё (1733–1795) – японский художник, из крестьянской семьи, первым адаптировал «дымку» (сфумато) и некоторые приемы светотени из западной живописи в японском искусстве.
Госюн, его соперник и основатель школы Сидзё, следовал по его стопам, хотя в его творчестве нашел отражение и китайский маньеризм конца правления династии Мин.
Мацумура Госюн (1752–1811) – ученик Окё, равнялся на китайскую декоративную живопись, казавшуюся ему более эффектной, чем европейская.
Ганку, другой реалист, предтеча школы Киси, отличается от первых двух художников более близким сходством с Шэнь Наньпином.
Киси Ганку, или Киси Ку (1749–1839), – крупнейший художник Киото своего времени.Шэнь Наньпин (1682–1760) – китайский художник времени правления династии Цин.
Эти три течения составляют основу Киотской школы реализма того времени. В них звучат иные мотивы, чем в школе Кано, но, несмотря на одаренность и мастерство, эти художники так же не смогли уловить истинно национальный элемент в искусстве, как это не смогли сделать их собратья в Народной школе в Эдо. Их работы восхитительны и полны изящества, но совершенно не передают ту сущность предмета, как это делал Сэссю и другие художники. Маруяме Окё удается подняться до великих высот, когда он неосознанно возвращается к тем методам, которыми руководствовались старые мастера.
После смерти этих трех великих мастеров искусство Киото заключается лишь в попытках их последователей совмещать в разных пропорциях совершенство их индивидуальных стилей. И все же до возрождения современного японского искусства в 1881 году, во втором десятилетии реставрации Мэйдзи, художники Киото более всех остальных воплощали творческий дух в живописном искусстве.
Примечания
Академии Кано. Они обязаны своим названием семье художников, которые были назначены официальными художниками Токугава.
Инро. Небольшие лакированные аптечки (коробочки для лекарств), которые подвешивались на пояс оби или ремешок.
Нэцкэ. Декоративные пуговицы или вещицы, с помощью которых подвешивались инро или табакерки.
Назад: Эпоха Тоётоми и начало эпохи Токугава (1600–1700)
Дальше: Эпоха Мэйдзи (1850 год – по настоящее время[6])

