Книга Сидонии
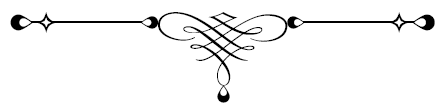
Это было в конце января или в начале февраля 1913 года. Помню, как, выходя из поезда на станции Харрисон-стрит, я сравнивал сырой, холодный, задымленный воздух Чикаго с почти совсем еще чистым воздухом тогдашнего Нью-Йорка.
В Нью-Йорке, откуда я приехал в Чикаго, у меня не все складывалось благополучно. Я только что закончил «Финансиста», и, хотя ни меня, ни Элизабет текст романа не устраивал, вынужден был отдать роман в издательство, чтобы было, на что жить и работать над «Титаном», моей следующей книгой.
Материалы к «Финансисту», насколько я знал, можно было отыскать в подшивках самых крупных чикагских газет с 1880 года. А также, как оказалось, – в памяти жителей Чикаго: издателей, коммерсантов, священников, юристов и политиков, всех тех, кто знал Чарлза Т. Йеркса и кому я, чтобы познакомиться, заблаговременно отправил рекомендательные письма, и, как выяснилось, не зря.
От одиночества я тогда страдал не слишком. Элизабет мне надоела, и я ее с собой не взял. Что же касается Аглаи, то, хотя наши отношения последнее время усложнились, я без нее, пожалуй, скучал; уехать со мной из Нью-Йорка она никак не могла.
Из всех американских городов Чикаго навсегда останется моей первой любовью; я без устали бродил по городу, разглядывая дома и улицы, где некогда предавался юношеским мечтаниям.
Вот здесь я когда-то работал! На этом углу я стоял в рождественский вечер, проклиная себя за неумелость и раздумывая, что мне делать дальше. У этой двери я в поисках работы в нерешительности переминался с ноги на ногу, боясь, как бы меня в очередной раз не «завернули». У витрины этого ресторана я стоял, завистливо поглядывая на тех, кому больше повезло в жизни. Тогда я еще находился в плену иллюзий: мне казалось, что вкусная еда, модная одежда, деньги – предел мечтаний. Ну а теперь я вернулся сюда написать о тех болезнях, которые никакими деньгами не вылечишь.
И вот, не прошло и двадцати четырех часов, а я уже въехал в квартиру, о которой можно было только мечтать: две огромные комнаты с ванной в большом старом доме на Норт-Шорт-драйв. Под окнами росли невысокие, запорошенные снежком ели, а за ними открывался вид на необъятных размеров озеро, над которым парили чайки и по которому время от времени проплывал пароход. Отсюда я ходил по редакциям газет, работал в архивах, которые местные газетчики называли моргом, встречался с издателями, со всеми, кто мог бы мне помочь в моих разысканиях. Иными словами, вращался в кругу людей, знавших про меня и про то, о чем я пишу.
Из всех этих людей больше всех заинтересовал меня стройный подтянутый мечтательный молодой американец Уэбб Коллинз, в котором было что-то от Стивенсона. Он рассказал мне, что родился в Чикаго и в настоящее время заведует литературным отделом в одной из чикагских газет.
– Хотите, поговорим о старом Чикаго? – как-то предложил он мне. – О Чикаго, где писали Юджин Филд, Генри Блейк Фуллер, Джордж Эйд и другие. Коллинз так увлек меня своей непринужденной, непритязательной манерой держаться, своей сердечностью, что я согласился.
Рассказывал он мне, причем так же живо и интересно, и о Чикаго сегодняшнем. Город переживал литературный ренессанс. Но явлением, пожалуй, наиболее интересным был небольшой экспериментальный театр, занимавший студию в одном из многоэтажных зданий в центре города. Я о таком театре слышал впервые; да, я обязательно должен там побывать, посмотреть, что ставит на его крошечной сцене труппа актеров-любителей под руководством режиссера из Англии, который счел, что для его экспериментальных постановок лучшего города, чем Чикаго, не найти.
Готов ли я пойти с ним завтра на спектакль «Троянские женщины»? Он познакомит меня с молодой талантливой актрисой, звездой труппы.
И вот вечером следующего дня мы пришли в студию к началу спектакля. К моему немалому удивлению, спектакль по мрачной и жестокой трагедии Еврипида превзошел все ожидания, постановка была просто великолепна, чувствовались серьезность и глубина режиссерского замысла.
Среди актеров – в них все было безупречно: и ритм, и костюмы, и жесты, и движения – выделялась одна молодая женщина: обращала на себя внимание низким голосом, а также фигурой и поступью. Играла она Андромаху и поражала не только величественными жестами, позами, тем, как подает себя, как держится, как обращается со своим младенцем Астинаксом, но и какой-то непередаваемой меланхолией. На вид ей было лет тридцать – тридцать пять, однако, когда я обратился к своему молодому приятелю с похвалой в ее адрес, он сказал:
– Да, это Сидония Платов. Вы не поверите, но ей всего девятнадцать лет.
– Да, верится с трудом, – отозвался я.
– Вот и мне тоже не верится, когда я вижу ее на сцене. Похоже, что ей доставляет удовольствие скрывать свою молодость. Я не знал ни одной актрисы, которая умела бы так и хотела перевоплощаться. Тщеславной ее никак не назовешь. Видели бы вы ее в «Проделках Анатоля», – там она совершенно другая, на себя не похожа. Здешние критики от нее без ума.
На комплименты не скупится, подумал я. Сразу после окончания спектакля меня пригласили познакомиться с труппой. Все актеры собрались в холле, своего рода гостиной, в дальнем конце студии. Все, кроме мисс Платов. Мы разговорились, а ее все не было. И тогда юный Коллинз предложил, чтобы все, кроме него, пошли в ближайший ресторан, а он дождется мисс Платов и приведет ее.
Мы медленно, не торопясь спустились с восьмого этажа, со мной рядом шла молодая актриса, с которой меня познакомили всего несколько минут назад. Не успели мы выйти на улицу, как появились Коллинз и мисс Платов – высокая, изящная, с движениями и грацией пантеры. И еще, это я заметил сразу, в ее голосе, когда она говорила не со сцены, была какая-то теплота, отзывчивость, что-то мягкое, мелодичное. Мы двинулись в сторону ресторана, но теперь с молодой актрисой шел Коллинз, а я – с мисс Платов. По пути мы о чем-то говорили: сейчас и не вспомню, о чем, – о спектакле, об актерах, о древних греках. Больше всего мне запомнилась не ее плавная, ритмичная походка, а энергия, порывистость молодости, легкость, жизнерадостность. От Андромахи у нее ничего не осталось, сейчас от нее веяло молодостью, она была красива и уверена в себе. В то же время было в ней что-то арабское, мне неведомое. Кто бы мог подумать, тем более предсказать, что в течение нескольких лет, зимой, весной, летом и осенью, мы будем неразлучны.
Ресторан, куда мы вскоре пришли, оказался пошловатым немецким заведением, обставленным под Средневековье. Коллинз тут же взял Сидонию под руку и усадил рядом с собой. Я сел напротив, рядом с молодой актрисой, той самой, с кем Коллинз шел в ресторан. Ее имени я не запомнил. В отличие от смуглой Сидонии с классическими чертами лица актриса была светловолоса и вид имела сугубо американский. Какие же разные были у них голоса! Актриса говорила сто слов в минуту, бойко, по-американски; у Сидонии же голос был мягкий, убаюкивающий. И еще одно различие. Сидевшая рядом со мной лихая платиновая блондинка была, сразу видно, очень сексуальна и умела себя подать, тогда как чувственность Сидонии была до времени скрыта, обнаруживала себя не сразу.
Она нравилась мне все больше, и я ловил себя на том, что время от времени встречаюсь с ней глазами. Да, наблюдал я за ней с интересом, однако на следующий день намеревался пригласить на ленч не ее, а блондинку. И хотя весь смысл завтрашнего ленча заключался в сексуальности мисс У. (назовем ее так), Сидония Платов привлекала меня куда больше, отчего, должен признаться, мои отношения с мисс У. не выиграли.
Мать Сидонии, рассказала мне мисс У., родом из Коннектикута и одно время работала то ли клерком, то ли стенографисткой. Мистер Платов, когда-то нищий галицийский еврей, впоследствии преуспел, остепенился и в Чикаго был фигурой весьма заметной.
Затем разговор зашел о режиссере Малого театра, и я вполуха слушал, как мисс У. им восторгается. Он был из Лондона. Или из Манчестера? Без средств к существованию, он сумел, однако, заинтересовать не только городских меценатов, но и молодых людей, мужчин и женщин, с актерскими способностями. Блондинке и впоследствии Коллинзу я дал понять, что режиссер этот очень меня заинтересовал, и вскоре после этого я был приглашен на деловую встречу в помещении театра. На этом чаепитии должны были присутствовать режиссер и его жена. В небольшой переговорной комнате, своеобразном салоне, я сошелся за чашкой чая с людьми самыми разными: поэтами, прозаиками, критиками, художниками, актерами, в том числе и с Сидонией.
В тот день она была в чем-то красном с черным и смотрелась полуиспанкой-полуамериканкой; короткие черные, цвета вороного крыла волосы обрамляли ее запоминающееся породистое овальное лицо и полную округлую шею.
Ее вид – и это при том, что собрались мы вовсе не развлекаться, – поразил и даже взволновал меня. Несмотря на всю важность нашей деловой встречи за круглым столом, где британский режиссер сидел напротив меня, излагал мне свои идеи и планы и отвечал на мои вопросы, я ни на минуту не упускал из виду эту девушку. Бесшумно передвигаясь у нас за спиной, она то задергивала шторы, то ставила цветы в вазу, то вносила какое-то блюдо и иногда замирала, вслушиваясь в то, о чем мы говорим.
Когда встреча подошла к концу, я к ней подошел.
– Судя по всему, вам не хотелось принимать участие в нашей беседе, – сказал я.
– Да, я обещала кое-чем помочь, к тому же немного опоздала.
– Я не спускал с вас глаз.
Она лишь улыбнулась.
– А сейчас, надо полагать, вы пойдете в ресторан ужинать, – сказал я.
– Да, меня пригласили.
– И поменять свои планы вы не можете?
– Ради чего?
– Не чего, а кого. Ради меня.
Она посмотрела на меня, а я посмотрел на нее. По ее словам, по дрогнувшим ресницам видно было, что она колеблется. А потом сказала:
– Хорошо, – так, будто это решение далось ей нелегко.
Я обрадовался – неожиданно для себя самого. Было во всей этой ситуации что-то забавное, веселое. Я предложил ей пройтись, и Сидония ответила:
– Хорошо, сейчас пойдем. Понимаете, мне надо пораньше вернуться, чтобы успеть загримироваться. В этой роли на грим уходит много времени.
И с этими словами она куда-то убежала и через минуту вернулась в долгополой синей пелерине и в темно-синей мальчишеской фетровой шляпе, лихо надвинутой на черные волосы и темно-карие глаза.
Как же прекрасен Чикаго зимним вечером! Темнеет рано. Шуршащий, похожий на пудру снег. И высоченные стены домов, и тысячи огней на бесконечно длинной, уходящей за горизонт, широченной набережной!
Я предложил пойти на юг, к озеру, мимо вокзала Иллинойс-Сентрал. Она шла со мной вровень, широким легким шагом. Мы вышли на берег, и на фоне ледяной черноты бурного озера она представилась мне каким-то бродягой, что смотрит не отрываясь на море жизни, то переливающееся на солнце, то погруженное во мрак. Мы поднялись на небольшой мост, перекинутый через железнодорожные пути, и она повернулась посмотреть на магию сверкающего огнями города.
– Прекрасный бы получился городской пейзаж, – сказала она. – Но он слишком тривиален – изобразить этот вид можно было бы только символически, вам не кажется?
– Верно. Так вы еще и картины пишете?
– О нет! Так, пытаюсь иногда нарисовать кое-что.
Эти слова она произнесла с такой юношеской снисходительностью, той непередаваемой снисходительностью, в которой заключаются сила и права молодости.
– Рисуете и играете в театре, – продолжал я, улыбнувшись.
– Да, играю, и довольно посредственно.
– Нет! Нет! Можете говорить что угодно, я вам все равно не поверю.
– Вот видите, мы только познакомились, а вы уже меня браните.
– Нет, восхищаюсь вами. Вероятно, еще и стихи пишете?
– Увы, нет. А очень бы хотелось.
– И танцуете.
– Ах как же я люблю танцевать! Хочу учиться танцам.
Мы подошли к ресторану, который находился на последнем этаже высокого здания. Глядя на тысячи огней внизу, о чем мы только не говорили! В Малом театре она всего год, но о ней только и разговоров, ее хвалят и драматурги, и поэты, и прозаики, и художники – очень, очень многие. Ее родители, мать особенно, всегда были противниками актерской профессии, хотели, чтобы Сидония, как и ее сестра, училась в каком-нибудь колледже на востоке. А она не хочет. Мечтает, поработав здесь, поехать в Нью-Йорк и устроиться в большой коммерческий театр. Разумеется, если родители не будут против.
И я представил себе птенца, что, испуганно озираясь, выглядывает из своего театрального гнезда, готовый испытать свои крылышки.
Я не мог отделаться от ощущения, что Сидония еще очень незрела, но своей прелестной поэтической незрелостью, девичьей неопытностью она импонировала мне. Да, еще совсем дитя, но умна, пытлива. Ах, беспредельная свежесть, энергия молодости! За спиной еще нет душевных травм и разочарований; впереди лишь надежда на счастье. Этой надеждой искрились ее глаза. Казалось, о жизни она мечтает интуитивно, совсем ее не зная. Но она много чего прочла – о да. Видно было, что она о многом догадывается, что-то подозревает, но чисто интуитивно. Оптимист по натуре, романтик, она гнала от себя все грубо материальное и верила только в красоту, в ее силу, в ее конечную победу. И почти тут же у меня родилась мечта. А что если, сказал я себе, помочь ей, просветить ее, чему-то научить? Почему бы и нет? Ведь так важно, чтобы с возрастом она не утратила своей детскости, романтики. Не мог бы я что-то для нее сделать? Стать ее другом, сохранить то, что в ней есть, и ничего не требовать взамен?
Между тем шел уже восьмой час, ей надо было торопиться в театр. Перед тем как выйти из ресторана, мы заговорили о будущем. Она должна снова со мной встретиться и побольше рассказать о себе. Меня всегда можно застать в библиотеке – я сижу там допоздна, если не иду ужинать в ресторан. А позвонить я ей не могу? Она дала мне свой адрес и домашний телефон.
У входа в театр мы расстались, но ненадолго: я поднялся в зрительный зал и еще раз посмотрел ту же пьесу, мне хотелось узнать о Сидонии побольше. После спектакля я вернулся к себе, сел работать, но, пока писал, продолжал о ней думать. И не столько об одинокой Андромахе Еврипида, сколько о совсем еще юной девушке в синей, до пола пелерине и в смешной фетровой шляпе.
И вот что еще вспомнилось мне в связи с нашей дружбой, которая с каждым днем становилась все тесней и тесней. Коллинз – тот самый, кто меня с ней познакомил, – побывал у меня после нашей последней встречи и признался, что очень к Сидонии привязан. По тому, как он о ней говорил, становилось ясно: хотя Коллинз женат и у него есть ребенок, Сидония – и как женщина, и как актриса – ему совсем не безразлична. Любопытно еще одно. О чем бы мы с Сидонией ни говорили, речь всякий раз заходила о Уэббе – правда, в легкой, непринужденной манере: Уэбб сказал то-то, Уэбб подумал так-то.
– По-моему, Сидония, – отважился я однажды задать ей этот каверзный вопрос после некоторого тревожного раздумья, – этот Уэбб Коллинз вам очень нравится. Я прав?
– Ах, Уэбб совершенный младенец, – ответила она как бы невзначай. – Да, он мне очень симпатичен, он такой добрый, такой благородный. И потом, он влюблен в театр и прекрасно в нем разбирается. В прошлом году он сыграл у нас пару второстепенных ролей, к тому же, помимо всякой другой работы, занимается нашими костюмами, нашим реквизитом и придает этому большое значение.
– Благородный! – повторил я за ней не без некоторой ревности, сам же подумал, что Коллинз и в самом деле обаятельный мужчина, и почему бы девушке, любой девушке, в него не влюбиться? В процессе нашего разговора выяснилось также, что ее дружба с Уэббом продолжается уже больше года. Впрочем, у меня не было никаких доказательств, что Уэбб для нее нечто большее, чем хороший, верный друг.
И вот как-то воскресным вечером, на вечеринке в квартире Коллинза, я познакомился с его женой и с несколькими талантливыми начинающими актерами. Гости громко, задиристо спорили, делились идеями и планами, наперебой цитировали известных людей, читали стихи, аплодировали, распевали песни. Девушки и юноши обменивались загадочными взглядами, смысл которых оставался мне непонятен.
Как же все они молоды и красивы! Забыт Нью-Йорк, забыты Аглая и Элизабет, все, с кем я еще совсем недавно был близок. Мне стало казаться, что здесь, в Чикаго, я пробуду еще очень долго, останусь навсегда. Причина номер один: Сидония. Причина номер два: юная цветущая блондинка, жена молодого издателя, которая сумела заставить меня забыть даже Сидонию – пусть всего на один вечер. Я заметил любопытство (а возможно, даже упрек) в глазах Сидонии, за нами наблюдавшей. И еще я заметил, что она с Коллинзом говорит вполголоса, как-то вкрадчиво и многозначительно.
Цветущую блондинку я подверг форменному допросу. Между ними только сейчас установилась такая близкая эмоциональная связь или же эта связь была и раньше?
– Вы что, не знаете, – сказала в ответ цветущая блондинка, – у них роман уже без малого год. Сельма (жена Коллинза) собирается даже из-за Сидонии с ним развестись.
Черт возьми! Проклятье! Я-то себе вообразил, что Сидония невинная овечка, боялся ей лишнее слово сказать: не дай бог, потревожу ее молодость, невинность. И на тебе: оказывается, она принадлежит другому, – кто бы мог подумать! Надо же быть таким романтическим ослом! Ну да бог с ней! На ней свет клином не сошелся! В Нью-Йорке меня ждут другие, ничуть не хуже. К тому же здесь у меня работа. Соберу материл – получится интересно. Пора бы угомониться. В конце концов, я ведь писатель и писателем останусь, ну а женщины – дело наживное!
И все же по дороге домой в отцовском автомобиле, присланном за ней и за ее друзьями, жившими в том же районе, мне было как-то не по себе. И когда последний ее знакомый вышел из машины и мы остались одни, она спросила:
– Не заедете ненадолго ко мне? Еще ведь не поздно.
– Боюсь, что нет. Дела, знаете ли. Не высадите меня на ближайшей остановке трамвая?
– Что ж, дело ваше, – с некоторым вызовом, даже с обидой отозвалась она. И, взяв в руку трубку, обратилась к водителю: – Уиллс, будьте добры, притормозите на остановке «Тридцать первая улица».
После чего надолго замолчала. А я всю оставшуюся дорогу мучился; какие только мысли – негодующие, печальные, жалостливые – не толпились у меня в голове.
Когда же до остановки «31-я улица» оставалось всего пару кварталов, до меня донеслись слова:
– Объясните, в чем дело? – Говорилось это с чувством, в голосе звучали трогательные, ласковые, скорбные нотки, и я почувствовал, что она внезапно и совершенно неожиданно ко мне расположилась. – Ах, что случилось? Почему вы ко мне так переменились? Вы за что-то на меня сердитесь?
– Я? Сержусь? За что мне на вас сердиться? Какое право я имею сердиться?
– Но вы ведь и в самом деле переменились: вы были совсем не таким, когда мы выходили из гостей.
– Вы находите?
Она отвернулась, и я видел, что в ней происходит какая-то нешуточная борьба. Значит, я ей все-таки небезразличен. Странно слышать от нее такие признания!
– Как бы то ни было, через пару дней я уезжаю из Чикаго. Должен вернуться в Нью-Йорк, у меня там полно дел.
Я ревновал, и тем не менее решил, если удастся, покончить со всей этой историей.
И тут она вдруг горько разрыдалась. Как же я был тронут этим бурным проявлением чувств, тоски, какого-то мучительного желания. Оно-то и тронуло меня больше всего. Что же она за существо такое? Она что же, влюблена в двух мужчин одновременно и собирается нас обоих водить за нос? Каково! Ничего страшного, уеду, и все кончится. И тут, продолжая рыдать, она, словно через силу, добавила:
– Что ж я такого сделала? А я-то думала, мы будем друзьями, близкими друзьями. – И она громко всхлипнула.
Наступит ли день, когда мужчина будет безразличен к женским слезам? Я – нет. Ее горькие, безутешные слезы вызвали у меня бурю эмоций, самых путаных, противоречивых мыслей, меня до глубины души проняла ее искренность, ее идущее от самого сердца девичье простодушие. В то же время меня мучила одна мысль: нет, вовсе она не невинна, как я думал, на самом деле это хитрая, коварная обманщица, себе на уме. Но отчего я так злюсь – ведь я не ждал от нее никаких милостей, не рассчитывал на них? Не оттого ли, что надеялся завоевать ее сердце?
Подобные мысли меня преследовали, не давали покоя, но ведь все решилось само собой. Она принадлежала Коллинзу, а может, и не ему одному. Вот и пусть ему принадлежит.
И тем не менее ее поэтическое, физическое обаяние, которое с самого начала так меня заинтриговало, никуда не делось. Даже сейчас достаточно было одного взгляда в свете уличного фонаря на ее лицо, на руки, которыми она закрывала глаза, на короткие черные спутанные волосы, падавшие на глаза, на шляпку на коленях.
– Скажите, что между вами и Уэббом Коллинзом? – прервал молчание я. – Насколько я помню, вы сказали, что он ваш друг, не более того, что вы испытываете к нему исключительно дружеские чувства.
– Так и есть! Так и есть! – Эти слова она произнесла без малейших колебаний, не задумавшись ни на мгновение. – Именно так, как я и сказала. Он мне нравится, и только.
– Сидония! Как вы можете говорить такое! После всего того, что я слышал сегодня вечером, чему я был свидетелем. Вы хотите сказать…
– Да, он мне нравится, и даже очень. И всегда будет нравиться. Но я его не люблю.
– И вы с ним не близки?
– Этого я не говорила. – И эту фразу она произнесла совершенно спокойно, как если бы обвинение в близости не имело никакого значения.
Забавно, что эта ситуация – если не считать моего ущемленного тщеславия, несостоявшейся мечты о ней – представляла для меня второстепенный интерес. Во мне словно соединились два человека. Один страдал от того, что рухнула его мечта о совершенстве; другой был ушлым и циничным соглядатаем, который прекрасно знал, что мечта о совершенстве ничего не стоит. И этот второй человек, глядя на Сидонию, с цинической ухмылкой наблюдал за ее страданиями и нисколько ей не сочувствовал. И его нисколько не заботило, что первый человек, находящийся рядом с ним, так мучается.
Всю оставшуюся дорогу она, не вдаваясь в детали, рассказывала мне, как они с Коллинзом познакомились, как он ей понравился и поэтому… Получилась история очень невеселая. Какой-то доброхот написал ее отцу, и тот призвал Коллинза и Сидонию к ответу. И Уэбб, в ее присутствии и по ее просьбе, во всем ее отцу признался и согласился развестись с женой и на Сидонии жениться.
После этого нелегкого разговора отец их простил, на браке настаивать не стал, посоветовал впредь вести себя благоразумнее и решил скрыть всю эту историю от матери. Когда же Сельма, жена Уэбба, узнала правду (посредством того же подметного письма), то, как и родители Сидонии, отнеслась ко всей этой истории довольно спокойно, потому что понимала: Уэбб еще очень молод и сам не знает, чего хочет. Но поскольку он больше жену не любил (осталась одна дружба), она решила с ним развестись.
Я все это слушал и расставался с романтическими иллюзиями, в том числе и своими собственными.
– Но вы ведь остались друзьями, иначе он не пригласил бы вас к себе домой в эту компанию.
– Конечно. Сельма мне нравится, да и я, по-моему, нравлюсь ей. Мы дружим.
– Но с Уэббом вы продолжаете встречаться?
– Нет, больше мы не встречаемся.
– И давно?
– Как вам сказать… С тех пор, как вы впервые появились в театре, если хотите знать.
– А почему?
– Потому что я думала, что, может быть, вам понравлюсь, а вы понравитесь мне. Я подумала, что вам будет неприятно, что мы с ним встречаемся. – И, помолчав, добавила: – Я давно собиралась вам об этом сказать, если вдруг спросите.
Ее простосердечие не могло меня не позабавить. Что ж, возможно, она и в самом деле не очень его любила. Должен сказать, что это юношеское простосердечие меня разоружило и, пожалуй, даже пленило. Да, что ни говори, а жизнь разочаровывает буквально на каждом шагу. Но, как я не раз повторяю, не мне жаловаться на жизнь. И тут у меня возникла соблазнительная мысль. Раз я ей так нравлюсь, о чем она мне прямо сказала, значит, у меня не будет препятствий для… Вы догадываетесь, что я хотел сказать.
Пока же она сидела рядом со мной, откинувшись на сиденье, и глаза ее были полны слез. Потом, придвинулась ко мне, спросила: если с Коллинзом у нее все позади, я останусь? Да, ответил я, да, тогда останусь. (А в голове у меня была некая вполне определенная мысль – какая, уверен, вы понимаете.) И тут ее охватило радостное возбуждение, столь бурное и неожиданное, что я даже встревожился: куда только девалась вся ее меланхолия, подавленное настроение. Что бы это могло значить?
Был уже второй час ночи, когда мы вышли из машины у дверей ее дома. Сидония бросилась включать всюду свет и побежала наверх рассказать отцу, или матери, или им обоим, что я привез ее домой и она даст мне выпить. Ко мне она вернулась в прекрасном настроении, чему, надо полагать, в немалой степени способствовали пудра и румяна, которыми она не преминула воспользоваться. По дому она порхала с таким видом, будто не знает – и никогда не узнает, – что такое жизненные невзгоды. В эти минуты она напоминала мне бархатистую, черную в серебре, беззаботно порхающую бабочку.
Вскоре на столе появились кофе, хлеб, сыр, пирожки и джем. А за столом сидела она и во все глаза смотрела, как я буду есть. Веселый пытливый взгляд карих глаз. И я сразу же испытал чувство, радостное и в то же время болезненное (ибо между восторгом и болью немало общего), что наши отношения претерпевают в эти минуты серьезные изменения. То же чувство, судя по ее учащенному дыханию, испытывала и она. Помню, как Сидония спросила меня, буду ли я продолжать работать в библиотеке. И я ответил утвердительно: мол, да, собираюсь, во всяком случае, еще некоторое время, – но зависит это от нее. Мы помолчали. А потом нас обоих внезапно охватило какое-то тревожное смятение.
И тут я взял ее изящную ручку обеими руками. Ей и правда важно, чтобы я остался? (Да, важно.) Она готова расстаться с Коллинзом? (Да, готова.) А как быть нам? (Она притворилась, что не поняла вопроса, и вперилась в пол.) Тогда я встал, подошел к ней сзади, нагнулся и, откинув ей назад голову, чтобы видеть выражение ее лица, погладил ее по шее и по щеке, отчего она вдруг снова горько заплакала: уронила голову на руки, тело ее содрогалось от неудержимых, истошных рыданий. Я отпустил ее голову. Как понимать эту нежданную бурю эмоций? Она обманывала меня, когда говорила, что равнодушна к Коллинзу? А ко мне? Как она относится ко мне?
Чего я только не говорил, чтобы привести ее в чувство! Если ей так хочется, мы останемся просто друзьями. И тут она вдруг встала и посмотрела на меня своими длинными озорными азиатскими глазами.
– Дорогой мой, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Я плачу, но это потому, что обещала себе и своему отцу, что, расставшись с Уэббом, никого никогда больше не полюблю. – Подбородок у нее дрожал. – Но это неважно, говорю же вам, сейчас это не имеет никакого значения. Ничего не могу с собой поделать; не обращайте внимания, это скоро пройдет. А сейчас вам лучше уйти, я ужасно волнуюсь. Завтра утром я приду к вам в библиотеку. Тогда и поговорим.
Сначала я было подумал, что она страдает от угрызений совести, раскаивается в своей связи с Коллинзом, но когда она подошла ко мне вплотную, положила мне голову на плечо и я пристально посмотрел ей в глаза, все мои сомнения развеялись.
Поцелуи и объятия. Она обнимает меня. А потом мы идем в центр города. Перестук колес товарных поездов, заунывные свистки далеких паровозов, нескончаемый ночной поток машин, от которых стоит звон в ушах. И неотвязные мысли – и по дороге, и потом, в постели. Получается, я и в самом деле заменил ей красавчика Коллинза? (Его бы это устроило, не правда ли?) Мне-то зачем все это? Как будто у меня и без нее мало романов! А как теперь быть с Элизабет и с Аглаей? И сколько времени мне еще жить в Чикаго? И как мои отношения с Сидонией скажутся на работе? Ведь я имею дело с молодостью, пылкой молодостью. Возможно, еще не поздно, я могу отступиться, объяснюсь, напишу покаянное письмо. Я думал об этом, когда шел по городу, когда лежал в постели. И понимал, что этого не сделаю. Я вспоминал, какой у нее был вид, когда, перегнувшись через стул, я гладил ее по щеке. Завтра, или послезавтра, или через два дня… Скоро, совсем скоро… И я погружался в мечты. Ни философия, ни мораль, ни религия тут не помогут – так уж устроен человек. Сколько бы мы, я в том числе, ни сердились, ни раскаивались, ни предавались сомнениям и страхам, ничего изменить все равно нельзя. И я, и Сидония, и Уэбб будем и впредь вести себя так, как себя ведем, какие бы препятствия, социальные или религиозные препоны, ни вставали у нас на пути.
И наутро она пришла. Когда мы встретились, от ее вчерашнего волнения, робости – того, чего я так боялся, – не осталось и следа. Она была радостна, весела, как будто ничего не произошло. И вопросов про меня не задавала. Мне всегда было интересно, отчего это происходит: по привычке или из-за какой-то задней мысли. Пришла и со всей чистосердечностью заявила, что сегодня делать ей, в общем, нечего, до семи она свободна. Не поехать ли нам куда-нибудь? Здесь неподалеку, в Индиане, есть красивое место, туда можно быстро доехать поездом. Песчаный берег озера, нанесенные ветром дюны, низкорослые кривые сосны. Поедем? Сегодня хмуро, ветрено, но на озере чайки, издали видны корабли. Чайки, вода и песок цвета меда. Мирно, красиво, живописно.
Договорились. И вот мы уже идем среди дюн с человеческий рост и покоробившихся сосен. Идем и говорим про «Скитания Ойсина», про «Парня из Шропшира». Или про некоего поэта Эрнеста Доусона, он умер уже лет двенадцать назад, а то и больше, и только теперь его тоненькая книжка стихов, особенно стихотворение «Синара», пришлась по вкусу впечатлительным любителям поэзии. Сидония взяла с собой Доусона и «Парня из Шропшира», чтобы почитать вслух.
Мы были далеко от города, говорили о высоком. И настроение, в котором она находилась накануне, забылось. Все вчерашнее куда-то подевалось – и не только для меня, но и для нее. Когда она читала мне вслух, я ощущал жаркое, расслабляющее предчувствие чего-то на нас надвигающегося. Что меня сдерживало? То ли озеро, дюны и сосны, то ли «Парень из Шропшира» и его родные места, то ли Доусон, который никак не мог забыть свою Синару.
На обратном пути с помощью непостижимой химии сексуального влечения мы добились чего-то совсем другого: податливой, утешительной, восприимчивой любви. И все-таки все происходящее казалось мне странным. Были ли мои любовные переживания так уж велики? Ведь теперь стало совершенно ясно: для Сидонии наши отношения были скорее духовными, чем плотскими, а значит, неизменными, тогда как неизменность, постоянство претили мне, не были мне свойственны. И это меня угнетало: моя ветреность в сравнении с ее прекраснодушным постоянством. В то же самое время, стоило мне с ней расстаться, задуматься о том, что она собой представляет, как меня вновь охватывали бурные, приближающиеся к экстазу любовные чувства.
Как же она хороша! Как же любвеобильна! И то в ней прекрасно, и это! Я был влюблен не на шутку, только о ней и думал – и на вечеринках, в гостях у кого-то из ее друзей, и во время долгих вечерних прогулок. Какой подъем я испытывал, когда мы встречались! Как же она была умна, прозорлива – точно свет в ночи! Как молода и вдохновенна! Как беззаботна и жизнерадостна!
А время меж тем шло, мои архивные разыскания подходили к концу, пора было возвращаться в Нью-Йорк. Ведь разве не в Нью-Йорке сосредоточились мои литературные и светские увлечения? Мои деловые и человеческие связи? Элизабет? Аглая? Из Нью-Йорка мне приходили письма, много писем. Вот только читал я их невнимательно, а иной раз откладывал, и вовсе не читая. Думал о том, как же сложна жизнь. И то сказать как бы ни был я привязан к Сидонии, Элизабет была одно время моей мечтой, моей усладой, пусть и мучительной, тягостной. И Аглая. И другие. Не мог я не думать и о том, как же сложны и вместе с тем забавны и увлекательны бывают эти многочисленные связи: – а ведь обществом они не поощряются, – не мог не думать, однако своих жизненных принципов не менял.
До моего отъезда было еще несколько недель, а Сидония уже раздумывала, как ей жить дальше; раздумывала и обращалась ко мне за советом. Как я догадывался (и даже боялся), она хотела, раз я уезжаю, как можно скорее тоже уехать в Нью-Йорк. Но как это устроить? Ведь в городе уже шли разговоры, что у нее со мной роман, и ее родители, заподозрив недоброе, задавали ей вопросы. В том случае если она решит ехать со мной, они могут (и наверняка это сделают) нанять детективов, платных агентов, которые поедут вслед за нами и установят за нами слежку.
Ее отец был человеком практичным, а ведь имелся еще и Коллинз: уж он-то знал, что происходит, мучился ревностью и пытал Сидонию, собирается ли она уехать, когда уеду я. И еще одно обстоятельство. Чтобы жить в Нью-Йорке и искать работу в театре, Сидонии потребуются деньги, и немалые, и если отец ее простит, его можно будет уговорить финансировать ее летнее путешествие. И тогда она ко мне приедет. Но о том, чтобы расстаться хотя бы на месяц, не могло быть и речи. Правда? Ведь я тоже так считаю? Не мог бы я пробыть здесь до мая? Я бы переехал в другую квартиру, и она бы ко мне потихоньку приходила. (Эти слова вызвали у меня улыбку.) А может, я не хочу здесь оставаться и ее разлюбил?.. Может, ей все бросить и поехать со мной?
Когда я задумался о практической стороне дела, она тут же пересмотрела свои планы. Ну что ж, ничего страшного! Не всю же жизнь играть в Малом театре! На этот счет никаких сомнений у нее нет. Нью-Йорк – совсем другое дело, тут поле деятельности гораздо шире. И если она хочет, чтобы из нее что-то получилось, с поездкой в Нью-Йорк затягивать не стоит. Поэтому, если я и в самом деле должен уехать, что ж, тогда она останется здесь, возможно – хотя ей будет это очень нелегко – до конца сезона, а тем временем попытается договориться с отцом, чтобы тот оплатил ее летнюю поездку в Нью-Йорк. В Нью-Йорке живет ее дядя, у нее там много друзей, сестра учится в колледже. И летом она возьмет и приедет ко мне – надолго ли, неизвестно. И Сидония от радости захлопала в ладоши. Летом ей наверняка удастся получить ангажемент, ведь правда? И тогда она сможет остаться в Нью-Йорке. Вот что значит оптимизм молодости!
Если память мне не изменяет, я пытался отговорить ее от этой затеи. Она же еще так молода. Проработай она под руководством своего наставника еще год-другой, ее талант окончательно бы сформировался, приобрел законченные черты, и ей было бы легче добиться успеха в театральном мире. Пока же она витает в облаках и, что еще хуже, разбрасывается. У нее слишком много достоинств: молодость, красота, редкая сообразительность, разносторонние способности. Она ведь не только играет на сцене, но еще и танцует, рисует, режет по дереву, а еще, о чем я догадывался, пишет. В ее письмах и записках, адресованных мне, чувствовались не только интуиция и ум, но и чувство слова – умение, которое дано далеко не каждому.
Но, что бы я там ни думал, наших планов – и моих, и ее – это не меняло. Одержимость – вот что владело нами обоими. Не вызывало сомнений только одно: в соответствии с контрактом, который она подписала годом раньше, ей необходимо доработать до конца сезона. Впрочем, и этот план вряд ли был бы реализован, если бы незадолго до моего отъезда ситуация не изменилась. Малому театру, впервые в его истории, предстояло отправиться на гастроли. Дело в том, что за время существования Малого театра подобные труппы появились и в других городах: в Филадельфии, в Бостоне. Заинтригованные успехом чикагской труппы, филадельфийский и бостонский театры пригласили к себе режиссера и актеров Малого театра; мало того – взяли на себя все расходы. В Бостоне Малый театр ждали в начале апреля, поездка в Филадельфию планировалась на более поздний срок.
Перспектива – лучше не придумаешь. Сидония была сама не своя от счастья, да и ее родители о таком повороте событий не могли и помыслить. Неужели едет вся труппа? Какая удача! Теперь, когда гастроли намечались на самое ближайшее время, я мог со спокойной душой собраться в дорогу. Сидонии было не до меня – и слава богу! Таким образом, в моем распоряжении был примерно месяц, чтобы успеть вернуться в Нью-Йорк, устроить дела, личные в том числе, и подготовиться к ее приезду.
В моей жизни не было еще ни одного месяца, когда бы мне понадобилось столько такта и дипломатичности. Какие трудности приходилось преодолевать! Сколько врать! Но мне бы не помогли никакие ухищрения, если бы мои подруги, женщины решительные и своевольные, к этому времени во мне не изверились.
Их чувства. Их желания. Желания любого человека. Мои в том числе. Один страдает, сетует на жизнь – и подчиняется воле другого, действует по его указке. Как себя поведет он или она? Позвонит по телефону? Напишет? Будет волноваться? Где сейчас он или она? Что делает? С кем разговаривает, шутит – пока ты, я ждем, мечтаем, страдаем, терпим?
Как же часто я, как и любой другой, подвергался этой чудовищной пытке! И, несмотря на все эти мучения, довольствовался теми крохами, которыми меня удостаивали. Как и любой другой на моем месте.
Сидония написала мне, что в апреле выезжает в Бостон через Олбани в сопровождении режиссера и его жены: они обещали ее родителям за ней присмотреть. Хотя за ней скорее всего будет установлена слежка, ситуация – писала она мне незадолго до отъезда – совсем не так плоха. В труппе было по крайней мере две девушки, которые отказывались ехать, если и за ними тоже будут присматривать, и Сидония решила этим воспользоваться: они будут приглашать друг друга к себе в номер или договорятся идти вместе по магазинам – сами же вместо этого отправятся на свидание. Моя задача – быть в Бостоне, когда они приедут, все остальное мы уладим. Разобравшись, как обстоит дело, я решил, что встречаться с Сидонией мы будем в старой неприглядной гостинице неподалеку от театра, где им предстояло играть.
Хорошо помню этот сырой апрельский день. Снег с дождем, серое, нависшее над городом небо. Узкие, извилистые улочки старого Бостона: Фэнл-холл, Старая Южная церковь, а невдалеке Бостон-Коммон. (Чтобы не рисковать, я был вынужден подыскать самую обшарпанную из всех бостонских гостиниц.) Да, место унылое, заброшенное, но каким светлым, живым, радостным оно нам казалось! Здесь мы скрывались от всего света в самое необычное время. К каким уловкам прибегала Сидония, чтобы быть со мной в эти часы, не могу себе представить. Любовь – странная штука. Помню, как, регистрируясь в этой гостинице, я думал о том, каково будет здесь Сидонии после своего уютного, обжитого чикагского дома, после театрального мира, в котором она вращалась. Скрипучая лестница. Пыльные ковры и шторы. Ветхая, с выцветшей обивкой мебель: причудливая, или живописная, или никуда не годная – это уж как кому. Сидонии нравилось: «Потрясающе! Божественно! Да, любимый?» И когда она приходила сюда или возвращалась отсюда к себе в отель, со мной или без меня, она обязательно делала наброски с натуры, и я обязательно должен был их вместе с ней рассматривать. А какие живописные места вокруг! Темные маленькие лавчонки и ресторанчики. С Чикаго ничего общего! Такие затейливые, такие чудесные. Помню свои чувства и переживания, помню их так же хорошо, как и наши встречи. Головокружительные минуты, когда мы рука об руку бродили по городу, разглядывая то какой-то магазинчик, то забегаловку, которые она обнаружила и мне расписывала. Чувство близкого человека – если только оно глубокое и проникновенное – охватывает тебя, точно облачает в пышный, многоцветный наряд, точно венчает золотой короной, звучит в сердце, будто песня, рассеивает любые тени, бросает свет – пляшущий, струящийся, переливающийся.
И то сказать: жизнь, точно золотой или многоцветный поток, обрушивается на нас, окрашивает наш характер, преображает его. То же и счастье: преображает нас и оно. Здесь, в этой неказистой старомодной гостинице, с этой жизнелюбивой затейливой девушкой я ощущал себя умственно и эмоционально озаренным, точно светом, проникающим сквозь какой-то чудодейственный витраж.
Многомерность и проникновенность ее мысли. Ее восприимчивость ко всему, что только есть в природе. Уверенность, с какой она оценивала жизнь, все излечимые и неизлечимые жизненные невзгоды. Люди недалекие живут с иллюзией, что постижение истины, искусства достигается опытом и кропотливым обучением. Это неверно. С каким восторгом слушал я глубокие, тонкие наблюдения над жизнью той, чье образование было еще в зачаточном состоянии.
За эту неделю в нашей с ней жизни возникло то колдовство, что связало нас надолго. Я так сжился с ней, она была так мне близка и по настроению, и по образу мысли, что, когда она уходила, жизнь теряла для меня всякий смысл. В этом сером холодном мире она являлась мне чем-то вроде жаркого пламени. Войдет, позванивая золотыми или нефритовыми серьгами с экзотическим узором, закутавшись в шаль, или в коротком шелковом сером плаще и шапочке, которая очень ей шла. Бросит на стул книгу или сверток и буквально с порога кинется мне в объятия, лепеча какую-то безделицу. Расскажет, что произошло за день и как она меня любит. «Ах какой же у меня был вчера интересный вечер! Знал бы ты, что про меня вчера написали в газете!» Или примется рассказывать, как молодые актеры их труппы встречались с группой студентов.
– Они бросились нас развлекать!
– И тебе никто из них не приглянулся, признавайся?
– Никто!
– А ты им?
– Не валяй дурака! Говорю же – нет!
И все же, как я и предполагал, одному студенту она так-таки приглянулась. После премьеры он стал за ней ухаживать, не отходил от нее ни на шаг. И накануне послал ей цветы, о чем она умолчала, а потом призналась, что передарила их жене режиссера. И все, больше ничего не было. Как я мог ее заподозрить? Да и потом, не может же она избегать встреч с такими людьми!
Я, разумеется, ее приревновал. Мучился лютой ревностью, злился. Черт возьми! Да еще на гастролях! Он молод, как и она. И наверняка хорош собой: красавчик вроде Коллинза. Она флиртует! Водит меня за нос! Обманщица! Так уж она устроена. Не может с собой справиться. И не хочет. И в ту же минуту я заявил, что уезжаю из Бостона. Да и зачем мне здесь оставаться? На мне свет клином не сошелся. Сказала, что четыре вечера подряд вынуждена будет провести с подругами. Или с другом?
Ну а я, пока она встречалась с подругами, бродил по городу с мрачными мыслями или же целыми днями работал, пока она наконец не объявилась и не рассеяла все мои сомнения – по крайней мере, на какое-то время.
Неделя пролетела незаметно. Ей предстояла поездка в Филадельфию, у нас оставалось только два вечера, но и те были у нее заняты – она должна была встретиться с сестрой. Эти вечера я провел в скорбном одиночестве, в надежде на свидание в дневное время, ожидая, что она найдет час-другой приехать ко мне в отель.
Из-за ревности (а может, вопреки ей) мое желание увеличилось еще больше, я ни на минуту не забывал о ее жестах, чувствах, мыслях, таких непохожих на чувства и мысли других. Я был не в силах смотреть на ее походку – твердую и в то же время плавную, кошачью, – не испытывая мучительного желания. Когда я видел ее улыбку, в которой сквозили искренность, прямодушие, блестящий ум, меня подмывало в ту же секунду задушить ее в объятиях и ни за что не отпускать – в эти мгновения мне нужна была только она одна. Какое же удовольствие доставляли мне ее наблюдения, броские, эмоциональные высказывания об общих знакомых, о людях вообще. Она была не только умна, но и проницательна, и в то же время в ее замечаниях чувствовалась творческая жилка, отцовский практицизм был ей чужд. У меня создалось впечатление, что она готова порвать с родителями, со сценой – если бы только я на этом настоял. Она мечтала о нашем идеальном, нерасторжимом союзе, который будет длиться вечно. Будущее рисовалось ей чем-то поэтическим, головокружительным, не от мира сего. Но в Чикаго она должна вернуться обязательно: если не вернется, родители ей этого не простят. Однако в Нью-Йорк она приедет – в июне самое позднее. За неделю, проведенную в Бостоне, она побывала в нескольких театральных агентствах, встречалась с импресарио, директорами театров, и несколько человек проявили к ней интерес – во всяком случае, так ей показалось. И если с ней подпишут контракт, то мы будем неразлучны. Но даже если контракта не будет, она в Нью-Йорке останется все равно, что-нибудь придумает. В любом случае нам необходимо снять студию. Моя квартира ей не нравилась. Ну а потом… потом…
Сколько раз я объяснял ей, что мои средства ограничены и нам придется довольствоваться малым, но ее это нисколько не смущало: отец назначит ей содержание, она будет получать зарплату плюс мои гонорары! «Проживем!» Я смотрел в ее молодые глаза и любил ее за молодость, за оптимизм, за бесстрашие – даже за ее безрассудство.
Миновали апрель (последние дни месяца) и май. Сколько же писем я получил за это время от Сидонии! Отец был против ее поездки в Нью-Йорк, а если она все же поедет, то остановится у двоюродной сестры. Проблем было много, но Сидония не отчаивалась; не отчаивался и я. (Где-то у меня завалялась целая пачка ее замечательных писем, они, живые, непосредственные, были мне тогда очень дороги, и я их не выбрасывал.)
Наступил июнь, и в первых числах месяца Сидония приехала, остановилась в большой квартире на Риверсайд-драйв, куда я и направился с «официальным визитом». Поехать встречать ее на вокзал я не решился – позвонил по телефону узнать, прибыл ли поезд. Наконец-то я слышу ее голос, приглашение прийти. Почему бы и нет? «Ты ведь познакомился в Чикаго с моей двоюродной сестрой?»
Тот, первый, вечер я запомнил на всю жизнь. Настежь распахнутые окна, на столе цветы, и ее белоснежное, переливающееся на солнце платье, в котором она – не задумываясь о том, что ее бдительные родственники наверняка заметят, как лихорадочно блестят у нее глаза и как покраснела шея под густыми черными волосами, – бросилась со всех ног открывать мне дверь.
У нее созрел план. Ах, замечательный план! Она уговорила подругу поехать вместе с ней на восток. А поскольку Сидония собиралась завести знакомства в театральном мире, они договорились, что снимут номер на двоих в самом центре Нью-Йорка, в отеле «Брефоорт», неподалеку от Вашингтон-сквер – любимых мест Сидонии. И тогда она сможет собой располагать.
Я сразу же подумал, что эти планы вряд ли будут способствовать развитию ее недюжинных способностей, и это не могло меня не беспокоить. Но как же она была прелестна! Как соблазнительна! Мало ли, что я думаю, в Чикаго, на сцене Малого театра, она была безупречна. А чем бы я мог помочь ей в Нью-Йорке?
Какая разница! Поскорей бы нам увидеться наедине! Приехала она в четверг, а в пятницу, самое позднее в субботу, ее подруга снимет им номер в «Брефоорте», и Сидония скажет своим родственникам, что переедет к ней на выходные. И тогда…
И вот на следующий день я получаю телеграмму. Она – в «Брефоорте», у подруги. И у них не двухместный номер, а два одноместных. «Приедешь?» По дороге я прикидывал, какие есть поблизости живописные места на побережье, места, что ассоциировались у меня с летом и любовными утехами.
Приезжаю в отель, а ее нет. И не оставила никакой записки. И это после срочной телеграммы! Странно, подумал я, но решил, что у нее, должно быть, какие-то срочные театральные переговоры… Возвращаюсь в отель через два часа: Сидония у себя в номере! Свежа как летняя роза, проспала два часа! Понятия не имела, что я приходил, даже начинала уже волноваться – куда это я запропастился. Мы оба покатывались со смеху: надо же было такому случиться! Боже, какая напасть! Какой ужас! «Обними же меня!» Не поехать ли нам куда-нибудь до понедельника? Она бросилась в мои объятия. Решено: мы уплывем далеко-далеко на нашем любовном корабле. Но к какому берегу пристанем – вот в чем вопрос.
Не прошло и часа, как я предложил ей несколько вариантов, в том числе романтический: живописные окрестности уже тогда несудоходного канала в Нью-Джерси; несколько лет назад я там побывал. Канал соединял Делавэр с Гудзоном и с тех пор пришел в полный упадок, не выдержал конкуренции с проложенной по берегу железной дорогой. Дух соперничества воды и рельсов существовал уже тогда, но и в те дни двух-трехдневное плавание по каналу на буксире до Скрентона было большим удовольствием. Помню маленькие гавани, где разгружались и загружались грузовые суда, петляющую водную гладь канала, лесистые берега, цветы у кромки воды. Помню уток и гусей с окрестных ферм, подходивших к самой воде, выкрашенные в яркие цвета каноэ с любителями гребли, а также проржавевшие суда прошлого века, что стояли, пришвартованные у берега, на вечном причале.
Пока я все это рассказывал, Сидония, приплясывая от радости, выбросила из своей дорожной сумки вещи, пригодные для загородной поездки, и не прошло и нескольких минут, как была совершенно готова. Мы успели на поезд до Маунтин-Вью и вышли на станции буквально в нескольких шагах от канала, а оттуда по извивающейся тропинке, мимо скрывающихся за деревьями, утопающих в зелени коттеджей и ферм направились в Бунтон – сущий рай на земле. Шли берегом и засматривались, как я уже говорил, на разноцветные каноэ, на приютившихся под деревьями влюбленных, на лебедей и на брошенные баржи, время от времени выраставшие из воды. По дороге Сидония собирала цветы и то и дело вскрикивала от радости. Райские места, что и говорить! Сегодня вечером мы поужинаем чем бог послал в одном из этих прибрежных коттеджей. Не дадут же нам умереть с голоду! Она их, фермеров, очень попросит! Не хочу ли я провести с ней ночь в стоге сена, если таковой найдется? «Что скажешь?»
Мы прошли пару миль и опустились на траву у самого берега. Она положила мою голову себе на колени и, смеясь, принялась щекотать мне нос и уши травинкой тимофеевки.
– Ты встречалась с Коллинзом по возвращении? Сдержала слово или нет, признавайся?
– Ох, бедный Уэбб! Мне так его жаль. Он такой мечтатель, такой беспомощный.
В том, как она это говорила, было что-то забавно-снисходительное и в то же время сочувственное. Вместе с тем в выражении ее лица, в голосе ощущалась какая-то тревожная, ностальгическая нота, чего раньше, когда речь заходила о Чикаго или о Коллинзе, я ни разу не замечал. На мой вопрос, однако же, я ответа не получил. Вместо этого она посмотрела на небо, а не на меня, и это очень меня обеспокоило – почему, я тогда еще не отдавал себе отчета.
– Ты мне не ответила. Ты виделась с ним или нет, любимая?
Она молчала. Молчание длилось не больше минуты, но эта минута показалась мне вечностью. И эти глаза… Черт побери, она говорит правду или лжет?
Я пришел в ярость. Ярость вместе с уязвленной ревностью, одержимостью. Жизнь – вечная борьба! Смертельная схватка! Вот теперь и я замешан в этой схватке. Но почему? Почему? А потому что я, вопреки самому себе, поддался ей, дал себя растревожить. И вот теперь надо мной смеются, издеваются, водят за нос!
Сейчас она, конечно же, расплачется. Наверняка! О да! А почему бы и нет? Сначала ведет себя, как ей заблагорассудится, а потом смывает грешки слезами. Нет, не бывать этому! Неужели она могла подумать, что я стану ее с кем-то делить? А впрочем, на что может рассчитывать сорокадвухлетний мужчина? Не на что! Все вздор! Вся эта романтическая прогулка, воскресный вечер. Все кончено! Забыть навсегда! Мы возвращаемся в Нью-Йорк – или возвращаюсь я один. И никуда я больше с ней не поеду! Никуда и никогда!
– Прекрасно! – воскликнул я, закипая. Давно уже не приходил я в такую ярость. – Все кончено! Можешь и дальше крутить с ним любовь. Мне надоело! Я возвращаюсь в Нью-Йорк, а ты езжай куда хочешь и с кем хочешь – только не со мной! – И с этими словами я вскочил и зашагал по тропинке к деревне.
Не успел я сделать и нескольких шагов, как Сидония – она мгновенно поняла, чем рискует, – догнала меня. В глазах стоит животный ужас, лицо мертвенно-бледное, обезображенное, как лица древнегреческих героев, которых она так убедительно изображала на сцене.
– Любимый! Нет, нет! Подожди! Дай мне сказать! Я расскажу тебе, как было дело, любимый! Я люблю тебя! Правда! Правда! Поверь! Это все от сочувствия, жалости к нему. Какая же я дура, теперь я понимаю. Ах, прости меня! Прости! Меня захлестнули чувства, но это только потому, что я его пожалела, а не потому что люблю. Ты не веришь мне? О поверь! Пожалуйста! Не уходи, любимый, прошу тебя! Подожди! Дай мне сказать! Любимый, подожди! Ты должен понять. Любимый, прошу тебя!
Какой голос! Какое бесподобное искусство убеждения, которое так поразило меня в Чикаго, когда я впервые увидел ее на сцене! Безумие, которое ее охватило, было более чем убедительным: оно потрясало, завораживало, гипнотизировало. В ее напряженном взгляде стояли слезы, губы дрожали, точно у какого-то обезумевшего существа.
Я не сводил с нее глаз: в моем взгляде, вне сомнения, была насмешка, но в то же самое время – чудовищная боль и гнев. Боль от любви. Гнев от любви. Пока я шел, а она говорила, мне вдруг стало не по себе: ее тоска, казалось, передалась и мне, угнетала меня, валила с ног. Мне хотелось остановиться, мне было не по силам идти дальше. Без нее я чувствовал себя опустошенным, брошенным. Смогу ли я продолжить путь? Перенести случившееся?
На ногах были будто гири, тяжело было и на сердце я шел с трудом, из последних сил, и из-за этого не мог ее не слушать. Допустим даже, у нее есть оправдание, но что с того? Как же она лжет! А я, ничтожество, слабак, ей поверил. Нет, ни за что не стану ей верить!
Мы говорим, а у наших ног плещется вода, на деревья падают длинные тени от заходящего солнца; чудесный июньский вечер. Вот жужжит пчела, пролетела, шумя крыльями, птица. Но как все это стало теперь безрадостно. У меня словно украли всю эту первозданную красоту, погубили, втоптали в грязь. А Сидония между тем все говорила и говорила: нет, она не любит Коллинза, она его жалеет – оттого все и произошло. Он умолял ее, обнимал, плакал. А она – она не хотела быть жестокой…
А как давно это было? Дней за восемь до ее отъезда в Нью-Йорк. Нет, не за восемь, а за один-два дня. Нет, за восемь. «О, поверь, поверь мне, пожалуйста!» (Ни за что не поверю. Ничего не чувствую, кроме пронзительной боли.) Что же теперь будет? Она с ним рассталась? Да, она все ему сказала. Сказала, что их отношения должны кончиться. А они кончились? Она дала ему понять, что все кончено? Да, да, но он был так настойчив, так страдал. Он писал ей. Ага, любовные письма! Да, писал письма. И ни на одно письмо она не ответила. Ни на одно!
Дьявол! И я опять порывался уйти. И она опять стала клясться, умолять. Никогда, никогда, никогда не станет она переписываться с Коллинзом! Никогда! Сегодня же напишет ему последний раз. И на этом – конец. И с этой минуты он оставит нас – и ее, и меня – в покое. Но тут я решил вмешаться и выяснить, говорит она правду или нет. Потребую от нее, решил я, показать мне письма Коллинза и заставлю написать ему ответ (под мою диктовку), после чего в их отношениях будет поставлена точка – во всяком случае, со стороны Сидонии. Не вдаваясь в подробности, я предложил ей этот план, и, к моему удивлению, она согласилась, причем без всяких колебаний. Да, да, да. Она покажет мне его письма и напишет то, что я ей скажу. «Только, пожалуйста, пожалуйста, не сердись, не злобствуй. И больше не говори, да так грубо, жестоко, что мы расстанемся!»
Прекрасный воскресный день пошел насмарку. Мы вернулись в Нью-Йорк, вошли в ее номер, и я тут же занялся письмами Коллинза. Перечитал их и убедился, что боялся не зря. Но Сидония сдержала слово: села за стол и написала ему ровно то, что я ей продиктовал, – в моем присутствии, но с ее согласия и одобрения. Написала, что с этого дня между ними все кончено, ни встречаться, ни даже переписываться они больше не будут: она любит только меня. Когда письмо было подписано, запечатано и передано коридорному, Сидония посмотрела на меня глазами, полными слез, потом подошла ко мне … а утром – поздним утром – мы вновь отправились на этот прелестный канал.
И то сказать: нам ведь так хорошо, зачем же расставаться. И больше мы не ссорились. Ездили за город, собирали цветы, любовались природой, находили чудесные живописные лужайки, лежали в траве и предавались мечтам. Хорошо помню скромные уютные маленькие гостиницы, где мы оставались на ночь, коттеджи и пансионы, где нас кормили. Как же хорошо было нам вместе! Было и будет.
Так протекали дни, много дней. В памяти остались незабываемые картины необузданной, многоцветной, бьющей через край, ослепительной красоты, переливающейся всеми цветами радуги: лиловым, синим, коричневым и зеленым, с мимолетным проблеском красного или белого. Никакой тени; в часы нашей близости теней не было. Напротив того, меня поражало буйство фантазии, на которую способна только природа, человеку, его творческому порыву, такая безудержная фантазия недоступна.
За первые полгода, проведенные с Сидонией, я пришел к выводу, что, если только она не увлечется чем-то по-настоящему, то будет и впредь из-за бьющего через край воображения, точно пчела, перелетать с одного цветка-искусства на другой, в результате чего ничем всерьез не займется и, соответственно, ни в одном из своих начинаний не добьется ощутимого успеха. Стоило ей убедиться, что подходящая роль ей в ближайшее время не достанется, как она, вместо того чтобы добиваться других ролей, увлеклась танцами, пением, живописью. Тем более что не сомневалась: в театральном мире умение танцевать и петь котируется высоко. И тут она была совершенно права. Больше всего меня беспокоило, что ее внезапное увлечение живописью, каким бы сильным оно ни было, с ее сценическими амбициями напрямую никак не связано. А увлечение это было и в самом деле очень сильным. Ее наброски отличались живостью и затейливостью. Написанный ею канал напоминал пейзажную живопись Констебла. Обстановка сельского дома или нью-йоркской квартиры – Вермеера. Она любила писать дома и улицы Нью-Йорка или какую-то сценку на берегу реки.
– Встань перед зеркалом и нарисуй автопортрет, – посоветовал я ей. – Получится здорово.
И она меня послушалась.
Порисует час-другой, перемажется краской с ног до головы, а потом, сославшись на то, что работы еще непочатый край, закроет мольберт и добавит: «У нас ведь с тобой еще полно дел». Как ни был я к ней привязан, ее слова вызывали у меня раздражение. В самом деле, если ей так нравится рисовать, так пусть бы занималась живописью всерьез, наверняка стала бы известной художницей. Но нет, вдруг ни с того ни с сего увлечется пением. Нашла учителя, который подготовил по меньшей мере два десятка известных певцов, и поделилась со мной своей радостью: учитель сказал, что у нее большое будущее, и она уже взяла в аренду на месяц пианино. Еще маэстро сказал, что у нее глубокий и сильный голос – «богатое контральто», и заверил ее, что если она будет брать уроки пения и первое время петь в хоре, то самое большее лет через пять станет настоящей оперной дивой – он ей это гарантирует.
– Прелестно! Лучше некуда! – Я покачал головой. – А как же твоя карьера актрисы?
– Что же я могу поделать, дорогой? Сам же видишь, как это сложно, любимый, особенно теперь. Разумеется, я встречаюсь с нужными людьми, кое с кем подружилась. Но надо будет подождать, пока я им понадоблюсь. Кроме того, я же люблю тебя, мой хороший, и, пока не разлюблю, для меня нет ничего важнее.
– Пока не разлюбишь?
– Да, нет ничего важнее. И, пожалуйста, не… я не хотела сказать ничего плохого…
(Тут в моей рукописи отсутствует страница.)
Помню, как однажды она обняла меня, начала плакать и причитать:
– Мы… наша жизнь… наша мечта, как по волшебству, родилась из ничего… чего еще желать? Театр? Ерунда! Великие актрисы приходят и уходят. Главное, чтобы мы с тобой были вместе, а сцена – дело наживное!
То же самое говорилось и о пении. Или о живописи:
– Зачем мне все это без тебя… – И опять в глазах слезы: слезы восторга, благодарности. Отчего только она ни рыдала!
– Но послушай, Сидония, ты что, и правда раздумала играть в театре? И это после такого успеха в Чикаго! Очень надеюсь, что я тут ни при чем. Было бы ужасно, если б я тебе помешал…
– Нет, конечно, нет, любимый! Разве я тебе об этом только что не сказала? Но пока я жду, чтобы у меня появились новые связи (сейчас, сам знаешь, меня преследуют неудачи), почему бы мне не писать картины, не заниматься пением или танцами?..
– Да, я знаю, и я бы ничего не имел против, если б ты так не разбрасывалась: в искусстве заниматься двумя, тем более тремя вещами одновременно, нельзя. Только преданность профессии приносит успех. – Сколько раз я ее таким образом учил жить!
В тогдашней нашей жизни произошло еще два памятных события. Однажды на выходные мы в очередной раз отправились на наш канал. Долго гуляли живописным берегом, дошли чуть ли не до самого Стрентона, приблизились к Делавэрскому ущелью и в воскресенье вечером, как обычно, вернулись обратно. Когда мы приближались к нашей студии, Сидония – в руках у нее был букет диких цветов – вдруг, будто в исступлении, вскричала:
– Подумать только! Это же папочка! Он приехал к нам! О боже, боже, как чудесно!
И она, передав мне цветы, бросилась бежать, я же в недоумении, совершенно озадаченный, стал оглядываться по сторонам, где же «папочка». Его нежданный визит, как видно, необычайно обрадовал Сидонию, чего не могу сказать о себе. Я напрягся, раздумывая, что сулит нам его появление. И тут, на некотором расстоянии, в тени, я его увидел. Худой, поджарый, не седой, лет пятидесяти с лишним, вид суровый, держится с достоинством. С ним рядом Сидония: обхватила отца за шею и пригибает его голову к себе. На улице было тихо, и до меня донесся ее голос:
– Папочка, дорогой! Откуда ты? Ты давно здесь? Ждешь нас?
Я стоял и в замешательстве наблюдал за тем, как она мгновенно овладела непростой ситуацией. Интересно, чем это кончится, думал я, ведь, хоть он ее и любит и удивлен столь бурным проявлением дочерних чувств, она была не одна! Мое появление наверняка удивит его ничуть не меньше.
И тем не менее я сдвинулся с места и подошел ближе, однако отец и дочь, по всей видимости, заметили меня не сразу. Спустя минуту Сидония повернулась и воскликнула:
– Дорогой! Это мой отец! Правда, здорово, что он приехал! Ах, я так счастлива!
Посмотрим, счастлив ли будет он. Я, однако, протянул ему руку, и Платов, хоть и не сразу, ее пожал. Меня, как никогда, изумила поразительная сила ее эмоционального натиска, то, как она – уж не знаю, сознательно или нет – сумела утопить эту неловкую ситуацию в мощной волне чувства, к чему Платов оказался совершенно не готов. Он был озадачен, агрессивен и печален в одно и то же время и, хотя понимал, что его скорее всего обвели вокруг пальца, делал все возможное, чтобы не выдать своих чувств. Но разве можно оставаться уравновешенным, когда имеешь дело с Сидонией? Когда она безудержно веселилась или, наоборот, тосковала, я оказывался в том же положении, что и Платов. Да, в своенравии, непостоянстве отказать ей было никак нельзя.
Не прошло и минуты, как она, схватив отца за руку, втолкнула нас обоих в лифт, и мы поднялись в нашу студию. Как только мы вошли – а было уже почти десять вечера, – она бросилась зажигать свечи. Платов же, пребывая в нерешительности, заговорил о том, что безуспешно пытался ей дозвониться и в субботу и сегодня.
– Но откуда у тебя этот адрес, папочка? – поинтересовалась его ненаглядная дочь. – Как же хорошо, что ты приехал! Ах, я так без тебя скучала! Ты получил все мои письма?
Надо же было до такого додуматься! – воскликнул я про себя. Ничего лучше не придумаешь! Я молчал и внимательно наблюдал за происходящим. Платов же, не обращая внимания на нежные чувства дочери, повернулся ко мне и сказал:
– Ну а вы? Что вы скажете в свое оправдание? Как вы могли так себя повести, зная, как это скажется на общественном и моральном облике моей дочери? – Его голос дрожал, он явно очень нервничал.
– Значит, по-вашему, мистер Платов, я один виноват в поведении Сидонии? – Я не постеснялся задать ему этот риторический вопрос, решив, что, в случае чего, защищаться буду до последнего. – Она ведь уже не ребенок, да и человек неординарный. И не только я повлиял на нее, но и она на меня. Кроме того, – добавил я и, прежде чем сказать, задумался, как Сидония и ее отец воспримут мои слова, – вы ведь знаете не хуже меня, что я не первый мужчина, которого… она любит.
Не успел я устыдиться сказанного, пожалеть о своих словах, как Сидония меня перебила:
– Да, папочка, еще в Чикаго я все ему рассказала про Уэбба.
И тут, к своему искреннему удивлению, я заметил что возмущение мистера Платова сходит на нет: он густо покраснел, и от решительного вида, с которым только что ко мне обратился, не осталось и следа. То ли взяли верх отцовские чувства, то ли он понял, что напрасно понадеялся, что я возьму всю ответственность на себя, но я почувствовал и даже увидел воочию, что он вдруг очень расстроился.
– Да, я знаю, – произнес он едва слышно, – Сидония всегда была девушкой своенравной. Как я ни старался, мне с ней было не справиться. Я связывал с ней большие надежды…
И тут Платов окончательно сник и отвернулся: не смог справиться со своими чувствами. И в ту же минуту Сидония вновь его обняла.
– Ах, папочка, прошу тебя, перестань! Все ведь не так уж плохо. Я очень люблю Т., очень! И я так с ним счастлива, не могу тебе передать! Все мои надежды и чаяния связаны теперь с ним. Он столько всего для меня делает.
Она прижимала к груди его голову, гладила по щеке, по волосам. Мне же ничего не оставалось, как молчать. Так переживать за свою дочь! Питать такие иллюзии в соответствии с общепринятой общественной моралью! Я встал и направился к нему, но Сидония по-прежнему стояла между нами. И тут Платов заговорил опять:
– Да, я все знаю, Сидония. Но ведь ты еще совсем ребенок. Ты далеко не все понимаешь. И не можешь пока понять. А если ты ему надоешь, что тогда? Он выставит тебя на улицу, как последнюю девицу, что пустилась во все тяжкие.
Он осекся, его душили слезы, при этом в его голосе слышалось раздражение. Я же испытал некоторое разочарование от этого неприхотливого, старомодного представления о судьбе своенравной дочери. Сидонию выставят на улицу? Выбросят за ненадобностью? – сказал я себе, сообразив, что эта реплика может стать выигрышным аргументом в споре. Выбросят почему? Потому что не оправдала надежд? Смех, да и только! Она с тем же успехом может выставить на улицу и меня. Улыбнувшись, я начал было прикидывать, что ему отвечу, но Сидония меня опередила:
– Выставит на улицу? Тоже скажешь! Какая ерунда, папочка! Как будто я дам себя в обиду!
И она принялась перечислять все, что умеет и готова делать. Ко всему прочему, по старинке она жить не желает. Никогда не выйдет замуж по расчету, ради карьеры и денег. Отец должен понимать, что она хочет жить по своему разумению, иметь дело с тем, кто, как и она, стремится жить по-своему. И тогда, если он и она будут любить друг друга, у нее все получится.
Как же убедительно звучали ее слова! Сидония была великолепна. У Платова же вид был, прямо скажем, смущенный и невеселый. Все его прочные чикагские связи, весь его солидный достаток, равно как и консервативное воспитание, восставали против этих чуждых условностей современных взглядов.
– Я вас об одном прошу, – сказал он, поворачиваясь ко мне, – не будьте с ней жестоки. Она обласкана, избалована, своенравна, но сердце у нее доброе.
Я чувствовал, что любящий отец говорит серьезно, и дал ему слово, что не буду с его дочерью плохо обращаться. В эти минуты я поневоле испытывал к нему симпатию. Тягостный разговор кончился тем, что Сидония уговорила отца разделить с нами полуночный ужин. Наутро мы вместе позавтракали в его гостинице. Как мне показалось, Платов смирился с происходящим и предоставил заботиться о его дочери мне.
– Вы должны постараться сделать так, чтобы из нее получилось что-то путное, – сказал он на прощание.
После этого Платов и его дочь регулярно обменивались письмами, и он дал ей денег, чтобы она «ни в чем себе не отказывала», что с традиционной, устоявшейся точки зрения было худшей помощью, какую только может оказать отец своему чаду.
Другим памятным событием, случившимся примерно в это же время, стала встреча с юным Коллинзом. В июне он получил от Сидонии письмо, написанное под мою диктовку, после чего, насколько мне известно, их отношения прервались, – я, во всяком случае, очень на это надеялся.
И вот жарким сентябрьским днем он – свежий, улыбающийся, щегольски одетый в новенький, с иголочки серый костюм и светлую фетровую шляпу – возник в дверях нашей студии. Как дела? От друзей он слышал, что мы живем здесь, а поскольку у него были в Нью-Йорке дела, решил зайти. Как же он рад видеть нас обоих! Что в Чикаго? Да ничего нового, скучновато, уныло. За исключением разве что Малого театра, у которого много планов в предстоящем сезоне, рассказывать особенно нечего. Он говорил, а сам внимательно, во все глаза, разглядывал комнату, Сидонию и меня. Сидония, что неудивительно, интересовала его больше всего. Что у нее нового? Что поделывает? Он слышал, ей дали небольшую роль в пьесе, которая провалилась. Мне показалось – хотя, может быть, я и ошибаюсь, – что говорит он об этом не без некоторого злорадства. Еще я заметил, что той симпатии, с которой он относился ко мне в Чикаго, больше нет. Он был вежлив, обходителен, улыбался, но взгляд у него был какой-то язвительный.
Мне было очень любопытно, с какой целью он к нам пожаловал. Вернуть Сидонию? Уж не переписывалась ли она с ним втайне от меня все это время? Его замечание о том, что он собирается уйти из чикагской газеты, переехать в Нью-Йорк и заняться журналистикой здесь, меня, признаться, насторожило. Ага! Так вот что у него на уме! Приехал уговорить Сидонию от меня уйти. Стало быть, битва еще не кончилась, она еще только начинается. Я, разумеется, разозлился и в то же время испытал сильную душевную боль. С нее станется! Любовь любовью, а ей ничего не стоит, несмотря на всю свою страсть ко мне, к нему вернуться. Уйдет, и даже не поставит меня в известность, я был в этом уверен.
Как же загадочно вела себя Сидония! Она была так мила, так обходительна, так ласкова. И при этом озадачена. Я сразу же заподозрил, что она хочет произвести на него впечатление, и, как знать, возможно, вслед за написанным нами прощальным письмом последовало еще одно, ее собственное, в котором со свойственной ей вкрадчивостью она объясняла, почему написала первое письмо. (Вот что такое истинная любовь!)
И вот теперь она сидит на разноцветной, расшитой ею софе – соблазнительная, веселая, игривая. И в каком бы настроении ни находился Уэбб Коллинз, он имеет возможность видеть ее такой. Вокруг разбросаны самые экзотические наряды, в которых она выходила на сцену и в мир. Все утро – хотя я сидел за столом и писал – она, чтобы доставить мне удовольствие, наряжалась: мерила платья самого разного цвета и покроя, чтобы я лишний раз убедился, как самобытно ее искусство и какой у нее безупречный вкус. Здесь же, на мольберте или у стены, находились пастели и холсты Сидонии-художницы. И ее этот беспорядок нисколько не смущал, ведь Коллинз уже давно не жил с ней одной жизнью.
Любовь, наряды, молодость, надежды.
Время от времени я поглядывал на них обоих и думал о том, как же она неугомонна, какой кипучей энергией от нее веет. Думал – не мог не думать – и о том, какие чувства Коллинз в ней вызывает. Любит ли он ее по-прежнему? И как бы я ее ни ревновал, как бы бдителен ни был, я не мог ему не сочувствовать, не мог не радоваться, что она – моя.
Просидев час-другой, Уэбб ушел, из чего Сидония заключила, что между ним и его молодой женой не все благополучно. Возможно, сказала она, они собираются развестись, однако на чем основывалось это предположение, сказать не берусь.
Сидония оказалась права: спустя несколько месяцев Коллинз переехал в Гринвич-Виллидж и зажил в свое удовольствие – впрочем, вел себя вполне прилично. Сидония же настолько заполнила собой мою жизнь, что свела на нет все мои разнообразные связи, которые были у меня до ее приезда в Нью-Йорк. Не стану называть здесь имена тех, с кем я имел дело, женщин у меня было предостаточно, и, хотя жизнь до появления Сидонии я вел обособленную, они, эти мои подруги, меня вполне устраивали. Теперь же я не нуждался ни в ком, кроме нее, она единственная владела всеми моими чувствами и помыслами. Такого темперамента, как у Сидонии, я не встречал ни разу в жизни. Ее настроения, ее поступки, хорошие и плохие, были так загадочны, что объяснить их не представлялось возможным. Из всех женщин, с которыми свела меня жизнь, Сидония была самой независимой и не стремилась полностью на меня претендовать. Наоборот, несмотря на то, что она не раз признавалась мне в своих пылких чувствах, у нее всегда было столько дел, требовавших ее участия и внимания, что я часто задумывался (и задумывался всерьез), кто и по какому поводу на нее претендует. В самом деле, если я в свое время увлекался не одной, а тремя или четырьмя, даже пятью женщинами одновременно, что мешает и ей увлечься столькими же мужчинами?
Верно, исчезнув на пять-шесть часов, она бурей врывалась в студию и торопилась поскорей поделиться своими чувствами, а также какой-нибудь забавной сплетней, после чего бросалась ко мне в объятия. Меня же не оставляли сомнения, действительно ли так глубоки, искренни ее чувства. Ведь при всей любви к отцу она часто не слушалась его, огорчала. То же и с Коллинзом: было же время, когда она питала нежные чувства одновременно и к нему, и ко мне.
Хуже всего было то, что Сидония, как и я, была особой увлекающейся, ухитрялась флиртовать с несколькими мужчинами одновременно. С тех пор как она приехала в Нью-Йорк, у нее появилось несколько поклонников, о которых она часто говорила и которые вызывали у меня подозрения и даже ревность – они были явно к ней неравнодушны. Впрочем, среди ее знакомых не было ни одного, на кого я мог бы указать пальцем.
В любом случае у Сидонии было масса дел, тысячи забот и обязательств, и она часто пропадала на несколько часов, а то и на весь день. И все же ко мне она питала самые нежные чувства, что проявлялось во многих очень трогательных поступках. Более того, ради меня она всегда готова была пожертвовать своим временем, потратить свои деньги. Она всегда думала о нас обоих: куда мы вместе пойдем, что вместе сделаем, – все, и в будущем тоже, касалось не ее одной, а нас двоих.
Ее отец был человеком состоятельным, равно как и многие ее родственники; некоторые из них проявляли к ней интерес. И если бы на нее, паче чаяния, свалилось наследство, мы бы с ней знали, как им распорядиться. Все, что она зарабатывала на сцене или живописью, предназначалось не ей одной, а нам обоим. И очень часто, когда я оказывался на мели и вынужден был экономить буквально на всем, она протягивала мне руку помощи, помогала сводить концы с концами, к чему сам я был совершенно непригоден.
И все же со временем (а время у влюбленных летит незаметно) Сидония, хоть и украшала мне жизнь, все больше и больше меня раздражала: думаю оттого, что я не вполне понимал, что собой представляют ее многочисленные творческие увлечения и заботы. Дел у нее было столько, что она постоянно бросала меня одного, иногда на полдня, а иногда и на целый день, который я вынужден был коротать в одиночестве за письменным столом. Как так получилось, недоумевал я, что у меня вдруг образовалось столько свободного времени, когда я могу идти куда захочу? И как так вышло, что я предпочитаю, когда ее нет дома, работать, никуда не уходить и терпеливо ее ждать? Эта мысль не столько возмущала меня, сколько удивляла. Должно быть, я очень сильно привязался к ней, иначе бы так себя не вел. Однако сомнения, в которых я пребывал, не рассеивались.
Беспокоило меня, а со временем стало раздражать, и то, что к своему сценическому призванию, яркому таланту актрисы она относилась не так серьезно, как мне бы хотелось. Ради театра, казалось мне, ей следовало жертвовать собой – даже в ущерб нашим отношениям.
Увы! Меня иной раз преследовала грустная мысль, что Сидония не способна на жертвы, без которых не обойтись, если хочешь добиться успеха. Может, все дело в том, что ей слишком легко, привольно жилось. Но нет, возражал я сам себе, талант есть талант, и если чувствуешь настоящую потребность чего-то достичь, никакая привольная жизнь с этой потребностью не справится.
Как бы то ни было, проходили дни, недели, а ничего путного она так и не добилась. И я уж стал думать, что ее любовь к разнообразной и переменчивой жизни плохо сочетается с тяжелым, кропотливым трудом. И тогда мне пришло в голову, что с ней-то все в порядке, это я слишком требователен, причем не к себе, а к другим, отсюда и критическое отношение к людям, постоянная, ненасытная тяга к переменам.
Перемены, перемены, перемены! Я всегда поддавался их притягательной силе, легко пресыщался. Люди быстро мне надоедали. Какой бы соблазнительной, обаятельной женщина мне поначалу ни казалась, долго жить без перемен я не мог. Буду, пока живу, искать в людях что-то новое, неизведанное. Тогда-то я и написал эссе о переменах, которое гораздо позже и в сильно измененном виде включил в свою книгу «Бей в барабан».
По меньшей мере два года мы с Сидонией жили в атмосфере постоянных перемен, среди совершенно разных, непохожих друг на друга людей. Она заряжала меня своим непостоянством, увлеченностью жизнью, страстью к забавам, развлечениям – с подобной страстью я сталкивался впервые. Вижу ее как сейчас: голые руки, шея и плечи, на которые изящно наброшена шаль, молодое лицо обрамляют черные волосы. Она сидит в окружении цветов, свечей, пирожных, бокалов с вином и ждет гостей. Они вот-вот явятся и заполнят до предела нашу скромную обитель. Она будет петь, танцевать, придумывать «номера» – валять дурака. Когда же вечеринка подойдет к концу, когда гости толпой выйдут на улицу, она потушит все свечи, кроме одной-двух, сядет за пианино и что-нибудь споет. Или заберется ко мне на колени и будет мурлыкать:
– Обними меня, любимый! Как же было хорошо, правда? А как тебе этот… Ужасно любопытный персонаж. А тот… Вот ведь болван! Как же нам с тобой хорошо!
– Да, да, любимая, конечно!
Я потом часто думал, что не зря же гнал от себя мысли о том, чтобы ей изменить. Меня связывала с ней удивительная эмоциональная отзывчивость, она бурно реагировала на все, что я делал или собирался сделать, чем очень мне помогала, какой бы несобранной, непредсказуемой в своих творческих порывах ни была. Мне нужна машинистка? Она всегда готова набело перепечатать мой черновик. Мне нужен вдумчивый критический отзыв? Она внимательно прочтет то, что я написал, и выскажет ценные, здравые суждения. С каждым днем нашей совместной жизни на меня все большее впечатление производила ее исключительная чуткость ко всем, светлым и темным, сторонам человеческой трагедии или комедии, чуткость, которая ни с общественной, ни с финансовой точки зрения не сулила ей ничего хорошего.
Она была щедра, даже слишком, не скупилась, давала в долг, со всеми была очень доброжелательна, делилась книгами, картинами, нарядами, своими оригинальными поделками – чем угодно. И все это – чтобы потакать желаниям или амбициям всех тех, кто никогда не сделал бы этого для нее. Она жалела людей, вникала в их горести. Однажды, увидев сбитую машиной девочку лет тринадцати-четырнадцати, долго потом не могла прийти в себя, три дня пролежала в постели. Я тогда и сам был убит: и оттого, что она страдает, и от всего происшедшего, – и в то же самое время счастлив, видя, как она отзывчива.
Как же прекрасно, когда видишь, как человек чуток, понятлив! В то же время настроение у нее портилось постоянно: у меня ушел не один час, чтобы вывести ее из угнетенного состояния, в котором она тогда, после этого несчастного случая, находилась. Ее невиданная эмоциональная отзывчивость стоила ей очень дорого, меня же очаровывала. Она испытывала горькую, саднящую боль от жестокости – оборотной стороны красоты, – страдала от причастности к человеческому горю, хотя то, что я описывал в своих книгах, никоим образом не свидетельствовало о том, что мир обречен. Как же мне повезло, что я встретил такую чудесную, яркую, непосредственную женщину! Каким бурным, живым, романтическим темпераментом она обладала! А ее мечтательность, задумчивость! В каких только закоулках огромного города не предавалась она мечтам! А какая бьющая через край энергия, какая мгновенная реакция!
Ах, почему на свете так много замечательных вещей, которые меняются и исчезают? Сидония всегда была для меня чем-то самым-самым. Когда она, увлеченная новыми интересными знакомствами, охваченная какой-нибудь свежей и в самом деле очень ценной идеей, врывалась ко мне в комнату, я приветствовал ее, как приветствуют красоту, или отдохновение, или какое-то громкое научное открытие. Где бы она ни находилась – в моих объятиях, в нашей с ней студии, или где-то в городе с друзьями и без друзей, или когда мы шли рука об руку, – меня не покидало чувство радости, увлекательного приключения, уверенности в себе. Да и как было не радоваться, ведь ты любим таким талантливым, таким восторженным, необыкновенным созданием.
Когда же я шел по городу или трудился в одиночестве, без нее, передо мной возникали образы других женщин, совсем других событий. Женщин, что проходили мимо. Глаза, что заглядывали в мои глаза. Время от времени в моей жизни появлялась женщина с характером, быть может, и не таким переменчивым, не таким ярким, не таким оригинальным, как характер Сидонии, но тем не менее мне близким, близким по духу. Не мог же я не обратить внимания на эту женщину!
Тайна, грустная тайна! Как и в прошлом, я обсуждал с самим собой абсолютно неразрешимую проблему верности в любви, да и не только в любви. Что такое любовь? Ее законы? Правда ли, что, когда любишь, нет ничего запретного? Да, и тогда, и теперь я не верил в свободное волеизъявление. Все наши действия, все наши вызовы, чему я не раз становился свидетелем, являлись по своей природе либо физическими, либо химическими проявлениями законов природы, проявлениями, заранее заданными.
Где-то гремела и надвигалась гигантская буря, в ее могучих раскатах по каплям рождалась жизнь – этот волшебный ковер с его прихотливыми, вычурными узорами. Для всего же сущего – мух, птиц, людей, деревьев, палок, камней, из которых он был вышит, – ковер этот был не более чем химическими и физическими комбинациями. Неотвратимость, заданность того или иного узора на ковре зависела всего лишь от воздействия на нас тех или иных химических свойств, от того, насколько могущественны тропизмы темпераментов, мужских и женских.
Вот почему, как бы счастлив я ни был, как бы Сидонией ни восхищался, меня не оставляла мысль, что весь мир есть причудливый набор несхожих темпераментов, которые, если к ним присмотреться, представляют собой вечно видоизменяющееся, увлекательное зрелище. Иными словами, мы словно плывем на всех парусах к какому-то то далекому, желанному и неизведанному берегу. Как же манят нас бескрайние морские просторы, таинственные земли, нежданные события!
Да, я был ей верен в том смысле, что был счастлив и влюблен. И, в еще большей степени, неверен, потому что, на свою беду, поддавался соблазнам, с которыми не мог справиться и от которых меня не могли спасти ни счастье, ни влюбленность. Эти соблазны возникали невесть откуда и невесть куда исчезали; появлялись и вновь пропадали. Желая порвать с однообразием жизни, я говорил себе: «Хватит! Пора все поменять!» Первое время я думал об этом всего несколько минут, потом – часами, потом эти мысли не покидали меня несколько дней подряд.
В результате все чаще и чаше возникали минуты, когда мы оба или каждый в отдельности впадали в меланхолию, раздражались, ведь Сидония была очень чуткой, очень ранимой – ох какой же чуткой, какой ранимой! Стоило ей заподозрить, что я не в духе, что я потерял к ней интерес, как она приходила в безумную, слепую ярость или же впадала в отчаяние. Как же она рыдала! Ее горю, ее страданиям не было предела. И моим тоже!
Да, страдал и я. Страдал от ревности, от страха ее лишиться, а заодно – от подозрительности, желания ей отплатить. Вот и она – боюсь, так же, как и я, но, разумеется, втихую – встречалась с другими. Встречалась, чтобы преодолеть нахлынувшую на нее скуку, или гнев, или отчаяние. Как же тяжело давались нам обоим такие дни!
Порой мне казалось: я вижу, как она скучает, злится или отчаивается. А что, если в мое отсутствие кто-то бросает на нее, причем не случайно, нескромные взгляды? Что тогда? И вот однажды одна из тех амбициозных и ревнивых дамочек, что все про всех знают, посоветовала мне – конечно же, втайне от Сидонии – присмотреться к **, честолюбивому молодому кинорежиссеру, который открыл в Нью-Йорке студию, куда, намекнула мне дамочка, Сидония нередко по утрам и во вторую половину дня наведывается. Я был с этим кинорежиссером знаком, человек он был очень обаятельный, да и Сидония недавно отозвалась о нем весьма положительно: умен, знает себе цену.
Испытывая муки ревности, я решил, что в эту историю надо бы вникнуть. Но не следить же за ней, в самом деле! Нет, на это я не пойду. И уж точно не сейчас. Да и какое я имею право? Вправе ли я установить за ней слежку после всего того, что позволял себе сам, всего того, что было у меня на уме? Если она таким образом мне мстит, что мне было ей сказать? Я ж вел себя ничуть не лучше.
Знал бы кто-нибудь, как тяжело давались мне воспоминания о нашей замечательной жизни в Чикаго, когда Сидония вбегала ко мне со своей тетрадкой стихов или комком глины для лепки! Или в Бостоне, когда она шептала, как счастлива, как ей со мной хорошо. Или в студии на верхнем этаже на Вашингтон-сквер, куда она после ресторана поднималась, не замолкая ни на минуту. Бедное мое сердце! Как же судорожно сжималось оно – и сжимается до сих пор – от этих воспоминаний. Какие были дни! Как бы их вернуть! Быть вновь такими, какими мы были тогда!
Как-то раз, когда она куда-то уходила среди дня, я ее остановил:
– Скажи-ка, крошка, мы не расстаемся?
– Что ты, любимый! Нет! Нет! О нет! Никогда! Вот бы и мне умереть, когда умрешь ты, чтобы нас похоронили в одной могиле. – Ее ручки как канатом сдавили мне шею. В теплых карих глазах стояли слезы.
И все же, причем довольно скоро, мы расстались. Началось с того, что Сидония отправилась на гастроли с передвижным театром, с которым она тогда, за неимением ничего лучшего, связалась. Поехать с ней на все время я себе позволить не мог и приезжал только в те города, где они останавливались надолго, – в Чикаго, Сент-Луис, Питтсбург. Приезжать приезжал, но мечтал уже о другой, с которой только что познакомился. А она? Я часто размышлял, о ком думает она. И злился, негодовал, хотя виду не подавал. Улыбался, а сам клялся, что скоро, совсем скоро пошлю ее ко всем чертям!
А потом она поехала в Калифорнию – сниматься в кино, в самых тогда еще первых фильмах. И в свои письма вкладывала открытки (где-то они у меня затерялись) с видами: голливудское бунгало, солнце, цветы, утреннее и вечернее небо и «натурные съемки». Я разглядывал эти открытки, а сам неотступно думал: с кем она сейчас? С этим кинорежиссером! Он там? (Да, он был там.) С кем же еще!
И все же в наших тогдашних письмах: чудесных, длинных, ласковых, печальных, негодующих, страстных, – в письмах, в которых то и дело проскальзывали подозрения и упреки, сохранилась прежняя любовь. Некоторые страницы прямо-таки полыхали страстью!
Человеческие схождения и расхождения, встречи и прощания. Сходство и несхожесть. Иной раз я даже задавался вопросом: уж не иллюзия ли любовь? Состоятельна ли жизнь за отсутствием идеала? И не ограничивается ли наша цель в жизни самовосхвалением и самоуспокоением? А воздержание и верность ради давней любви, прошедшего счастья? Не являются ли они совершенно бессмысленным и смехотворным рыцарством? Только те, что способны на необузданное, непреодолимое влечение, вправе ответить на этот вопрос, так ведь? И еще одна мысль, пришедшая мне в голову сразу вслед за этой. Возможна ли истинная любовь между мужчиной и женщиной без близости, той близости, что, увы, вырождается в скуку? Мы что, вынуждены терпеть эту пресыщенность ради того только, чтобы испытывать более глубокую, более стойкую так называемую любовь? Воспоминания, что живут вечно, и любовное томление, что никогда не умрет, кончается скукой и лишает влюбленного былого счастья.
И вот в один прекрасный день, как раз когда Сидония была в отъезде, появилась Бертин и мгновенно завоевала мои мысли и чувства. Несомненно, как это часто бывает с женщинами, нашему сближению способствовала моя известность – своего рода гипноз славой, отнюдь не лестный для того, кто этой славой наделен. Как бы то ни было, на Сидонию моя очередная возлюбленная с бурным прошлым была совсем не похожа. Я сразу же увлекся бедностью и поэтичностью старого Юга и в то же время вовсе не собирался расставаться с Сидонией.
Ее калифорнийский ангажемент продолжался не один месяц. За это время Бертин, которой до смерти надоела приевшаяся секретарская работа, была у меня в студии частой гостьей и не без интереса разглядывала развешанные по стенам фотографии Сидонии и ее автопортрет маслом в полный рост. Какая же она стройная, по-кошачьи гибкая, такая восточная! Меня забавляла мысль, что здесь, в этих комнатах, внезапно сошлись два этих таких непохожих создания: Сидония – законная хозяйка, и Бертин, мечтающая добиться взаимности.
И вот Сидония возвращается. А Бертин тем временем преследует меня телеграммами, записками, даже телефонными звонками – добивается меня. Я же рвусь на части. То ли расстаться с Бертин? То ли в необъяснимом порыве тоски отвернуться от Сидонии? Думать только о том, что наша связь зашла в тупик, что я ею пресытился и тем не менее должен сохранить ей верность (Почему должен? Ответ даст только сердце.)
Почему, скажи, я привязан к тебе, Мой тенистый, мой ласковый мирт?
И тут Сидония после моего очередного «приступа хандры» (ее выражение) с присущей ей решительностью поинтересовалась, уж не надоела ли она мне, не хочу ли я от нее избавиться, и сказала:
– Так больше продолжаться не может.
И хотя в глубине души отдавал себе отчет в том, что бессовестно лгу, я заверил ее:
– Нет, не надоела. Нет, не хочу.
И тем самым отложил этот тяжелый разговор на пару дней, самое большее – на пару недель. И все-таки чуть позже, несмотря на то что мы вновь были счастливы, вновь обрели друг друга, правда (или, если угодно, полуправда) всплыла на поверхность.
Произошло это, если не ошибаюсь, после alfresco, изысканного завтрака, который Сидония ухитрялась готовить «из ничего». Она сидела напротив меня за нарядно накрытым столом с серебряными приборами. Серо-зеленый халат, красные сандалии, волосы распущены. Соблазнительна, как всегда, но для других – не для меня: для меня даже ее соблазнительность была однообразна. Как же порочно человеческое сердце! О чем я в эти минуты думал, она, мне кажется, угадала по моим глазам. Быть может, я позволил себе какое-то невыразительное, малозначащее, бесцветное замечание. Сидония вскочила и устремила на меня свои сверкающие карие глаза:
– Возлюбленный! Уж не надоела ли я тебе? Ты, поди, от меня устал!
Нетрудно догадаться, что я ей ответил, причем не скрывая раздражения:
– С чего это ты взяла?
Но время уловок и отговорок, глупых или, наоборот, изящных, прошло безвозвратно. Говорить приходилось начистоту, и я это сознавал. В голосе Сидонии чувствовалась категоричность, решительность и какая-то безысходность.
– Конечно же, я знала, что это произойдет, – сказала она, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. – Давно знаю. Ах как же все это грустно! Я-то надеялась…
В ее взгляде, в том, как она говорила, чувствовалось нескрываемое отвращение к переменчивости, непостоянству и в то же время какая-то покорность. Невероятно.
Радость прощается, приложив палец к губам*.
Не успела она договорить, как я вскочил, стиснул ее руку и только открыл рот, как она добавила:
– Что ж, я ухожу от тебя, любимый. Придется уйти. Не уговаривай меня. И не говори, что тебе не все равно. Пойми, если я останусь, ничего хорошего не будет.
И хотя я вступил с ней в спор: что-то говорил, убеждал, не стоит, мол, торопиться, – она ушла. Не знаю, куда и к кому. Я потом часто думал, куда и к кому.
Не могу передать, в какую чудовищную пропасть рухнуло мое сердце, на меня тяжким грузом навалился какой-то тяжкий физический, а также умственный недуг. Ушла! Сидония ушла! И это после всех тех чудесных дней, что мы провели вместе. И вместе с ней ушли бурные страсти, обиды, мечты. И страх, ужасный страх, что все это время преследовал нас обоих. Наивно считать, что в человеке есть что-то кроме рассудка, что плоть страдает помимо мысли и нервов. Полная чушь! Вздор! Тешим мы себя и еще одной безумной иллюзией, полагая, что не существует того, что мы называем телепатией, передачей настроения и страданий на расстояние – так сказать, по беспроволочному телеграфу.
Ученые мудрецы придерживаются этой вздорной точки зрения по сей день. Подобный вздор можно объяснить лишь недостаточным развитием нервных клеток. Всю жизнь меня преследует, разрывает мне сердце горькая истина: та, что близка мне духовно, далека от меня плотью. Сил сопротивляться этой истине не хватает, излечиться от нее можно лишь на время. Часто говорят о «злокачественном животном магнетизме». Да, такой магнетизм наверняка существует. Но как быть с умственной радиацией, которая вовсе не «злокачественна», а всего лишь тоскует и отчаивается. Рекомендую подумать об этом ученым мужам, что безвылазно сидят в библиотеках и лабораториях. Пора бы им заняться «ментальной радиоактивностью».
Но я отвлекся от своего тогдашнего угнетенного состояния. Много недель подряд после ее ухода я находился в самом беспросветном отчаянии. Перед моим мысленным взором проходили дни нашей совместной жизни. И вот однажды ночью, недели через две после ее ухода, я лежал в своей студии и пытался заснуть. Полночь, половина первого, два… Часы на башне по соседству пробили половину третьего, а я по-прежнему думал о ней. А потом я, должно быть, задремал; разбудил меня тихий, едва слышный стук в окно: тук-тук-тук. Кто бы это мог быть? И чем стучит? Ведь до окна с тротуара не достать. Стряхнув с себя тяжелый, утомительный сон, я вскочил, не совсем понимая, что происходит, и выглянул из окна. В слабом свете далекого уличного фонаря стояла – наполовину на свету, наполовину в тени – Сидония с тросточкой в руках. Стояла, подняв голову, и с каким же печальным, отчаявшимся видом: боялась, видимо, меня не застать. Я распахнул окно. Ноябрь. Холодно.
– Сидония, родная! Бога ради, входи! Я спущусь и открою тебе дверь! – И я заключил ее – хныкающую, дрожащую от холода, духовно истерзанную – в свои объятия. – Дитя мое, любимая моя, ты давно стучишь? Я спал.
– Ах, любимый, обними меня покрепче!
Сколько же раз она так говорила!
И я ее обнял, обнял изо всех сил. Но наступило утро, прошел день, и еще два-три дня, и во мне все переменилось. Какие же странные эти наши внутренние вспышки! Вопреки всем разумным доводам, они сжигают разум дотла, устанавливают новые правила, новые потребности.
А Сидония вновь и вновь повторяла, что сошлась со мной от слабости. Да, она приходила ночью, потому что до предела измучилась от соблазнов, от непреодолимого очарования былых дней. Но все впустую: излечиться от этого очарования она не могла. Все кончилось только потому, что невозможно было смириться с тем, что это должно кончиться. И хотя вернулась, понимала: конец близок, его не избежать. Я бы все равно не был бы ей верен, это было не в моих силах.
А она? Так ли уж она изменилась? Нет? Разве я об этом не догадывался? Кроме того, мы были слишком сильны (или слишком слабы), чтобы переносить измены друг друга, не отомстив. И это она тоже понимала не хуже меня. Ей тоже приходилось бороться с собой, не только мне. Разве мне это было неизвестно? Известно.
А потом я много дней подряд задавался мучительным вопросом, что же, в сущности, нас разлучило. Тоска. Усталость. Пресыщенность. Она должна уйти, сказала она. Накопилось много студийной работы. Сказала и ушла, пообещав (она позвонит мне по телефону, или я ей позвоню), что, может, вернется к ужину. Наступил вечер, но Сидония так и не появилась. И тогда я понял, что наступил конец. На следующий день Сидонии опять не было. Какие ж это были черные дни! Черные, мучительные, беспросветные. И все же, как бы ни страдал, как бы ни убивался, я понимал: она поступила мудро. «Возьми меня, но не связывай; люби меня, но отпусти». Она знала жизнь не хуже меня и была смелее меня.
И вот как-то вечером, месяц спустя, когда я сидел дома и мучился одиночеством, мне позвонила старая знакомая, (я не видел ее уже несколько месяцев, чуть ли не год). Она вернулась в Нью-Йорк с запада, где пела и танцевала в ревю. Как у меня дела? Я уже ужинал? Она остановилась в такой-то гостинице. Не заеду ли я к ней? Можем встретиться где-то еще. Мне было так одиноко, что я обрадовался ее звонку и поспешил на свидание. Ужин с вином, разговоры за полночь. Как же хорошо, что мы опять вместе. Надо столько всего обсудить. Не приду ли я к ней в гостиницу? Или она ко мне? Увы, она предпочла приехать ко мне.
И опять – на мое несчастье, на мою беду – примерно в то же время, как и в прошлый раз, в окно постучали. Грустно так постучали: тук-тук-тук. И этот тихий, печальный звук отозвался в моей заблудшей душе. Я замер.
Это была Сидония! Как и тогда, она стояла и мерзла в темноте, но в этот раз подняться ко мне она не могла. Осторожно, чтобы она меня не увидела, я выглянул в окно убедиться, что это она, Сидония. Выглянул и отшатнулся. Этот пристальный, пытливый, ищущий взгляд. Впустить ее я не мог – не мог же я причинить ей такую боль! Но и выйти к ней не мог тоже: не объяснять же, почему ей нельзя ко мне подняться. Она сразу все поймет.
Спустя какое-то время, когда она ушла, я выпроводил свою подружку, вышел сам и стал бродить в темноте в поисках Сидонии. Ее нигде не было. Где ее искать, я не знал, она никогда не говорила, куда идет.
А через полгода пришло письмо. Она вернулась в Чикаго. И собирается замуж. Другого выхода нет. Появился кто-то, кто сумеет утешить ее духовно – так, во всяком случае, мне мнилось. Мне хотелось послать ей телеграмму, написать, чтобы она вернулась, чтобы не торопилась выходить замуж, не делала этой грустной, непоправимой ошибки. Однако раздумал. Ты что, действительно этого хочешь? – спрашивал я себя. И готов и дальше мучить ту, которая намучилась и без того, да и ты – тоже?
На ее письмо я не ответил. Ответом на него были мои мысли и печальные, мрачные часы, проведенные наедине с собой.
notes
Назад: История Элизабет
Дальше: Примечания

