История Элизабет
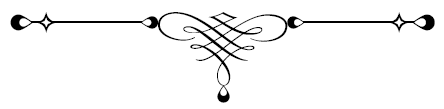
Долгие годы я размышлял над тем, как лучше всего описать читателю характер Элизабет, чтобы не исказить ее разнообразных интригующих черт, и, боюсь, до сих пор не нашел ответ на этот вопрос.
Ее отличали красота, живость, прямодушие; красота и сила ума, равно как и тела. Есть люди такого умственного и эмоционального размаха, что, описывая их, не знаешь, с чего начать.
Как часто, вспоминая ее, я вспоминаю Порцию, уравновешенность и непредубежденность ее ума. Когда вспоминаю ее красоту, я вновь оказываюсь в затруднении, ведь так легко преувеличить, так трудно отдать истинную справедливость красоте, что подобна натянутой тетиве.
Своим лицом, фигурой она походила на Диану с полумесяцем в волосах. При этом Элизабет была очень невелика ростом: крошечное существо, которое, находясь в полном здравии, весило не больше ста – ста десяти фунтов.
Есть мнение, что чем больше весит мозг, тем выше умственные способности. Вздор! Если судить по Элизабет, то вес мозга и интеллект никак между собой не связаны. Возможно, размеры мозга необходимы для чтения, образования, составления разного рода сложных таблиц. Не знаю. Но чтобы от размера мозга зависела интуиция? Наше восприятие? Да никогда в жизни! Элизабет отличалась интуицией, присущей лучшим умам, интеллектуальной искренностью и смелостью людей самых выдающихся. Если судить по размеру ее головы, ее мозг должен был весить совсем немного. Но ведь мысли формируются не в мозгу, а в крови, и пользуются мозгом, как мы пользуемся бухгалтерией.
Но я отвлекся. Впервые я увидел ее после бурной, продолжавшейся больше года переписки. После выхода в свет очередной моей книги она рискнула подвергнуть ее критике, причем довольно резкой, хотя впоследствии и призналась, что резкость ее суждений была вызвана желанием бросить мне вызов, принудить к ответу. Когда же я на ее критику ответил, причем, насколько я помню, не выбирая выражений, она пустилась в объяснения. Завязалась переписка, и о себе она писала вещи такие оригинальные, такие запоминающиеся, что привела меня в восторг.
Она писала мне о дереве у ручья, куда она еще девочкой, когда у нее возникали неприятности, не раз приходила помечтать, набраться сил, поднять себе настроение. Эту мою книгу она читала, сидя под этим деревом у ручья, а потом прижимала ее к сердцу.
Это была ее книга, писала она мне, и не потому, что она хорошо написана, а потому, что учила ее жизни и любви. Сидя под деревом, она с ней разговаривала, клялась ей в верности. Кто бы ни был ее автор, она сделает все, что он пожелает. «Но только не подумайте, – добавляла она, – что я – увядший цветок или что лишена недостатков и не имею собственного мнения. У меня есть молодость, красота, деньги, есть даже невинность в том смысле, как ее принято понимать. У меня есть все, что вам бы понравилось, и даже больше, и я многое знаю про вас, знаю, как вы выглядите, и все прочее. Я не пожалела времени и сил все это выяснить».
В одно из писем была вложена ее фотография, поражавшая воображение молодостью, красотой, умом и энергией. Признаться, я был удивлен, что девушка такого обаяния, такой энергии может писать такие письма.
Но, несмотря на все это, а также потому, что нашей встречи, безусловно, хотели мы оба, я дал ей в ответном письме ясно понять – меня так просто не возьмешь. В этом мире я не один. Отнюдь! И впутываться в пустую интрижку я не испытываю ни малейшего желания. Тем не менее мы договорились, что она приедет, и в мае, через год после ее первого письма, я поехал на вокзал ее встретить.
Боюсь, мне не передать то радостное чувство, какое я испытал, увидев ее. Прелестные личико и фигурка. Она вся, с ног до головы, дышала молодостью, свежестью, любовью.
Спустившись на платформу, она огляделась по сторонам, и я сразу же обратил внимание, что у нее, при ее крошечном росте, неторопливая, степенная походка – трудно сказать, искусственная или естественная. (Она всегда настаивала, что естественная.) И походка эта как нельзя лучше соответствовала хорошо скроенному, похожему на мужской серому костюму, в котором она была тем утром. Я заметил, что глаза у нее большие, круглые и какие-то тускло-голубые, кожа свежая, розовая и нежная, как у ребенка, – никакой косметики и минимум пудры. Волосы густые, блестящие, светло-каштановые.
Я было заулыбался при виде столь миниатюрного создания, ее крошечных ручек и ножек, но поймал на себе ее насмешливый, недоуменный взгляд, будто она чем-то разочарована, недовольна.
– А вы, оказывается, совсем другой! – воскликнула она, подавшись назад и окидывая меня холодным взглядом. – Я вас представляла совсем иначе.
– Вот как? – Столь резкая оценка вывела меня из себя. – Реальный образ, стало быть, уступает воображаемому? Что ж, прекрасно. Позвольте мне вызвать вам такси. В какой гостинице вы остановились?
– Я думала, вы старше, – продолжала она, не обратив внимания на мои слова и окинув меня острым, как скальпель, взглядом. – Думала, что человек вы более уравновешенный.
– Жаль, очень жаль, – сказал я, просто чтобы что-то сказать. – Но я исправлюсь. Не будем ссориться. Я готов даже, прежде чем мы расстанемся, предложить вам чашку чая.
– Ах, не сходите с ума! Терпеть не могу моложавых мужчин, да и мужчины с повадками профессоров мне тоже не по душе.
– Вы хотите сказать, что я похож на профессора? Это уж слишком, я ухожу!
– Погодите! – В ее голосе послышались издевательские нотки. – Отчего же, с удовольствием выпью чаю. А в вас действительно есть что-то от профессора, я представляла вас совсем другим. Не сердитесь.
– С меня хватит, – сказал я. – Вам не нравится, как я выгляжу? Очень хорошо! Мы выпьем чаю и на том покончим. Но мне бы не хотелось выслушивать ваши рассуждения о профессорах и моей внешности.
Я не на шутку разозлился и решил поэтому как можно быстрее ее спровадить. Она меж тем продолжала идти рядом, как будто ничего не произошло. Нельзя было не заметить ее уверенности в себе, степенной походки, прекрасного настроения, самодовольного вида. Похоже, она ни на минуту не сомневалась в своем неподдельном шарме и преисполнилась решимости продемонстрировать его на деле.
– Когда мы познакомимся поближе, это пройдет, – сказала она, продолжая идти не останавливаясь.
– Что пройдет? – поинтересовался я. – И с чего вы взяли, что мы познакомимся поближе?
– Сама не знаю, – отозвалась она, когда мы вошли в ресторан и я, отодвинув стул, ее усадил. – Только, пожалуйста, не сердитесь. Не так уж я от вас отличаюсь, если правильно понимаю то, что вы пишете. Вам нужна красота. Как и всякому мужчине.
– Вздор! – Я взорвался. – Я здесь не для того, чтобы рассуждать о моих книгах. И я не просил вас писать мне письма, это была ваша инициатива. Не будьте такой самоуверенной.
– Я знаю, что не просили. – И она очень мило заулыбалась. – Пожалуйста, не сердитесь. Вы похожи на большого неуклюжего медведя. Да и воспитаны ничуть не лучше, сразу видно. Садитесь и успокойтесь. У меня есть соображения, которые, думаю, вам пригодятся. Очень может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь. Я ведь красивая, правда? Вижу это по вашим глазам. В любом случае мы можем стать друзьями.
– Вы так считаете? Мне кажется, что для женщины, которая собирается со мной подружиться, вы могли бы держаться скромнее. Что же касается моего возраста и уравновешенности – что ж, не могу не радоваться, что я не такой уж дряхлый. Вы первая женщина, которая пожаловалась, что я молодо выгляжу.
– Не сердитесь же, прошу вас! И не уходите. Знаете, я придумала вам прекрасное имя: вы Мед, Медведь Косолапый. – И она состроила кокетливую гримасу, обнажив острые зубки. Что-то было в ней невозмутимое и в то же время неистовое, дерзкое.
– Что ж, хорошо, – сказал я, садясь, она же продолжала изучать меня с ног до головы неторопливым внимательным взглядом.
– Боже, вы смотрите на меня так, будто собираетесь съесть! – воскликнул я.
– Не так уж вы аппетитны.
– Спасибо за очередной комплимент.
Она продолжала на меня смотреть – сначала неодобрительно, потом более дружелюбно.
– Только не думайте, что меня так легко обидеть, – добавил я. – Таких, как вы, я неплохо изучил. Вы слишком полагаетесь на свое обаяние.
– Вы все еще сердитесь? Что ж, простите меня, я виновата. Что я себе позволяю? С таким, как вы! Автором такой книги!
– Незачем любить меня за какую-то там книгу, или за то, кто я, или за что-то еще. Либо я нравлюсь вам сам по себе, либо не нравлюсь совсем. Я-то думал, что вы не такая, как все. А теперь вижу, что ничем от других не отличаетесь.
– О боже! Перестаньте, слышите! – Теперь она говорила гораздо мягче и совершенно переменилась, в ее голосе зазвучали теплые, трогательные, проникновенные нотки. – Я так нескладно себя повела, мне так стыдно. Знали бы вы, как мне хотелось с самого начала произвести на вас впечатление! Если б вы только знали! Если б знали, что я на самом деле чувствовала, что думала!
И она устремила на меня взгляд своих огромных светло-голубых глаз. Такой взгляд, нежный, сочувствующий, благодарный, бывает только у по-настоящему сильных и умных женщин. А потом перегнулась через стол и положила свою крохотную ручку на мою.
– Пожалуйста, Мед, возьмите меня за руку, – попросила она. – Пожалуйста. Вы даже не представляете, как мне важно, чтобы вы взяли меня за руку. Пожалуйста, Мед, уважьте просьбу маленького бедного медвежонка.
Я взял ее за руку и вгляделся в ее ангельский, ионический лик. Какие только имена не вспомнились мне в эту минуту – имена, что ассоциируются с красотой Древней Греции: Ио и Белый Бык, Сапфо, Даная, Цирцея!
– Не расскажете мне что-нибудь о себе? – спросил я, стараясь вновь обрести почву под ногами. Я был смущен, сбит с толку.
– Нет, не сейчас, не хочу сейчас говорить о себе. И не просите. Сейчас мне это неинтересно. Мне хочется совсем другого. Хочется думать о Нью-Йорке, о вас, о том, что происходит здесь и сейчас. Себе я неинтересна. Подруга сняла мне номер в «Марта Вашингтон», поеду туда, зарегистрируюсь. Сама не знаю, что на меня по дороге нашло. Да и у вас будет время подумать, что я собой представляю.
– Да? – с недовольным видом буркнул я.
– Но ведь мы встретимся за ужином, верно? – продолжала она. – Вы мне обещали.
– Да, встретимся. Но я вам ничего не обещал, и по тому, как вы себя ведете, мне показалось, что встречаться со мной вы не хотите.
– Что вы, вы ошибаетесь. Вы не понимаете. Я знаю, что повела себя глупо, но хочу, очень хочу вечером вас увидеть.
– Очень хорошо, раз так.
– Да, конечно, давайте пойдем сегодня вечером в ресторан. Мне в вас многое, очень многое нравится. Беда в том, что все это так странно, так неожиданно. – Она посмотрела на меня и теперь ее взгляд стал мягче, чем раньше, – пытливый и немного печальный.
Эта дружба ничем не кончится, подумал я, с ней попрощавшись. Она не умеет себя подать – беспечна, погружена в себя.
И тем не менее наша дружба началась в тот же день и какое-то время продолжалась. Несмотря ни на что, я увлекался ею все больше и больше и, хотя, когда мы в тот день расстались, подумывал отменить приглашение на ужин и вообще с ней порвать, не выходила у меня из головы. Было что-то необычайно притягательное в ее глазах, в ее поведении, в аппетитной фигурке, в пушке на щеках цвета персика, в блестящем завитке спадавших на глаза волос.
Вернувшись домой, я по-прежнему о ней размышлял, и тут зазвонил телефон, в трубке раздался ее голосок, и голосок этот мне понравился.
– Узнаете? Решила вам позвонить, вы же дали мне ваш адрес. Я ужасно себя вела, понимаете? Я вас обидела. Но я не нарочно. Пожалуйста, приходите ужинать, придете? Сама не знаю, что на меня нашло, я была совершенно не в себе. Но вы мне нравитесь, очень. Правда нравитесь. И если мы сегодня вместе поужинаем, я расскажу вам о себе. Пожалуйста, приходите! Обещаю с сегодняшнего вечера вести себя лучше.
– Очень хорошо, – сказал я. – Но почему вы решили, что я не приду?
– Что-то мне подсказывало, что, возможно, не придете. Да и потом, мне просто захотелось вам позвонить. Поделом мне будет, если не придете. Обожаю ваши книги. Честное слово! – Судя по голосу, говорила она искренне, от всей души.
– Очень хорошо, если только опять не передумаете.
– Поделом мне, – повторила она, – но я не передумаю. Простите, вы очень добры.
Она положила трубку, а я задумался: как же у людей меняется настроение. Мне пишет письма незнакомка, девушка, которую я в глаза не видел, восхищается моим умом, потом со мной встречается, говорит в лицо всякие гадости, после чего звонит по телефону и просит прощения. Нелегко мне с ней придется, вздыхая, думал я, переодеваясь к ужину.
Бывает, что время, место и женщина вместе взятые производят очень сильное впечатление. Именно это и произошло. На вокзале я заметил, что у нее довольно большой чемодан, и, когда мы встретились, понял почему. Разодета, как на картинке. Вся в серебристо-сером: и платье, и башмачки, и чулки, – и, под стать всему туалету, шляпка без полей.
Несмотря на склонность одеваться по последней моде, она была похожа на Мадонну, какой ее изображали итальянские живописцы в те минуты, когда она скорбит о наших заблудших душах. Или на строки из литании Пресвятой Деве Марии: «Башня из слоновой кости, молись о нас, Дом драгоценнейший…». Огромные светло-голубые глаза полнились чисто детским изумлением. Замечу в этой связи, что у по-настоящему страстных женщин, каких довелось мне встречать, вид всегда был невероятно одухотворенный.
Мы отправились в модный в те годы ресторан; он пришелся ей по вкусу, и она с печальным видом принялась рассказывать о себе и при этом изредка исподлобья поглядывала на меня. Во время нашей беседы по телефону настроение у нее было приподнятое, вместе с тем нравом она, судя по всему, отличалась не слишком веселым.
Ее мир был так далек от моего, что удивительно, как нам удавалось находить общие темы для разговора. Она росла в атмосфере благополучия, устоявшихся вкусов и представлений, религиозных и нравственных запретов, тесных семейных связей.
Она, если ей верить, унаследовала огромное состояние своей тетки, старой девы, которая, умерев, доверила доставшееся племяннице наследство опекунам до тех пор, пока Элизабет не выйдет замуж или ей не исполнится тридцать лет. Вместе с двумя братьями и сестрой она также была наследницей своего отца, человека чистосердечного, набожного, обладателя более полумиллиона долларов, доставшихся ему от его отца и приумноженного собственными стараниями.
Не стану говорить, к какой конфессии принадлежали ее родители и многие родственники, читатель догадается и сам. Как бы то ни было, ее жизнь протекала в жестких рамках сурового религиозного воспитания, прислуга и знакомые тщательно отбирались, равно как и частные школы, равноценные Колледжу Смита, Брин-Мору или Вассару, каковые, надо сказать, вызывали у ее родителей немалые опасения: как то пребывание в эти закрытых учебных заведениях скажется на нравственности их дочерей? Глава семейства не скрывал своего недовольства: обучение детей он считал уступкой низменным общественным вкусам и большой ошибкой. На его взгляд, а также на взгляд его окружения, девушки с их религиозными установками и традициями вполне могут довольствоваться домашним образованием.
Учась сначала в частной школе, а затем в колледже, Элизабет не слишком заботилась о том, чтобы постичь науки, и целыми днями запоем читала книги, о существовании которых еще совсем недавно даже не подозревала.
Не проучившись в колледже и двух лет, она из застенчивой пытливой девочки превратилась в молодую женщину, которая была, пожалуй, для своего возраста излишне хорошо образованна. Из книг она черпала все то, что не имело никакого отношения к тем понятиям и привычкам, которых придерживались в ее семье. Тогда-то у нее и появилось желание жить более открытой жизнью, чем та, которую она вела до сих пор.
По возвращении из колледжа она всерьез увлеклась французской литературой – Флобером, Мопассаном, Бодлером. У нее в комнате имелся небольшой сундук или ящик, доверху набитый самыми главными книгами тех авторов, что интересовали ее больше всего; было среди этих книг и несколько романов Золя в английских переводах. Однажды, в ее отсутствие, ее набожный отец заглянул к ней в комнату, обнаружил ящик с книгами и обследовал его содержимое. Добавлю, что, помимо книг, Элизабет хранила в этом ящике несколько пачек сигарет. Книги и сигареты явились последней каплей.
Ее отцу даже в голову не могло прийти, что его дочь живет совсем другой жизнью, чем он и его жена. Кончилось все громким скандалом, который навсегда изменил ее отношения с родителями. Нет, никто из отчего дома ее не выгонял – отец был человеком другого сорта, – но теплые, дружеские (хотя порой и натянутые) отношения, которые существовали в семье, теперь навсегда изменились. Отец не то чтобы не хотел – не мог взять в толк, как это женщина или девушка может читать подобные книги, да и вообще проявлять к ним хоть какой-то интерес.
Отец счел, рассказала мне Элизабет, что у его дочери голова идет кругом, что она отбилась от рук, бросила вызов чистым семейным помыслам. Вместе с тем, человек глубоко верующий, он не мог позволить себе судить дочь слишком строго. Даже теперь речи быть не могло о том, чтобы лишить ее крыши над головой. Он даже не отругал ее всерьез, а вместо этого взял из ящика дочери несколько книг, отнес в кабинет и запер в ящик письменного стола.
Когда Элизабет вернулась, отец позвал ее к себе и достал три книги: «Земля», «Нана» и кое-что еще. На беду, в некоторых из них имелись иллюстрации в духе Ропса.
– Дочь, эти книги я нашел у тебя в комнате, – сказал он и замолчал в надежде на то, что Элизабет что-то ему ответит. Не дождавшись, он продолжил: – Не знал, что ты такая вероотступница. Вот что бывает от увлечения образованием. Мне сказать больше нечего. Попрошу об одном: вынеси все эти книги и все прочее в том же роде из моего дома. Храни их в любом другом месте – только не здесь, у тебя ведь есть собственные деньги. Теперь ты больше со мной не считаешься, сама знаешь. Но у себя дома я эти книги не потерплю, и, пока ты здесь живешь, будь добра, выполняй мои желания».
Говорил ее отец спокойно, и все же, хотя человек он был физически сильный, руки у него дрожали.
Вот чем закончился рассказ Элизабет о ее домашних злоключениях.
Ее жизнь, при всех ее несомненных преимуществах, потеряла для нее всякий смысл. Она уж было совсем отчаялась, но тут ей попались на глаза мои книги. По ее словам, она впервые почувствовала, что в мире есть человек, который готов ее понять, кому может понравиться ее красота и ум, кому она сможет отплатить за то, что он для нее сделал, пусть даже сделал совсем немного.
Тут только начал я понимать, чем объясняется ее напряженный, печальный, задумчивый взгляд, ее какое-то натужно-бурное веселье. Она была существом тревожным, погруженным в себя, умела при этом предаваться радостям жизни; умение это, как вскоре выяснилось, отличалось гипнотическим действием. Этой способностью ей удавалось заразить и других, меня в том числе.
К такому человеку, как она, можно обратиться за утешением, подумалось мне. Я видел жизнь такой же, какой видела ее она, – правда, без чрезмерного, неумеренного стремления к совершенству, желания не только добиться его, но и сохранить.
Замечу в этой связи, что многие женщины, даже непостоянные, стремятся в гораздо большей степени, чем мужчины, удержать того, кем восхищаются. Они инстинктивно хотят это восхищение любой ценой сохранить, поместить священное пламя любви в тихое, спокойное место, где бы ветер не задул его, и там, в этом укромном месте, ему в одиночестве поклоняться.
Мужской же дух, управляемый мужским характером, беспокоен, тревожен, он довлеет над миром. Охваченный чувством, страстью, он недолго будет оставаться в неподвижности.
Что до меня, то в те годы я был почти патологически непостоянен; о том, чтобы довольствоваться одной-единственной связью, не могло быть и речи. Я жил в окружении многочисленных созданий, которые пребывали в постоянном поиске самых разнообразных связей, стремились любой ценой приумножить свой жизненный опыт. Я увлекался многими женщинами и по самым разным причинам. За последние три-четыре года меня преследовали многие представительницы прекрасного пола в надежде, что их шарм, их прихоти произведут на меня впечатление.
В подобных обстоятельствах трудно было ожидать, что после всего одной встречи между нами возникнет долгая и прочная связь. И тем не менее уверен: Элизабет на это рассчитывала, в это верила. Возможно, она плохо себе представляла, как сложатся наши отношения в дальнейшем, но о чем-то подобном задумывалась.
И теперь, нарисовав (лучше сказать – набросав) мне свой портрет, она сочла наш союз для себя приемлемым, и теперь ей ничего не оставалось, кроме как следовать этим путем дальше, сообразуясь со своим давним желанием со мной встретиться.
– Даже не знаю, верю я в высшее образование для женщин или нет! – воскликнула она, сопроводив свои слова каким-то утомленным и в то же время соблазнительным жестом, задуманным исключительно, чтобы произвести на меня впечатление. – Что оно мне дало? Книги, которые я читаю, в сущности, меня мало интересуют. В первую очередь меня интересует жизнь, а ведь книги являются не более чем отражением жизни, а не самой жизнью.
– Вы совершенно правы, – согласился я, – но уже поздно. Не хотите ненадолго зайти ко мне? Мы сможем продолжить разговор у меня.
Элизабет ничего не ответила: молча сидела и смотрела на меня. За ужином пила она мало, с трудом отрывая от стола своей крошечной ручкой высокий стакан с бренди и содовой. Все это время, пока продолжался ее долгий рассказ, ее личико оставалось бледным, задумчивым – казалось, она озабочена какими-то философскими и этическими проблемами. Теперь же у нее на щеках выступил румянец, глаза увлажнились. Она и вправду была на редкость хороша собой. Ничего не сказала в ответ: сидела и по-прежнему смотрела на меня, – а потом облизнула крепко сжатые, надутые губки.
До сих пор помню детскую наивность, написанную на ее лице, когда она входила в мою квартиру. Осмотрела картины на стене и только тогда сняла наконец шляпку и пригладила волосы. Я подошел к буфету за выпивкой, а она задержалась у письменного стола.
– Вы не сердитесь за то, как я сегодня днем себя вела? – спросила она, сделав шаг мне навстречу.
– Ничуть.
– Вам кажется, что я ужасно неопытна, да?
– Вы так невинны, а между тем внушаете мне какой-то священный ужас. Я не мог предположить, что вы такая проницательная. Вначале мне показалось, что вы человек скорее эмоционального склада.
– Властный самец! – воскликнула она. – По-вашему, я должна быть безмозглой и похотливой, я знаю. О боже, все против меня! Все!
– Ерунда! Не рисуйтесь!
Она бросила на меня странный, какой-то сочувствующий взгляд. Я сел в кресло, а она подошла и присела на подлокотник.
– Как вы не понимаете, – сказала она, – чувство, которое я к вам испытываю, это гораздо больше, чем уважение. Я валяла дурака, бог весть кого из себя строила, а сейчас я здесь, у вас, и по своей собственной воле. Это для вас что-нибудь значит?
– По-моему, вы даже слишком красивы и так непохожи на ту, которую я себе вообразил, что я совершенно сбит с толку. Не знаю, что и думать, скажу одно: я вами очарован, больше того – околдован. Вам мало?
Со временем мы вжились в миры друг друга. Я вжился в ее мир, она – в мой. И чтобы она там ни говорила, я был ее миром и в самом деле очарован: он был так безмятежен и прочен.
Я часто думал, почему она с такой определенностью решила, покинуть свой мир, почему не нашла в нем ничего для себя привлекательного. И в то же время, несмотря на всю разницу между нами, в чем-то существенную, мы с ней поладили, нас многое объединяло. С первого дня я был потрясен, захвачен искренностью, силой, дерзновенностью ее ума, ее интуицией, способностью ухватить все самое главное, а также чувством романтики, цвета, красоты, довлевшей над ней.
Случалось, из-за бессмысленности, тщетности существования ее охватывало отчаяние. Бывало, однако, что она думала (и была права), что жизнь, судьба ей благоприятствуют, все блага жизни к ее услугам, все складывается так, как ей хочется.
– Дай мне вкусить от большого аппетитного пирога, – однажды сказала она мне, – и ты услышишь от меня все самое важное и нужное. Я предпочитаю жить сейчас, в нужное время, нужным образом. Все остальное значения не имеет.
И хотя Элизабет прекрасно понимала, что любовь – это мучительная, а иной раз и разрушительная иллюзия и что очень часто является не более чем тенью наших идеалов подобно тому, как нарядную одежду набрасывают на деревянное чучело, тем не менее в целом мы были единодушны: любовь – это все. Дайте мне хотя бы иллюзию любви с ее страданиями, ужасами – и пусть тогда все остальное исчезнет.
И после нашего первого свидания она смело шла навстречу этим страданиям и ужасам любви. Что бы я ни делал, как бы себя ни вел, она упорно стояла на своем: во мне она обрела свой идеал. При всем моем дурном, неуживчивом нраве, при всей моей раздражительности, строптивости, несмотря на внезапные взрывы ничем не оправданного веселья, на неадекватно бурное воображение и приступы влюбленности, я оставался ее прекрасным принцем.
Начиная с первого дня, она по-своему боготворила меня, что вовсе не мешало ей резко, порой безжалостно, меня критиковать и даже подвергать насмешке, стерпеть которую было далеко не просто.
С первого же дня она понимала и ценила меня больше, чем кто бы то ни было до нее. Довольно скоро выяснилось, что в разговорах о жизни и обо мне она особо не церемонится, говорит не без яда и то, что думает. Себя я оценивал далеко не так проницательно, как она меня. Многое в ней было мне очень близко и дорого. Я не мог не восторгаться ее проницательностью, чувством юмора, толерантностью, острым язычком, добродушием и сосредоточенностью, верностью, неподдельным чистосердечием, нетерпимостью к мелочности, черствости, жестокости, а также к бессмысленному и бесцветному тщеславию и высокомерию.
Нельзя было не поражаться той не свойственной ее возрасту мудрости, практической и творческой, с какой она, пренебрегая собственными интересами, шла на поводу у такого заблудшего, любопытного, непостоянного и ненадежного фата и позера, как я.
Тайна влюбленности! Тайна увлеченности! «И что эта женщина во мне нашла? – часто думал я. – Тайна тайн, иначе не скажешь. Я же знаю, какой я на самом деле прохвост, да и она прекрасно знает, что верить мне нельзя».
В самом начале наших отношений, почувствовав, что она, очень может быть, во мне ошибается, я сказал ей:
– Почему ты решила, что, раз я тебе нравлюсь, значит, и ты должна мне нравиться? Ты являешься ко мне, резко меня критикуешь, а потом вдруг решаешь, что я тебе очень нравлюсь, даже не дав мне возможность высказаться, что я на этот счет думаю. Откуда ты, например, знаешь, что в моей жизни нет других женщин, многих женщин? Откуда ты знаешь, что я или любой другой может тебя полюбить так, как тебе этого хочется?
– Не знаю, – ответила она. – А у тебя что, много других женщин?
– Да, хватает.
– И ты их всех любишь?
– Да, они мне очень нравятся, все до одной.
– Любить и нравиться не одно и то же. Может быть, ты сочтешь это глупостью, но если б ты по-настоящему кого-то любил, то вряд ли отвечал бы на мои письма.
– Правильно. Чистая правда. Стало быть, ты считаешь, что у вас у всех равные шансы?
– Нет, не совсем. Сомневаюсь, что ты можешь кого-то долго любить. Мало ли как сложится… Никогда же не знаешь, как повернется судьба. Я, к примеру, решила, что тебе понравлюсь, хочешь ты того или нет. Мне казалось, что мой ум, моя красота привлекут тебя – хотя бы на время. Вот почему я первым делом заговорила с тобой о своей красоте. В этом случае главное – открыться тому, кто тебе нужен; это я сейчас и делаю. Я заранее знала, что тебе это должно понравиться. Разумеется, мне было известно, что ты был женат и ушел от жены. Я понимала, что, не зная женщин, ты бы не смог написать те книги, которые написал. К тому же женщины тебе нравятся, поэтому я понимала, что шансов у меня не больше и не меньше, чем у любой другой.
И она тихонько, издевательски, вызывающе хихикнула. Засмеялся и я.
Более полутора лет мы с Элизабет прожили одной жизнью. Мы очень сблизились, проводили ежедневно по многу часов вместе. Едва ли не каждый день, месяцами мы вместе завтракали и ужинали. Деньгами, и немалыми, которыми Элизабет располагала, она делилась со мной, платила свою долю за такси, нанимала машину, когда мы выезжали в рестораны, находившиеся далеко за городом или на океане, – одним словом, участвовала в расходах, которые я бы себе, будь один, никогда бы не позволил. Она была очень щедрой, в отличие от многих женщин, на туалетах помешана не была, но одевалась со вкусом, заботилась о том, чтобы хорошо выглядеть: красивые вещи поднимали ей настроение. По магазинам ходила не без удовольствия, не считала эту обязанность докучной. Развлекалась Элизабет тем, что пела и играла на фортепиано, однако больше всего любила читать, редактировать и критиковать отдельные главы, статьи или рассказы, над которыми я трудился. Разгромит меня в пух и в прах, а потом пойдет со мной в ресторан или на танцы.
Иногда Элизабет критиковала меня особенно резко, и как-то раз, обнаружив случайно оброненный черновик какого-то моего рассказа, в сердцах воскликнула:
– Боже, какая чушь! И тебе не стыдно? Если и дальше будешь писать такое, читать эту дребедень я не стану! – И с этими словами она сгоряча швырнула прочитанные страницы, и не на письменный стол, а в корзину для бумаг. Я пришел в бешенство и стремглав выбежал из дома, но не прошел и квартала, как услышал за собой перестук каблучков. Элизабет, без шляпы, без пальто, с развевающимися, спадавшими на глаза каштановыми кудрями, со всех ног бежала за мной.
– Мед! Ради бога, вернись! – кричала она. – Пожалуйста! Ты же знаешь, почему я так сказала. Знаешь же! Я люблю тебя! Люблю твои книги. Хочу, чтобы у тебя был успех. Поверь, самое худшее из того, что ты пишешь, в сто раз лучше, чем то, что сегодня превозносят критики. Да ты сам это прекрасно понимаешь! Ты же знаешь, я в тебя верю. Пожалуйста! Если я тебя ругаю, то ради тебя же. То, что ты написал, совсем не плохо, это даже хорошо, это прекрасно! Но ведь ты можешь написать лучше, можешь же, и я хочу, чтобы ты написал лучше, слышишь? Вернись, пожалуйста, вернись. Умоляю!
Она бежала рядом, с трудом за мной поспевая: один мой сердитый шаг равнялся ее трем, а то и четырем. Она повисла у меня на руке, заглядывая в глаза, а потом, когда я наконец остановился, принялась целовать мне руки, рукав моего пиджака.
– Прошу тебя, Бетти, перестань, – сказал я. – Не устраивай сцен на улице, будь добра. Не делай из меня посмешище, слышишь? Больно уж ты разошлась!
Кончилось тем, что, отчаявшись привести ее в чувство и чтобы не привлекать зевак, я вынужден был подчиниться и вернуться домой. Когда мы пришли, она стала говорить, что я устал, что нам надо поехать в ресторан поужинать, а утром, на свежую голову, она покажет мне те места в рукописи, которые нуждаются в исправлении. Когда я с ней согласился, она пустилась танцевать и петь, глаза у нее сверкали. Мы поехали в ресторан, а наутро – она оказалась права – настроение у меня поднялось, я был более покладист, чем накануне, и мы исправили все недочеты.
Это лишь один пример того, какой необычной и увлекательной жизнью я зажил с ее появлением. Было лето, погода стояла прекрасная. Мы – а вернее, я – снимали квартиру на углу Риверсайд-драйв и 111-й улицы. На крыше нашего дома был разбит сад, висел гамак, внизу под нами протекала река. О «сухом законе» мы тогда еще слыхом не слыхивали.
Когда была не в настроении, Элизабет пила до тех пор, пока не увидит мир в розовом свете. Больше всего она любила то, что называла маленькой вечеринкой с коктейлями. Если все шло хорошо или если, наоборот, что-то не ладилось и я пребывал в унынии, она предлагала часа в четыре дня смешать коктейли и подняться на крышу.
Если в доме не оказывалось льда – Элизабет терпеть не могла, когда в доме чего-то не хватало, – она бежала в ближайший магазин или на мясной рынок, где у нее установились хорошие отношения с продавцами, и возвращалась с колотым льдом в нужном количестве, после чего смешивала нам коктейли, которые мы смаковали до самого ужина.
Иногда мы ужинали в одном из ресторанов на Гудзоне, или на Саунде, или на Лонг-Бич, куда отправлялись в автомобиле, который Элизабет заказывала на свои деньги. Однажды, помнится, к моему величайшему изумлению, в одном из таких ресторанов мы встретили моего приятеля художника, который был вдобавок еще и превосходным танцором. Поскольку Элизабет очень любила танцевать, а он, как мне показалось, в своей компании откровенно скучал, я позвал его, он подошел к нашему столику, и они с Элизабет сразу же нашли общий язык.
Они танцевали и танцевали, пока я наконец не сказал в шутку, что, наверно, я здесь лишний и мне давно пора вернуться домой в одиночестве. Но должного впечатления моя шутка на них не произвела, Элизабет танцевала до упаду, была совершенно счастлива, и мы просидели в ресторане до трех утра, и только тогда я, устав, настоял на том, что пора уходить. Элизабет вспылила, назвала меня брюзгой, заявила, что я испортил ей вечер и мог бы подождать, пока она не натанцуется всласть. Я объяснил ей, который сейчас час и сколько времени нам потребуется, чтобы вернуться в город. Мы вышли из ресторана, когда уже светало, мой приятель художник последовал за нами, и они продолжали танцевать прямо на улице, среди машин, припаркованных у входа в ресторан и на тротуаре 111-й улицы. Выплясывали с таким азартом, что фалды его фрака стояли дыбом. Оба выпили лишнего и веселились от души. Смеялся и я, а также одинокий полицейский, который подошел выяснить, что происходит. Наконец, когда совсем рассвело, Элизабет нехотя согласилась вернуться в город. Подобная неуемная жизнерадостность охватывала ее не впервые. И тем не менее сомневаюсь, чтобы она впоследствии встречалась с моим приятелем.
Но такой жизнерадостной была она далеко не всегда. Когда задумывалась о себе, о своем прошлом, она сникала. При всей силе духа, при всей прозорливости она не могла не думать, как так получилось, что ее нрав, сформировавшийся со всеми его причудами в такой добропорядочной, религиозной семье, столь непримирим и приносит своим близким столько горя. Ей очень не хватало всего того, что семья ей недодала, и в свои двадцать три – двадцать четыре года считала себя в своем доме чужой.
В придачу ко всему этому и несмотря на любовь к жизни и к искусству, она не верила в амбиции женщин, если не считать музыки, пения, танцев и сцены. Ей казалось, что ограниченные представления, бытовавшие в ее консервативной семье, то безразличие, с каким ее родные относились к музыке и танцам, подорвали ее природные склонности. Она полагала – и, на мой взгляд, не по возрасту, – что жизнь ей не удалась, а потому стремилась отомстить жизни, которая так дурно с ней обошлась. Отомстить полнейшим безразличием ко всему происходящему, издевательством надо всем тем, за что борются и к чему стремятся. «Устремления! – говорила она. – Какая чушь!» И презрительно надувала губки, смеясь над жалкими, ничтожными людскими потугами, своими собственными в том числе. Она мечтала стать танцовщицей. Что ж, ей не дали стать танцовщицей. Не дали, и бог с ним. Какая, в сущности, разница? А разница между тем была, и немалая.
С другой стороны, ее не могло не огорчать, что многим мужчинам, с которыми она сходилась и расставалась, она доставляет неприятности. Она влюбляла их в себя, а потом их чувства высмеивала, отчего испытывала угрызения совести. И ко всему прочему, у нее был я, но тоже ее совершенно не устраивал.
И понятно почему. Ведь помимо одной женщины, о которой я ей рассказал (Элизабет видела ее собственными глазами: она стояла на улице рядом со мной и ей сразу же очень понравилась), в моей жизни были и другие, много других. О них она ничего толком не знала, но об их существовании догадывалась.
Она достаточно часто бывала у меня и неплохо знала, что происходит в моей жизни. Не могла не видеть моей переписки, пусть даже подробности писем оставались ей неизвестны. Не могла не слышать телефонных звонков и обрывков разговоров, даже если я говорил вполголоса. Сколько раз в ее присутствии мне приносили телеграммы, письма и бандероли, приглашения куда-то пойти, что-то сделать. Случалось, мы с ней встречали на улице какую-то мою знакомую, и разговор с Элизабет вполне мог вызвать подозрение. Невозможно встречаться со многими женщинами одновременно и при этом избегать конфликтов, и Элизабет вскоре после того, как согласилась у меня бывать, поняла это, пусть и не в полной мере. Поначалу, когда я и в самом деле очень ею дорожил, проводил с ней большую часть свободного времени, ситуация не была столь напряженной. Позднее же, когда я к ней поостыл и в моей жизни стали появляться и другие, хоть и не столь привлекательные, женщины, она не могла на меня не обижаться, не могла меня не ревновать.
Но и в этих условиях жизнь в Нью-Йорке доставляла ей огромное удовольствие. В городе у нее было много родственников, и я часто задавался вопросом, как это ей удается их избегать или же, если она все-таки с ними встречалась, объяснять, и вполне правдоподобно, почему она здесь оказалась.
Кроме всего прочего, она имела обыкновение писать письма – на мой взгляд, излишне длинные, – а потом жаловалась мне, что терпеть не может переписываться. Сегодня напишет матери, завтра – сестре. В каком-то тихом городке в Коннектикуте жила ее тетка, писала Элизабет и ей, причем не реже раза в месяц. Тетушка была женщиной небедной, и поскольку все свое состояние завещала племяннице, Элизабет считала своим долгом регулярно ей писать.
И тем не менее всякий раз, прежде чем сесть за письмо, она, в преддверии сего тяжкого испытания, начинала причитать: «О боже! Вот ведь напасть! Господи, как же я все это ненавижу! Понятия не имею, о чем писать. Приходится врать, врать напропалую. Я занимаюсь в музыкальной школе. Я учусь в Колумбийском университете. Бедный университет! И как же давно я там учусь! О боже, боже!»
Зайдешь как-нибудь утром или днем к ней и видишь, как она, склонившись над столом, водит скрипучим, никуда не годным пером по бумаге. Увидит меня, воскликнет: «Не отвлекай меня, Мед!» – и махнет рукой, словно говоря: «Делай что хочешь, только со мной не разговаривай!» А потом добавит: «Сядь почитай книжку или посмотри в окно. Я уже тысячу лет не писала маме. Должна же я придумать какое-то оправдание, почему я здесь!» После чего вновь бралась за письмо и принималась скрипеть пером, отчего хотелось лезть на стену. Наконец поставит точку, соберет страницы, исписанные крупным, округлым, размашистым почерком, и скажет: «Ну вот! Сплошное вранье! Хоть бы одно слово правды! Когда пишу домой, вру обязательно! Но надо же что-то предпринять, надо достать денег, и как можно скорее!» Все ее деньги находились у опекунов, и Элизабет приходилось, пока ей не исполнится тридцать лет, брать под наследство в долг, и единственный человек, который мог одолжить ей нужную сумму, был отец. А поскольку отношения с отцом после всего, что между ними произошло, были натянутые, ей приходилось обращаться к нему через мать, которая писала ей очень ласковые, хотя и бесцветные письма.
– Бетти, – однажды сказал я ей, прочитав одно из таких писем, – ну как ты можешь говорить, что ненавидишь этих прекрасных простодушных людей? Самых обходительных, добропорядочных и верных на свете.
– Да-да, думаешь, я не знаю? Будь добр, не читай мне мораль. В отличие от тебя я знаю их уже двадцать лет. Не так уж ты любишь обходительных, добропорядочных людей. Я прекрасно понимаю, что в них хорошего, а что плохого. Но что с того?
Что меня поражало в Элизабет больше всего, так это ее несгибаемая сила духа. Себе она никогда не лгала, не страдала комплексами, свойственными женщинам ее возраста и времени; она изжила их посредством своего ясного, мощного ума.
Прошел без малого год после нашего знакомства. Поймав себя на том, что слишком долгая и тесная связь с одной и той же женщиной, какой бы интересной она ни была, мне немного надоела, я начал осматриваться по сторонам в поисках человека, который мог бы в Элизабет влюбиться и хотя бы ненадолго отвлечь ее от меня. Мужчин, которые из кожи вон лезли, чтобы ей понравиться, было сколько угодно. Но все они были ей безразличны.
Меня порой искренне удивляло, с каким равнодушием относилась она к мужчинам, которые мне представлялись незаурядными.
– Если ты меня разлюбил, – с горечью сказала она мне однажды, – тебе совсем не обязательно с кем-то меня сводить. Когда не захочешь больше иметь со мной дело, я сама себе кого-нибудь найду, а если не найду, буду жить, как раньше, до тебя.
С Элизабет мы, в конце концов, разошлись, хотя ни я, ни она никакого желания расставаться не испытывали. Разошлись вот почему. Элизабет понимала, что я принадлежу к числу тех мужчин, которые в силу самых разных обстоятельств не могут долгое время любить одну и ту же женщину. Я же придерживался того мнения, что, коль скоро наша жизнь сама по себе разнообразна, переменчива, непредсказуема, для меня самое важное встретить побольше разных людей, и прежде всего женщин, которых, казалось мне, я знаю гораздо хуже, чем мужчин. Я считал для себя совершенно неприемлемым оставаться безучастным к заигрыванию представительниц прекрасного пола, тем более если они молоды, умны, красивы, соответствуют моим вкусам и запросам.
Почти все они, чего греха таить, кокетки и развратницы, но меня их кокетство, их обхождение умиляет, доставляет удовольствие. При желании я мог бы составить целый том из коротких набросков о многих из них, но вряд ли это будет кому-то интересно – уж больно все они одинаковы.
Я мог бы сколько угодно убеждать себя, что, раз их так много и все они на одно лицо, мне вряд ли стоит их менять, и следует поэтому изо всех сил бороться с искушением. Вместе с тем пристрастие к красоте, веселью, молодости бередит душу, жить и любить хочется еще сильнее.
Вдобавок, как хорошо всем известно, успех, или слава, или богатство, или призвание, или оригинальность обладают определенным магнетизмом, который – нередко безнадежно и даже фатально – притягивает к себе всех тех, кто падок на все эти неотъемлемые признаки удавшейся жизни. Говоря о себе, я не мог бы в точности определить, что увидел во мне мой читатель. Однако сразу же после выхода в свет второй книги (и даже раньше) у меня появилась масса поклонников моего дарования, мужчин и женщин, людей молодых и старых.
Ко мне стали приходить сотни писем, в большинстве своем, правда, довольно бессмысленных, и я ими постыдно пренебрегал. Число моих почитателей обоих полов, что без приглашения являлись ко мне домой, росло с каждым днем. Среди них попадались иногда и те, кому было что сказать и кому, несмотря на довольно холодный прием с моей стороны, удавалось найти со мной общий язык. Имелись среди моих поклонников и люди известные, светские львицы или властители дум, которые были мне интересны и которым я наносил визит сам.
В результате я близко сошелся с некоторым количеством мужчин и женщин, многие из которых были для меня очень важны. В то же время встречались среди них и такие (женщины в первую очередь), знакомство с которыми оказывалось для меня весьма обременительным.
В то же время у умной, обаятельной и известной женщины, которой увлекся я и которая очень увлеклась мной, возникало немало серьезных проблем. Со временем, хотя я заранее предупреждал ее о последствиях, объяснял, что я собой представляю, она убеждалась, какая опасность грозит женщине, влюбившейся в мужчину, который является публичной фигурой и которого невозможно переделать.
Хорошо знаю (или догадываюсь), что есть люди, мужчины и женщины, которым удается не идти на поводу у своих почитателей, которые не сходятся с кем придется. По природе своей эти люди независимы. Тому же, кто падок на красоту и шарм слабого пола, кто прельстился самыми разными, не похожими друг на друга красавицами, такая независимость дается нелегко.
Взять хотя бы меня. Как бы я не убеждал себя, что все женщины одинаковы, в моей жизни появлялась очередная возлюбленная. Она мало отличалась от тех, кто был до нее и будет после и все же чем-то неуловимым: цветом глаз, размахом бровей, движением рук, походкой, тем, как она морщит в улыбке губы, – всем своим видом она мгновенно разбивала в пух и прах всю мою самоуверенность, все мои посулы.
В самом деле, если смотреть на вещи с химической или биологической точки зрения, мои заверения – это не более чем жесткое противостояние атомов, из которых я состою. Одни атомы выступают за воздержание, за пренебрежение женщинами, другие голосуют за прямо противоположное и, возможно, одержат победу. И тут неожиданно, вопреки всем ожиданиям, появляется нечто под названием «смазливая девица». И что же мы видим: партия, одержавшая победу, низложена и отправлена в отставку.
Иными словами, каждый атом нашего внутреннего космоса одумается, откажется от своих прежних взглядов и решит: самое лучшее не то, что было, а то, что есть теперь. Решаем не мы, а они, атомы, сколько бы мы ни говорили: «Мы приняли решение. Мы принимаем решение». Вот я и задаю вопрос всем чистосердечным людям: что они в этих обстоятельствах думают о таком решении, как к нему отнесутся, хорошо или плохо?
Если отвлечься от теоретических рассуждений, то надо признать, что в подобной ситуации Элизабет и правда пришлось нелегко. Первое время она о моем непостоянстве даже не подозревала, и только когда узнала (и осознала), что в действительности происходит, и начались ее страдания.
Однако она была не из тех, кто устраивает истерику по пустякам, кто делает все возможное, чтобы привязать меня к себе, – чего бы ни стоило ее великодушие. Ничего подобного! Она ко мне не переезжала, снимала поблизости собственную квартиру и нередко там уединялась поразмыслить и поработать в одиночестве.
Иной раз, когда я нервничал или не обращал на нее внимания, она уговаривала меня поехать куда-нибудь на выходные. Быть может, в другой город, чтобы, как она выражалась, «я тебе окончательно не надоела». Бывало, она и сама уезжала из Нью-Йорка повидаться с бывшими сокурсницами.
Родительский дом она не любила, однако, случалось, ездила навестить родителей или тетушку из Коннектикута, а по возвращении, спустя неделю-другую, упрекала меня в том, что в ее отсутствие я плохо себя вел. Редко писал ей, а если писал, то совсем не те письма, которые она от меня ждала. Ведь она так меня любит. Зачитывается моими книгами. Неужели и она, и ее помощь значат для меня так мало?
Беспокоилась за свое будущее. Что из нее выйдет? Какая же она дура: связалась с мужчиной, которого однолюбом никак не назовешь. Как-то раз ей сказали, что меня видели в городе с какой-то дамочкой. Кто она? Почему я ее с ней не познакомлю?
Однажды она нашла у меня несколько фотографий моих знакомых женщин с дарственной надписью.
– Что тут скажешь! – с грустью вздыхая, сказала она. – Плохо, когда у тебя есть даже одна соперница. А если таких соперниц пятьдесят?
Я пытался втолковать ей, что это старые фотографии, – напрасно.
– Вздор! – воскликнула она. – Новых увлечений у тебя во много раз больше, чем старых!
Сколько же мы с ней спорили о красоте, сексе, соблазнах новых увлечений. Она нападала, я защищался, однако в голову мне ничего не приходило, кроме одного: красота неотразима и необъяснима. Она же настаивала на том, что безумная страсть может оказаться гибельной, не даст мне работать, развратит мое воображение, лишит меня способности здраво рассуждать о жизни. Мне что, никогда не приходило это в голову? – допытывалась она. Что ж, пусть думает что хочет, говорил я себе. Вместе с тем я стал замечать: если я проводил с ней время, то исключительно, чтобы доставить удовольствие ей.
Ее же больше всего огорчало другое. Через девять-десять месяцев после нашего знакомства я к ней охладел, хотя при встрече не скрывал своей радости, особенно когда она возвращалась в Нью-Йорк после недолгой отлучки. Сколько раз она повторяла, что возьмет себя в руки, соберется с силами и меня бросит, ведь она мне больше не нужна. Что ж, я не мог не признать, что она права.
Но ведь не бросила же! Как правило, сказав все, что обо мне думает, Элизабет, совершенно преобразившись, заявляла: все это не имеет никакого значения, она же меня любит. Главное, чтобы я был с ней ласков, не жесток – и все будет в порядке. Нет ничего лучше, чем быть со мной рядом. Лишь бы только трудиться вместе со мной над моими книгами! Как бы ей хотелось, говорила она, стать феей, забиться ко мне в карман и оттуда наставлять меня громким, пронзительным повизгиванием. Не знаю, как у нее, но у меня тогда сохранилось только одно чувство: дружеской преданности, – но и это ее какое-то время вполне устраивало.
Из-за моего непостоянства, из-за растущего к ней безразличия, которое проявлялось в том, как тяжело я вздыхаю, как с трудом сдерживаю зевоту, особенно когда мы долгое время не расставались, она приходила в ярость, замыкалась в себе. И постепенно начала в свою очередь терять ко мне интерес – во всяком случае, поняла, что надеяться ей не на что.
– Ты не виноват, Мед, – с грустью говорила она, когда ей становилось невтерпеж. – Я тебя понимаю, ты ничего не можешь поделать, я же знаю. Виновата я. Я сдуру тебя не отпускаю. Я тебе нравлюсь, ради меня ты на все готов. На все, кроме одного, того, что я хочу, того, что мне от тебя нужно, – любить меня. Не проси у меня прощения, Мед, я не умру, я справлюсь, да у меня и нет другого выхода. Но я должна была тебе это сказать, для меня это не шутки.
И на ее светло-голубые, в упор смотревшие на меня глаза наворачивались слезы. Я же чувствовал себя последним негодяем и все-таки при всем желании не мог заставить себя быть тем, кем она хочет, делать то, о чем она больше всего мечтает.
Примерно в это время – осенью 1913 года, если не ошибаюсь, – в нашей с ней жизни появилась некая личность, которая пообещала (а вернее, пригрозила) разом решить все наши проблемы. И хотя моя гордость была немного ущемлена, когда выяснилось, что Элизабет так легко удалось найти мне замену, меня все же утешала мысль, что ее чувства пробудились вновь и она сможет расплатиться со мной моей же монетой.
Познакомились они за ужином в ресторане, куда Элизабет пригласил ее давний поклонник, тогдашний генеральный прокурор штата: оказавшись по делам в Нью-Йорке, он ее отыскал. По всей видимости, в городе у него было много знакомых, и несколько его приятелей, которые в тот вечер ужинали в этом же ресторане, сели за их столик. Среди них был некто майор Б. и его друг Ричард Плейс, который совсем недавно вышел в отставку в чине капитана и собирался на Филиппины по заданию крупной сталелитейной корпорации. Этот совсем еще молодой капитан – призналась мне, вернувшись в тот вечер из ресторана Элизабет, – ей очень приглянулся.
По ее словам, это был высокий, худощавый, крепкого сложения мужчина, который где только не побывал: и в Техасе, и в Мексике, и в Канаде, и на Филиппинах, и в Китае и теперь, через несколько месяцев, опять едет на Филиппины. Его жена умерла год назад, – и он отправил еще совсем маленькую дочку в Техас к своей сестре. Как видно, Плейс произвел на Элизабет впечатление, и когда я на следующий вечер или через пару дней принялся расспрашивать ее про капитана, она призналась, что он ей понравился, даже очень. Он же, с ее слов, смотрел на нее влюбленными глазами – «тоскливым взглядом», как она выразилась. Плейс, одним словом, был безупречен, и, разумеется, ему нужна была женщина, которая «его понимает».
– Такая, как ты, например, – сухо отозвался я. Как же порочен, жаден, бездумен и завистлив бывает иной раз человек! И в этом нет ничего удивительного.
– Какой вздор ты мелешь, Мед! – презрительно и в то же время как-то задумчиво возразила она. – Ну как ты можешь так говорить? Как будто с тобой может кто-то сравниться!
С каким же пылом она произнесла эти слова! Не случайно – сразу же подумалось мне. Ха-ха. Стало быть, и правда увлеклась. Чего только не распознаешь по голосу, по тону, по тому, как человек держится, говорит…
– Нет, я тебя не ругаю, не думай, – продолжил я. – Но я прекрасно помню наш разговор. Сколько дней прошло с тех пор, как ты сказала мне, что найдешь кого-то другого, что у тебя нет другого выхода?
– Да, помню, – ответила она, – но ведь это были пустые слова. Будто не понимаешь, что ты для меня значишь. Будто тебе невдомек, кто для меня самый важный, самый первый человек на свете. Зря ты беспокоишься, сам ведь знаешь, что был бы рад, если б я кого-то себе нашла.
– Ты так считаешь? Ну да ладно. Скажи-ка лучше, что у тебя с капитаном.
– С капитаном? Ничего особенного, просто мне он нравится, а я ему. Я это сразу заметила. Я ему нужна, он понимает такую женщину, как я. Но ведь это ничего не значит. Говорю я о нем только потому, что человек он очень глубокий. Он сознает, какая скверная штука жизнь, он, полагаю, много чего в жизни испытал, но преодолевает трудности, ведет себя как настоящий солдат, потому что иного пути нет. Он – человек действия, а не сторонний наблюдатель вроде тебя.
– Вот как? – Я хмыкнул; ее слова меня отчасти разозлили, отчасти позабавили. – Сторонний наблюдатель, говоришь? Мои акции, я вижу, стремительно падают.
В действительности, однако, я вовсе не злился – просто ее подзуживал. Все эти разговоры о моих возможных соперниках были неиссякаемым источником для всевозможных шуточек и подначек.
– А он, значит, человек действия? – продолжал я, не дождавшись от нее ответа. – Что ж, ты делаешь успехи – всего за один вечер… Пора мне, стало быть, собирать вещички, отправляться в дальнюю дорожку…
– Перестань! Не валяй дурака! – запальчиво, с неожиданным жаром возразила она. – Я прекрасно знаю, что у тебя на уме, прекрасно знаю, как ты себя ведешь. Мы оба знаем. Я что же, не могу, по-твоему, увлечься интересным мужчиной, раз ты так со мной поступаешь? Тебе не на что жаловаться, я ведь тебе не докучаю, не читаю мораль. Что бы ты там ни думал, увлечение – это одно, а близость – совсем другое. Говорю же тебе, он умный человек, он – личность. Очень может быть, я никогда его больше не увижу, но от этого он нравится мне ничуть не меньше.
– В таком случае ты скорее всего с ним увидишься, я в этом ни минуты не сомневаюсь и очень надеюсь, что так оно и будет. Мне нравится, что ты увлеклась, это повышает тонус. Раскраснелась, словно только что в «поцелуи» играла.
Так оно и было. Щеки горят, глаза сверкают.
– Тоже скажешь, – откликнулась она, обернувшись к зеркалу, перед которым раздевалась. – Ты мне надоел. Наскучил.
– Кстати, – засмеялся я, поддразнивая ее, – скажи, из ресторана вы вышли вместе, ты, он и Б.? Или с Б. ты рассталась и позволила Плейсу проводить тебя до дому?
– Нет, умник, я с Б. не рассталась, и Плейс не отвез меня домой, хотя, по-моему, был очень не прочь. Но тебе-то какое дело? Ходишь куда вздумается, я ж тебе допрос не учиняю, верно?
– Я и не думал тебя допрашивать, – ответил я. – И вовсе с тобой не пререкаюсь. Мог бы и отвезти. По-моему, капитан тебе очень понравился, да и он, если еще в тебя не влюбился, обязательно влюбится, и в самое ближайшее время.
– Уже влюбился, к твоему сведению, – возразила Элизабет, – и если хочешь знать, я могу вертеть им как захочу. Чувствую. А почему бы и нет? Может же в меня влюбиться мужчина, нет разве? Ты меня утомил. Поговорили, и хватит. – И она встала, словно собираясь выйти из комнаты.
Я решил, что не буду больше касаться этой темы. Веду я себя с ней жестоко, подумал я, и был прав. После всего того, в чем я ей признался, странно было, что она меня еще терпит, что верна мне, что от меня без ума. Господи, почему? Тайна сия велика есть!
Обаяние, оригинальность нового знакомого привлекли внимание Элизабет, и она не могла не думать о нем, постоянно вспоминала про него, как вспоминают интересную книгу или пьесу.
– Знаешь, – сказала она мне как-то утром, когда о нем зашел разговор, – он остановился в гостинице. Они с майором временно сидят без дела, обговаривают подробности предполагаемого путешествия. Продлится оно пять лет. У него такие большие карие пытливые глаза. Он такой славный, так к себе располагает.
И вот как-то вечером она призналась, что он ей звонил позвать в ресторан, и она собирается, если я, конечно, не против, приглашение принять. А может, я составлю ей компанию? Ей так хочется побольше о нем узнать. И потом, хожу ведь я иной раз в ресторан без нее. Какие могут быть возражения?
Я ответил, что не возражаю, но сам не пойду. Меня же он не приглашал, а если и пригласил бы, я все равно бы не пошел.
– Не хочу мешать вашим любовным играм, Бетти.
В первый момент она буквально зашлась:
– Какие еще любовные игры? Что за вздор? И тебе не надоело?
А потом призналась, что уже приняла его приглашение, ведь это всего лишь ужин в ресторане, ничего больше. Сказала, что собирается рассказать ему о себе и обо мне, какое место я занимаю в ее жизни. Расскажу все, что понадобится. Я попросил ее этого не делать, и она ушла, уделив своему туалету повышенное внимание.
После этого ужина она увлеклась капитаном еще больше. «Ни на кого не похож, какой он изысканный, как держится, какой проницательный, какой деловой. И знаешь, он разбирается в женщинах, им сочувствует». К тому же он, как никто, ее понимает. У нее с ним много общего. Нет, на меня он не похож. Я жесткий, холодный, а он мягкий, веселый, сердечный. И умеет прощать.
– В отличие от тебя, – отметил я.
– Чепуха! Уж я-то прощать умею – не то, что ты. Так вот…
И она продолжила расписывать уникальные черты своего нового поклонника, а я подумал: наконец-то она нашла человека, который мог бы меня заменить.
Прошло какое-то время, о капитане она больше не вспоминала. Я слышал, что его нет в городе. Позднее она уехала в Бостон, где пробыла несколько недель, причем на этот раз писала реже и без особых эмоций, что было на нее не похоже. По возвращении, когда я ее упрекнул, рассмеялась: дел было невпроворот. А спустя несколько дней я без предупреждения пришел к ней и обнаружил, что она наряжается к ужину. Одевалась долго и со вкусом и сказала, что приглашена в ресторан. Мой приход, похоже, ее смутил – отчего, непонятно.
Я сообразил, что происходит: она, судя по всему, всерьез увлеклась этим мужчиной, и он за ней ухаживал. В этот раз о нем речи не было. Я отшутился – и она тоже. В дальнейшем я заметил, что она нервничает, ей не хотелось, чтобы я подумал, будто она от меня уходит. Да и она сама старалась об этом не думать. Как же печальна жизнь! Она все еще меня любила и боялась, что я обижусь и от нее уйду.
По сути дела, как я вскоре выяснил, хотя подозревал об этом и раньше, она мучилась из-за своего чувства ко мне, от его тщетности, от желания поскорей покончить со своими страданиями, сомнениями, мыслями о том, как ей поступить, чтобы сохранить наши отношения.
Элизабет колебалась. Возможно, она была почти уверена, что со временем увлечется этим человеком еще больше. Одновременно с этим она еще не настолько в него влюбилась, чтобы расстаться со мной. Как же это все трогательно, я ей искренне сочувствовал и в то же время не испытывал к ней никакой жалости. Из-за извращенности своего нрава я – хотелось мне этого, или нет – был не способен удержать ту, кого удержать бы стоило.
Помню, как-то вечером мы ужинали на балконе ресторана в верхнем Бродвее, в одном из тех немногих тогдашних ресторанов, где можно было сидеть не только внутри, но и снаружи. Помню шум и суету Бродвея под нами, ее платье цвета парижской лазури и лихо заломленную шляпку, что так не вязалась с воздержанностью, рассудительностью, которую она порой демонстрировала. Ее глаза искрились какой-то электрической голубизной, черты лица казались еще изысканнее, живее, чем всегда.
– Ах, Бетти, – в шутку сказал я, – ты же знаешь, что такое женщины. Все они непостоянны, все они одинаковы – не уверены в себе, сами не знают, что у них на уме. Когда Плейс вернется, ты меня бросишь, сама же знаешь. Конечно, бросишь. Ты ведь любишь его, и ты такая же ветреная, как я.
– Немедленно прекрати! – взвизгнула она дрожащим от гнева голосом. – Слышишь! Терпеть не могу этих разговоров. Ты не любишь меня. Так зачем же тогда мучаешь? Я тебя любила и люблю, а ты никогда меня не любил. Ты никого не любишь, меня же терпишь только потому, что жалеешь. Так зачем меня мучить? Да, он скоро вернется, и мы увидимся. Все это время мы с ним переписывались, так и знай! Что ж теперь? Да, он мне нравится; во всяком случае, он добрый, сердечный человек. Он не горная вершина, где лежит снег. Он – человек.
– Ох, Элизабет! – Я вздохнул.
– Да, именно так. Это чистая правда, и ты это знаешь. Ты мучаешь людей, даже когда этого не хочешь. Какие только сны про тебя мне не снятся!
– Бетти, за что ты меня так ругаешь? Уверяю тебя, не я во всем виноват. Ты знаешь жизнь не хуже, чем я. Не могу же я любить по принуждению, правда? А ты можешь? Ты когда-нибудь любила человека, потому что он этого хочет? Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получается. Подумай обо всех тех, кем ты пренебрегла и кого отвергла! За что? Почему?! Разве ты сама когда-нибудь любила через силу? Было такое? Да ты сама холодна и бесчувственна, пока кого-нибудь не полюбишь. Зачем говорить мне такие ужасные вещи? Нам же с тобой было так хорошо! С чего ты взяла, что я не могу тебя полюбить?
Заметив, что она молчит и задумалась, я добавил:
– Что же касается Плейса, то если ты его полюбила, то остановить тебя я не могу. Не могу и не стану. Допускаю, что он славный малый. Но если ты от меня уйдешь, мы ведь останемся друзьями, правда? Договорились?
И тут, пока я говорил, передо мной – хотите верьте, хотите нет – возникла очаровательная картинка, нечто вроде оптического миража. За спиной Элизабет, за парапетом балкона, там, где над городом повисли золотистые, с пушком облака, я увидел дом. Увидел так же ясно, как если бы дом этот сделан был из дерева и кирпичей. Уютное здание колониальных времен, старое, серое, одноэтажное, с широкой скошенной и очень широкой крышей, он стоял среди высоких пальм или деревьев, таких, какие растут в тропиках. По обе стороны от двери с круглым веерообразным окном над ней стояли скамейки с высокими спинками, серые, как и весь дом. Из трубы шел дым. Вокруг росли цветы, высокие окна доходили почти до пола, и вид у дома был такой, будто день клонился к вечеру – к вечеру, какой бывает в экзотических краях, где-нибудь на Яве например. Интересно, подумал я, какое отношение имеет этот мираж к Элизабет. Подумал, но ничего не сказал. О Плейсе мы в тот день больше не говорили. Вышли из ресторана и поехали кататься в небольшом экипаже с открытым верхом, после чего, остановившись по дороге выпить, вернулись домой.
Какое-то время мы продолжали жить как жили. В наших отношениях ничего не изменилось, мы виделись два, а то и три раза в неделю. Ее квартира находилась поблизости от Колумбийского университета и выходила окнами на университетскую библиотеку; я любил бывать у нее и смотреть в окно. В квартире было пианино, Элизабет пела, голос у нее был чистый и нежный. Имелись у нее также граммофон, книги, картины. На ее письменном столе всегда лежала стопка моих рукописей, она их редактировала или же просто садилась за стол, перелистывала страницы и предавалась мечтам.
– Ах, Мед, – сказала она мне однажды, глядя на меня тем затравленным взглядом, какой я не берусь описать: таким был этот взгляд проникновенным, таким греческим, точно на меня смотрела Минерва, что задумалась о чем-то странном, непривычном. Такой же примерно взгляд был у «Герцога Урбино» кисти Микеланджело. – Если б ты только знал, как много значат для меня твои книги! Не могу тебе передать. Когда тебя здесь нет и я не знаю, где ты, твои сочинения для меня почти то же, что и ты. Да, что и ты. Иной раз мне начинает казаться, будто я слышу, как ты говоришь. Бывает, я прижимаю к сердцу твои страницы. Правда. И она со скорбным видом погрузилась в молчание. Передать ее тогдашнее настроение я не в силах.
– О боже, – вырвалось у меня, – как же печальна жизнь!
Я был очень растроган, слезы выступили у меня на глазах. Какая же она крошечная, какая трогательная! Как грустно, что нет никого, кто мог бы сделать эту женщину счастливой на многие-многие годы! Я чувствовал себя виноватым, мне было очень тоскливо. И все же, и все же, несмотря на нее, вопреки ей, вокруг бурлила жизнь, и жизнь эта влекла меня к себе так же неудержимо, как и раньше. Перезвон трамваев, голоса студентов на дорожках кампуса под окном, мысли о девушке, с которой я сегодня встречусь. Я знал: все будет как всегда, как всегда, я буду оправдываться. А Элизабет, как всегда, поймет, что я вру, что мои оправдания ничего не стоят, но удерживать меня не станет, спросит только:
– Ты никак не можешь остаться, Мед? Ну что ж, иди, раз надо. Иногда мне так хочется, чтобы мы куда-нибудь поехали в воскресенье, как бывало раньше. У меня ведь столько красивых туалетов!
Чего стоят слова, обещания, мечты, даже желания перед лицом Жизни? Этой неумолимой движущей силы, в сравнении с которой мы – ничто, пустое место. Мы думаем, мы обещаем, мы требуем, мы заявляем – но та сила, ничтожной частью которой мы являемся, в мгновение ока нас меняет, под ее воздействием у нас возникают совсем другие заботы, совсем другие цели. Как бы мы ни клялись в верности, ни держались за руки, ни били себя в грудь, мешая слезы с мольбой, все наши чаяния тонут в какой-то чудовищной неразберихе, в каком-то тумане, в каком-то наваждении, помрачении ума. Эта неразбериха вторгается в наши самые прекрасные чистосердечные помыслы, в наши самые искренние чувства – и выхолащивают их, а то и полностью меняют. Мы не те, за кого себя держим. Иначе и быть не может. Есть некая сила, что творит нас, следит за нами, меняет нас, бросает нам вызов. Она, эта сила, возносит нас до небес или низвергает в пропасть. Надежда, вера, честь, долг. Верность, любовь – все это скоротечно, преходяще. Мы, может, были бы людьми преданными, если бы Жизнь была нам преданна и оставила нас в покое; мы были бы честны, если бы она, Жизнь, была с нами честна. Но вот что самое обидное: эта ненавистная Жизнь может оказаться такой же беспомощной, как и мы. Как же мучительна эта мысль!
И вот, как и следовало ожидать, наступил конец. Однажды утром, за завтраком, Элизабет рассказала мне, как в прошлое воскресенье, когда я, как обычно, отсутствовал, они с Плейсом отправились на машине в Делавэрское ущелье. По пути они несколько раз останавливались перекусить в придорожных ресторанчиках. Она была от него без ума. Он был в нее по уши влюблен.
Как-то раз, когда они сидели на берегу реки, она чуть было не согласилась провести с ним ночь в одной из гостиниц в горах, но, по счастью, передумала. Почему – объяснить не смогла. Они провели такой чудесный день. Он звал ее поехать с ним на Филиппины. Убежден, он бы на ней женился, если б она согласилась.
И все же, по-моему, как ни восхищалась она этим человеком, большим, красивим, благородним, все понимающим, она не могла заставить себя сделать последний шаг. Я, несчастное никчемное создание, стоял у нее на пути. Она по-прежнему, когда у меня выдавалось свободное время, сидела над моими рукописями, обдумывала их. Всякий раз встречаясь, мы вели долгие задушевные беседы на самые разные темы. О чем мы только не говорили: о любви, политике, религии, истории; о людях, о жизни. Несмотря на все, что я ей говорил и о чем она знала и без меня, стоило мне ее позвать, она отменяла любые дела, встречалась со мной в любом удобном мне месте, в любой час. И хотя иной раз и ворчала, что я доставляю ей неудобства, что с ней не считаюсь, приходила радостная, с неизменной улыбкой на лице.
В какой-то день она, причем совершенно неожиданно, после того как я некоторое время с ней не виделся, вновь завела разговор о Плейсе. Мы ужинали в ресторане. Без всяких предисловий она вдруг заявила:
– Мы с Диком теперь вместе.
– Вот как? – Куда только девалась моя обходительность, моя бравада.
– Да, уже с месяц, даже больше. Я тебе не говорила, потому что знала, что тебе это, в сущности, безразлично.
– Вот как? – повторил я поникшим голосом. – Так уж и безразлично? – Ведь она знала, и я знал, что она знает, что мне это не все равно. Совсем не все равно.
– Совершенно безразлично, – ехидно сказала она, и в ее голосе прозвучали твердые нотки. – Тебя это не волнует. Ни капельки! – И она прищелкнула своими крошечными пальчиками.
– Бетти, ради бога, перестань, – принялся увещевать ее я. – Ты же знаешь, что это неправда. Прекрасно знаешь, что ты мне небезразлична. Как ты можешь говорить такое?
– О, замолчи, замолчи! – Она почти визжала, голос стал едким, пронзительным, она скрипела зубами и поедала меня холодными, злыми глазами. – Не делай вид, что я тебе небезразлична, знаешь ведь, что это не так. Зачем сидеть и со своей иронической улыбочкой рассуждать о том, как ты меня любишь? Как же я иногда тебя ненавижу! Как постыдно ты со мной обошелся! Мне надо было давным-давно рассеять твои чары! Но теперь наконец чары рассеялись. Наконец я счастлива!
– Бетти, прошу тебя!
– Можешь говорить, что тебе вздумается. Ты же сам знаешь, что я говорю правду, чистую правду. Но это не важно, не имеет значения. Пойми, Мед, не имеет никакого значения. Все кончено. Я сделала то, что собиралась сделать, что должна была сделать, и ты меня теперь разлюбишь. Теперь у тебя со мной нет ничего общего. Но это не моя вина. И мне все равно. Честное слово, все равно. Мне нравится этот человек. Я люблю его. Я первый раз в жизни встретила человека, которого я так люблю и который так любит меня. Какая жалость, что я не встретила его до тебя!
И вот через несколько недель или, самое большее, через пару месяцев они должны были отплыть на Филиппины, а потом на Яву. Все кончено. Я остался не у дел. Теперь ей не придется больше страдать, она же и в самом деле его полюбила.
Что и говорить, мне было очень горько. Каким бы сторонником свободы в мыслях и действиях я ни был, ее интеллектуальную и эмоциональную поддержку невозможно было переоценить; она, эта поддержка, была бесценна, и я понимал это.
Ни разу в жизни не встречал я равную ей. Пройдут годы, прежде чем я найду такую же. Она навсегда останется для меня символом абсолютной красоты и истинного величия ума. Она была неподражаема, клянусь. Она задала мне высочайшие творческие стандарты, внушила такую художественную дерзость, что писать, что придется, терпеть неудачу я попросту не имел права.
И теперь ее чувство к сему достойному мужу свидетельствовало о том, что вся наша любовь летит в тартарары. Она мне больше не принадлежит. Она меня бросает. Нет, это я бросаю в безбрежное море жизни бесценный жемчуг; я всегда знал, что он бесценен. И что же дальше? Что будет дальше – со мной, с ней? Как мне без нее обходиться? Как жить?
Очень сомневаюсь, что мне удастся представить себе хотя бы на йоту, каковы будут последствия нашей разлуки, к чему она приведет. В тот вечер Элизабет ушла, сильно мне досадив и позволив проводить ее только до дверей ее квартиры. Между нами, сказала она, все кончено, и приходить к ней я могу теперь только по утрам обсудить мой рассказ, который она тогда редактировала. Однако не успела она уйти, как я услышал приближающийся стук ее каблучков по асфальту – Элизабет возвращалась.
– Мед, подожди, подожди! – вырвалось у нее. – Возьми мои руки. Пойдем со мной в парк. Мы не можем так расстаться, нет, я – не могу! Не могу! Не хочу! Ох, Мед, Мед! Не могу тебе передать, как мне плохо. – И она припала к моим рукам, и на мои пальцы полились горячие слезы. – Знал бы ты, как мне плохо. Я так предана тебе, Мед, я верю в тебя, в твои книги. Но ведь ты же никогда не переменишься. Но это ты, Мед, ты! Он не стоит тебя, не стоит твоего мизинца! Думаешь, я это не понимаю? Он замечательный. Но ты – ты мой, Мед, мой! Ты мой бог и навсегда останешься моим богом. Но ты ведь уйдешь, бросишь меня, да?
Я держал ее за руки и плакал. Горько плакали мы оба.
Что произошло дальше? Вот что. Мы дошли пешком до тогда еще строившегося собора Святого Иоанна Благословенного и поднялись на каменный постамент высотой футов пятнадцать – на этом постаменте со временем будет установлен стержень арки, которая поддерживает трансепт.
Мы сели, Элизабет в своем красивом летнем платье и я в хлопчатобумажном костюме, и с грустью вперили взор в звезды. Млечный Путь, Большая Медведица, Малая Медведица, Альтаир, Алголь, Сириус. Внизу, в глубине парка Морнингсайд, затерялась пагода. По 110-й сворачивал, громыхая, трамвай с освещенной буквой L. По Амстердам-авеню неслись, слепя фарами, автомобили и таксомоторы. А под нами, на улице, обнимались влюбленные парочки.
Мы немного успокоились. И тут, сидя в тени огромного собора, вдыхая теплый летний ветерок, глядя на звезды, вечные звезды у нас над головой, мы оба ощутили вдруг нечто вроде чудовищной боли. Я не понимал себя. Я жалел себя. Я не понимал ее. В памяти возникли какие-то мелкие, незначащие эпизоды нашей совместной жизни, сценки, разговоры. Очень может быть, эти воспоминания возникли прежде у нее, а от нее передались мне. Мы оба погрузились в раздумье.
– Я не в силах это переносить! – внезапно воскликнула она. – Нет, не в силах! Не могу! Ох, я должна уйти! Я хочу умереть! – И с этими словами она приложила руки к сердцу.
– Бетти, пожалуйста, не говори так, – взмолился я. – Я тоже не в силах это переносить, это ужасно! Я знаю, я негодяй. И всегда был негодяем. Но я не брошу тебя. Я сделаю все, лишь бы ты не плакала. Прошу тебя, держи себя в руках, не распускайся. Ведь ты не такая, как все, ты умна, как никто, ты знаешь, что такое жизнь. Не я один виноват. Виновата жизнь, Бетти, жизнь! Как же нелегко жить!
– Все кончено, – повторила она, рыдая навзрыд. – Все кончено! Все кончено!
– Нет, нет, нет, – шептал я. – Не говори так, Бетти. Не говори так. Пожалуйста!
– Все кончено! Все кончено! Да, все кончено – для меня!
Спустя какое-то время я отвез ее домой. Она сказала, что через пару дней мы увидимся. И через пару дней мы действительно увиделись. Но что толку? У нас все кончилось. Она это знала, и я тоже это знал. Я не переносил ее мрачных мыслей, ее слез, ее гамлетовских колебаний. И в то же время, когда я вспоминал, как она хороша собой, как мне нужна, как умна, какой веселой, остроумной умеет быть, – мне, несмотря ни на что, мучительно хотелось оставаться с Элизабет, и это при том, что новые увлечения, которым я предавался, сводили на нет мои чувства к ней.
Все дело в том, что она не отпускала меня, держала как на цепи. Я восхищался ей, даже когда она была подавлена, когда злилась, когда копалась, точно Фрейд, в своей и в моей душе. Среди всех мужчин и женщин, которых я знал, не было никого, кто бы своим умом, творческой энергией вызывал у меня такое уважение, как она. Что же до ее красоты, то даже те женщины, кого я предпочел ей, не могли с ней сравниться.
И все-таки я не мог, как ни старался, устоять против притягательной силы жизни, против всегдашней страсти к переменам, ко всему новому, неизведанному. Любовь к жизни манила меня к себе, притягивала, охаживала кнутом, нашептывала, соблазняла: «Будет тебе. Будет. Не выдумывай. Что за вздор? Одна девушка. Одна жизнь. Одна любовь. Однако не делай вид, что ты будешь верен одной, всего одной в целом мире. У тебя молодость. У тебя обаяние. У тебя слава. У тебя поклонницы. Нет, в твою верность я никогда не поверю…»
Назад: Аглая
Дальше: Книга Сидонии

