Глава 17
О музыке и других искусствах
Об исторической забывчивости и колоннах с человеческим лицом, о музыкальном протестантизме и художественном централизме, а также о том, как Каспар Давид Фридрих вглядывается в Антона Брукнера, а Стэнли Кубрик — в Дьёрдя Лигети
Тексты и контексты. — Виноградная гроздочка. — Птички небесные и земные. — Функциональная гармония абсолютизма. — Буря и натиск предромантизма. — Патриотические песни. — Авангардисты и неоклассики. — Музеи: со стенами и без. — Искусство кино.
Линии: прямые, кривые, ломаные
История музыки неотделима от истории других видов искусства: музыка и живопись, музыка и литература, музыка и кинематограф — это, пользуясь геометрической аналогией, не параллельные прямые, но постоянно пересекающиеся ломаные линии. Иногда точки пересечения очевидны — как в опере. То же самое — саундтреки к кинофильмам, специфический род музыки, заведомо существующей во взаимодействии с другим художественным медиумом. Такое взаимодействие не всегда прямолинейно: скажем, французская классическая музыка времен абсолютизма, казалось бы, не находилась в непосредственном контакте с изобразительным искусством той же эпохи. Но и то и другое было порождением одной и той же придворной культуры, одного мировоззренческого поля, одной среды обитания — и потому здесь правомочно говорить о параллелях. Так, между классицистической живописью с ее культом внятных, четких линий и форм, классицистической драмой Корнеля и Расина с ее единством времени, места и действия, а также теорией функциональной гармонии Жана-Филиппа Рамо, в которой обосновывается существование устойчивых и неустойчивых ступеней в рамках тональности, обнаруживается куда больше общего, чем кажется на первый взгляд.
Практически все, с чем мы имеем дело в истории искусства, так или иначе обусловлено культурной средой: этическими, эстетическими, религиозными, философскими, социальными конвенциями, сложившимися в том или ином пространстве в то или иное время. Есть текст — и есть контекст; всякое творчество — это по определению совокупность частного и общего, индивидуального и контекстного, причудливое стечение обстоятельств в самом буквальном смысле этого словосочетания. Вот одно обстоятельство — назовем его духом времени; вот другое — личный авторский взгляд; вот они «стекаются» в разнообразных пропорциях и комбинациях — получается произведение искусства.
Поэтому, например, гений Баха неоспорим — но столь же неоспорима и его принадлежность к протестантской культуре, насквозь пропитанной символами и эмблематикой, и в этом смысле его творчество оказывается музыкальной рифмой живописи Северной Европы XVII века, которая содержит в себе сходный религиозно-дидактический подтекст. Другой пример: итальянская опера — следствие секуляризации общественной жизни и одновременно грандиозный финальный аккорд антикизирующего проекта эпохи Возрождения (подчинившего себе едва ли не все пространство ренессансной культуры), тот самый конец, который знаменует новое начало. Споры между сторонниками абсолютной и программной музыки в XIX веке шли параллельно художественным конфликтам — между романтиками и реалистами, академистами и импрессионистами, в основе которых лежали во многом схожие предпосылки. Иными словами, разные полюса культурной жизни во все времена питались из одного и того же котла идей, существовали в едином пространстве.
Античная эстетика, или Похоже, да не то же
Так что не стоит удивляться тому, что в европейской традиции первая кодифицированная музыкальная система, с нотацией, со списком ладов и закрепленных за ними свойств, была создана в Древней Греции — это прямо вытекает из культа порядка и логики, свойственного этим месту и времени. Увы, у нас недостаточно данных для того, чтобы подвергнуть античную музыку периодизации на манер современной ей архитектуры и изобразительного искусства, по линии «архаика — классика — эллинизм» (хотя отчасти возможно и это — ведь что такое Оксиринхский гимн, как не эллинистическое музыкальное произведение: христианский текст — но гиполидийский лад и греческая буквенная запись?). Зато очевидно, что принципы античной эстетики как таковой нашли отражение и в музыке. Судить об этом мы можем в том числе по дошедшим до нас мифам и легендам. Вот, к примеру, история художников — Зевксиса и Паррасия (между прочим, оба — реальные исторические персонажи, хотя идеализированное предание об их споре, конечно, вряд ли стоит принимать за чистую монету): «Зевксис с Паррасием поспорили, кто лучше распишет стену храма. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого росписи под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало — на стене была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. „Теперь ты отдерни покрывало!“ — сказал Зевксис Паррасию. „Не могу, — ответил Паррасий, — оно-то у меня и нарисовано“. Зевксис склонил голову. „Ты победил! — сказал он. — Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца“».
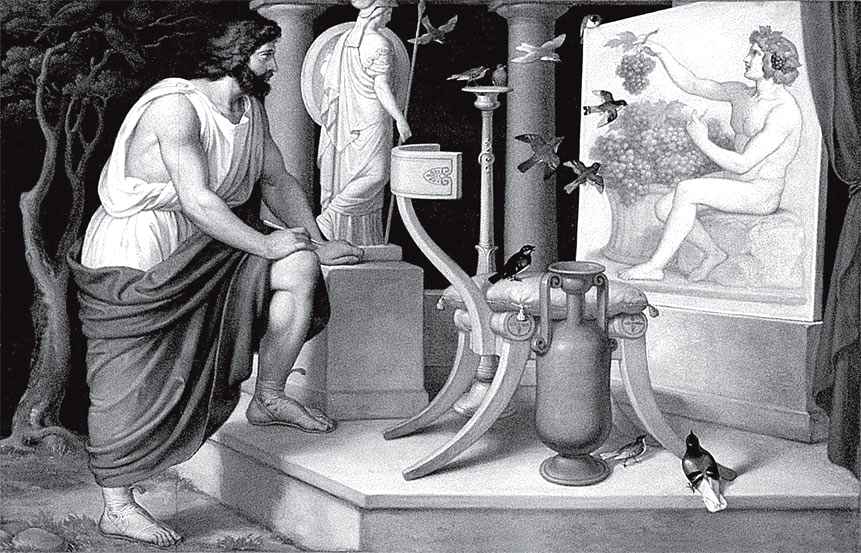
Иоганн Георг Хильтеншпергер. Зевксис обманывает птиц картиной «Мальчик с виноградом». Фреска в Галерее истории древней живописи Эрмитажа. XIX век.
А вот — созвучный миф о музыканте Орфее:
У ног его лежала его золотая кифара. Поднял ее певец, тихо ударил по струнам и запел. Вся природа заслушалась дивного пения. Такая сила звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него как зачарованные столпились дикие звери, покинувшие окрестные леса и горы. Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея; дуб и тополь, стройные кипарисы и широколистые платаны, сосны и ели толпились кругом и слушали певца; ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа казалась очарованной дивным пением и звуками кифары Орфея.
Занятно, что и там и там упоминаются обманутые, зачарованные мастерством артиста птицы, — мерой виртуозности становится крайнее натуроподобие: в изображении ли, в пении, в чем угодно. Эта эстетическая сверхидея проникает и в архитектуру — колонны античного храма, в отличие, например, от гигантских несущих столбов египетских или месопотамских построек, явно уподоблены человеческому телу. Как пишет А. Ф. Лосев, «уже давно в истории и в теории архитектуры сопоставляют греческую колонну именно с человеческим телом. Она вертикальна, как человеческое тело (а не как тело животного), и ее вертикальность не схематическая, а живая (энтазис). Она снабжена каннелюрами, в которых трудно не узнать складок платья (даже формально-технически обработка этих каннелюр близка к обработке одежды на многих статуях), и также капителью, которая уже одним своим названием указывает на скрытую здесь идею „головки“».
Искусство аккуратно вписывается в упорядоченную модель Вселенной: колонна — как образ человеческой фигуры (иногда использовались и сами фигуры — кариатиды и атланты), фрески Зевксиса и Паррасия — как примеры подражания природе, а земная музыка — как отзвук высшего порядка, пифагорейской музыки сфер, приводящей в движении весь механизм мироустройства. Эта эстетическая конструкция мыслилась незыблемой, устойчивой, идеально уравновешенной, и потому древнегреческий музыкальный канон, подобно архитектурному или скульптурному, по всей видимости, также отличался изрядной жесткостью. Да, в нем неизменно присутствовало и игровое начало — ведь что такое песнь Орфея, гипнотизирующая даже перевозчика душ Харона, или гиперреалистическое изображение виноградной грозди, как не розыгрыш, трюк, хитроумная проделка? Но при всем при этом и на Олимпийских играх, и даже на рядовых празднествах неизменно регламентировались практически все аспекты музыкальных выступлений: например, выбор песенных жанров, ладов и инструментов (лира, кифара, флейта — но ни в коем случае не многострунные «варварские» восточные арфы). Эклектика же считалась пороком, о чем Платон сообщает прямым текстом:
Впоследствии, с течением времени, зачинщиками невежественных беззаконий стали поэты, одаренные природой, но не сведущие в том, что справедливо и законно в области Муз. В вакхическом исступлении, более чем надо одержимы наслаждением, смешивали они фрэны с гимнами, пеаны с дифирамбами, на кифаре следовали флейтам, перемешивая все между собой; невольно, по недоразумению, они испортили мусическое искусство, словно оно не содержало никакой правильности и словно мерилом в нем служит только наслаждение, почувствованное тем, кто получает удовольствие, независимо от того, плохой он или хороший. Составляя такие произведения и излагая подобные учения, они вселили большинству беззаконное отношение к мусическим искусствам и дерзкое высокомерие, побудившее их считать себя достойными судьями.
Ни в склад, ни в лад
По контрасту следующая эпоха, раннехристианская и затем средневековая, — это время неуравновешенное и неустойчивое: стройная античная система ценностей больше не объясняла непредсказуемые флуктуации универсума — опустошительные варварские набеги, кризис римской императорской власти, кризис доверия к власти как таковой — и потому терпела крах, а на ее месте рождалось новое мировоззрение, а значит, новая культурная среда, новая этика и эстетика. Нам опять-таки тяжело делать выводы о музыкальной жизни времен упадка Римской империи в силу недостатка документальных свидетельств — зато до нас дошло немало произведений искусства, позволяющих судить о культурных процессах, происходивших в этот период. Мраморный бюст императора Диоклетиана (годы правления 284–305) еще несет на себе отпечатки развитого скульптурного стиля высокой римской классики: трехмерность, портретное сходство, тонкая проработка волос и бороды с помощью буравчика. Образы его преемников, Галерия (293–311) и особенно следующего императора, Максимина Дазы (305–313), уже напоминают скорее о восточных погребальных масках — плоскостные решения, подчеркнутые контуры, предельно обобщенные выражения лиц с пустыми, уставившимися в никуда глазницами. Именно к римским временам восходит пословица «Когда говорят пушки, музы молчат», и очевидно, что находившейся в состоянии постоянных междоусобиц и внешних войн империи было не до рафинированного искусства — приемы, прославившие римскую скульптуру времен расцвета, стали потихоньку забываться.

Скульптурные портреты римских императоров Диоклетиана (284–305) и Максимина Дазы (305–313).
Подобная участь почти неминуемо должна была постичь и музыкальное искусство — и косвенным свидетельством этого стала путаница, возникшая в Средние века в области музыкальной теории. В начале VI века Боэций, философ, теолог, политический деятель, один из самых просвещенных людей своего времени, который в «Истории» Эдварда Гиббона даже назван «последним римлянином», каталогизировал в трактате «О музыкальном установлении» античную систему октавных ладов. Благодаря его трудам античные представления о музыке не были преданы забвению — однако с интерпретацией Боэциевой премудрости у потомков то и дело возникали трудности. Спустя три сотни лет, в другом трактате — «Alia Musica» («Иная музыка»), устоявшиеся названия музыкальных ладов — фригийский, лидийский, дорийский и т. д. — соответствовали совсем другим звукорядам. Как пишет в «Справочнике по григорианскому хоралу» Дэвид Хайли, «что касается модальной терминологии, то автор [трактата „Иная музыка“] просто присвоил названия греческих ладов восьми ладам григорианских хоралов, проигнорировав их основные свойства. У Боэция под этими названиями фигурировали звукоряды, демонстрирующие семь видов октавных консонансов; никакой внутренней иерархии тонов не подразумевалось. Церковные лады, однако, не могут быть уподоблены этим звукорядам, ведь некоторые тоны в них иерархически выделены [например, финалис — „окончательный“ тон]».
Отсюда несоответствие одинаково называющихся ладов в античной и в средневековой церковной традициях: как указывает Хайли, первые попытки вернуть понятиям фригийского или дорийского лада их первоначальное значение были предприняты только в XVI веке, когда европейские гуманисты всерьез заинтересовались оригинальными античными источниками, а не их позднейшими пересказами. Что до описанной терминологической путаницы, то она, в общем, вполне характерна для Темных веков, как принято называть несколько столетий общего социокультурного раздрая, постигшего европейскую цивилизацию после падения Римской империи. Античная мудрость в это время оказалась в значительной степени забыта — вместе с языком, на котором она формулировалась: даже современники Боэция в большинстве своем уже не знали греческого. Старые книги горели в пожарах и рассыпались от ветхости, изменился и сам носитель литературной информации — на место папируса пришел пергамент, и многие старые источники так и не были переписаны в новом формате. Характерно, кстати, что восточная часть Римской империи, Византия, сохранив и государственную целостность, и преемственность по отношению к античной культуре, быстрее оправилась от потрясений — уже в IX веке здесь жила и творила Кассия Константинопольская, автор стихир, ямбических эпиграмм и канонов, вероятно, первый композитор в истории человечества, которого мы знаем по имени и чьи произведения можем исполнить и послушать. Конечно, теоретически своя Кассия могла быть и на Западе — но мы о ней ничего не знаем, что само по себе показательно: западноевропейская история этого периода в самом деле как будто бы скрыта во тьме времен.
И свет во тьме светит
Впрочем, насчет раннего Средневековья есть и иная точка зрения, для которой термин «Темные века» — образчик ангажированной историографии, дискриминирующей целый исторический период на основании ложной посылки о художественном превосходстве развитой античной культуры над примитивной средневековой. И действительно, выражение, по всей видимости, восходит к Петрарке, который был, скажем так, заинтересованным комментатором — поскольку жил в XIV веке и придерживался гуманистических ренессансных воззрений. О Средних веках он писал так: «Даже тогда были люди, чей гений сиял посреди чудовищных заблуждений, чей взгляд был зорок и остр, хотя вокруг клубилась тьма, густой, глубокий мрак».
К сожалению, если за этим утверждением и следовал какой-либо перечень востроглазых гениев Средневековья, то впоследствии он оказался утрачен — но можно предположить, что в него были бы включены и Боэций, и Блаженный Августин, и другие авторы, размышлявшие на темы теории и практики музицирования. В конце концов, идеалом Петрарки явно была античность — но ведь и Боэций отталкивался от пифагорейской концепции музыки сфер. Вообще, если, скажем, в изобразительном искусстве раннего Средневековья античные эстетические идеалы были практически полностью отброшены (чтобы вновь обрести актуальность лишь в эпоху Возрождения), то в делах музыкальных переход оказался, пожалуй, менее резким: древнегреческий кифаред или флейтист, оказавшись в Италии или Франции VI–X веков нашей эры, конечно, был бы изрядно удивлен низким статусом инструментальной музыки (в храмах предписывалось пение а капелла) или переиначенными наименованиями ладов, но определенно понял бы и принял теорию о небесной гармонии. Ведь средневековые теоретики прямо унаследовали ее из античности — правда, не упустив возможность изящно встроить в нее образ Иисуса Христа, представления о спасении души и прочие аспекты своего вероучения.
История средневековой музыки — это пример того, как конвенции среды определяют развитие целого вида искусства: если бы инструментальная музыка, низведенная в это время до бытового, фольклорного жанра, не была изъята церковными иерархами из богослужебной практики, шестеренки музыкального прогресса, надо думать, крутились бы совершенно иначе. В сложившейся же ситуации музыка — по крайней мере, в своей духовной разновидности — эволюционировала в тесной связи с архитектурой и архитектурной декорацией (почти безальтернативным пространством ее бытования оказался собор). Так, романскому стилю — массивные храмовые своды, минимум декора, тяготение к горизонтали — и хронологически, и фактически соответствовал одноголосный григорианский хорал (расцвет — IX–X века). Таким было визуальное и акустическое воплощение раннесредневековой веры — мистической, во многом обскурантистской, в так называемый патристический период, связанный с деятельностью и творчеством отцов церкви, не отличавшейся ни гибкостью, ни милосердием. Эти особенности в романскую эпоху приведут, в частности, к крестовым походам против неверных, которые, кстати говоря, на своей территории в те годы выстроили значительно более гуманистическое и толерантное общество, нежели западноевропейское.

Бенедиктинское аббатство Лессе в Нормандии. XI век.
Реабилитация красоты
Напротив, музыкальной параллелью готического стиля — более воздушного, прозрачного, завороженного идеей вертикального движения (благо новые архитектурные решения вроде аркбутанов и контрфорсов позволяли строить более высокие здания), не чуждого яркой и изощренной скульптурной и витражной декорации — стали полифонические органумы; две яркие полифонические школы развитого Средневековья неслучайно получили свое название в честь крупных готических соборов той эпохи — Сент-Этьен в Лиможе и Нотр-Дам в Париже. В дополнительных голосах органумов, как в узорах нервюр на храмовых сводах зрелой готики, не было конструктивного, «несущего» смысла — грубо говоря, и то и другое было нужно «для красоты», причем красоты, зримой уже не только Богу да ангелам на небесах, но и самым грешным из ее свидетелей. Для того чтобы оценить мировоззренческий сдвиг, произошедший в Высокое Средневековье (XI–XIV века), достаточно сравнить две цитаты из знаковых литературных памятников. Вот раннехристианская «Исповедь» Августина (конец IV века):
Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, — не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат, и некую пищу, и некие объятия, когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего.

Аркбутаны, контрфорсы и декоративные элементы собора Сент-Этьен в Лиможе. XIII–XIX века.
А вот «Сумма теологии» Фомы Аквинского (вторая половина XIII века):
Красота же имеет отношение к познавательной способности, ибо красивыми называются предметы, которые нравятся своим видом. Вот почему красота заключается в должной пропорции: ведь ощущение (sensus) наслаждается вещами, обладающими должной пропорцией, как ему подобными, поскольку и ощущение есть некое разумение (ratio), как и всякая познавательная способность вообще. И так как познание происходит путем уподобления, подобие же имеет в виду форму, собственно красота связана с понятием формальной причины.
Разница — во всем, вплоть до стилистики: у Августина — взволнованный монолог человека, утвердившегося в вере и не испытывающего тяги к какой-либо рассудочной инспекции своих убеждений, у Аквината — рациональное, почти педагогическое по своей манере изложение, напоминающее трактаты античных мыслителей. Последнее — знак нового времени в истории философии, схоластического (в противовес августиновской патристике), то есть той эпохи, когда накопленный античностью багаж знаний о мире вновь стал кому-то интересен — и хотя бы частично доступен; от философов в этих условиях требовалось главным образом примирить эти вновь обретенные знания с теологическим каноном средневековья.
Но главное различие двух приведенных цитат — в самом восприятии красоты: для Августина это лишь сосуд, в котором содержится божественная благодать, для Фомы Аквинского же она вполне самоценна. То есть эстетическое наслаждение обособляется от сферы сакрального — оно больше не воспринимается всего лишь как приятный побочный эффект в трудном деле духовного совершенствования. Отсюда постепенное усиление декоративных элементов практически во всех видах искусства: каменная вязь зрелых готических порталов, гротескные картинки-drolleries на полях средневековых книг и эстетская полифоническая музыка мотетов Ars subtilior.
Автора! Автора!
Всплеск декоративности — в противовес строгой конструктивности предшествующей эпохи — диктовался общими изменениями культурной среды: ее «обмирщением», переходом от несколько репрессивной духовности к большей светскости и открытости. Характерно, что к этому периоду относятся первые дошедшие до нас из западноевропейского Средневековья имена поэтов-трубадуров, художников и композиторов. Конечно, в значительной степени это объясняется растущим с каждым столетием количеством исторических источников и их лучшей сохранностью, но, пожалуй, не только этим. На деревянном распятии из собора в итальянском Сполето обнаружили датировку (1187 год) и подпись художника — Альберто Сотио. Произведения искусства для храмов всей Европы создавались и раньше, но до синьора Сотио никому из авторов и в голову не приходило сообщать свое имя современникам и потомкам. То же самое касается архитектуры — подпись архитектора Диотисальви красуется на одном из камней пизанского баптистерия Сан-Джованни (ему же теперь часто приписывается и знаменитая падающая башня по соседству).

Альберто Сотио. Распятие. 1187.
В чем тут дело? Уж точно не в том, что в XII веке художники вдруг ни с того ни с сего сделались честолюбивы, а до этого были, наоборот, чрезвычайно скромны. По-видимому, причина в том, что целеполагание искусства стало другим — прежде художники (а равно архитекторы или композиторы) творили исключительно во имя вышеупомянутого спасения души, а не ради мирской славы. Теперь же, в соответствии с мировоззрением новой эпохи, они все чаще стали задумываться о сиюминутной, земной ценности ремесла — и это не замедлило сказаться на их творческих повадках. Конечно, любой художник по определению оставался богобоязненным христианином (подвергать сомнению церковные догматы станут лишь в эпоху Возрождения распоясавшиеся гуманисты вроде флорентийского философа Пико делла Мирандола). Но одновременно он мыслил себя уже и немножко Паррасием, гением, стремившимся поразить своим искусством птиц и людей.
Краткий курс музыкальной орнитологии
Кстати, тема птиц, зачарованных человеческим творчеством — и конкретно музыкой, — вновь всплывает в источниках позднего Средневековья, причем ее редакция с античных времен практически не изменилась; итальянский хронист Джованни да Прато так описывает перформативные практики легендарного композитора и органиста XIV века Франческо Ландини:
Покуда тысячи птиц пели среди покрытых зеленью ветвей, кто-то попросил Франческо немного сыграть на органе, чтобы выяснить, заставит ли это птиц замолчать — или, наоборот, запеть еще громче. Он тотчас же выполнил просьбу, и случилось великое чудо: стоило политься звуку, как многие птицы замолчали, и слетелись вокруг словно бы в изумлении, и долго слушали его игру; затем же они продолжили свою песню и усилили ее, демонстрируя неподдельный восторг, особенно один соловей, усевшийся на ветвь прямо над головой Франческо.
Спустя несколько столетий, на рубеже XVII–XVIII веков, подобного «Влюбленного соловья» запечатлеет в одной из своих клавесинных пьес тезка Ландини Франсуа Куперен — а по соседству на страницах его нотных тетрадей обнаружатся еще и, например, «Жалобные малиновки». В том, что птичье пение стало сквозной темой в истории музыки, пожалуй, нет ничего удивительного — среди всех звуков природы оно едва ли не единственное организовано мелодически (в отличие, скажем, от шума ветра или плеска морских волн). Попытки вокально или инструментально имитировать птичьи трели, как было показано выше, предпринимались еще в античную эпоху; в Новое же и Новейшее время соловьи, помимо Куперена, «поют», например, в трех разных произведениях Генделя, в «Ипполите» Рамо, в Третьей симфонии Бетховена, в музыке Глинки, Мендельсона, Равеля. Не меньшей популярностью среди композиторов пользовалась кукушка, чей характерный «джингл», как правило, воспроизводился с помощью большой или малой терции: классический пример — вторая часть бетховенской Пасторальной, похожую кукушку слышно у Вивальди, в «Снегурочке» Римского-Корсакова и «Карнавале животных» Сен-Санса. А вот Малер в Первой симфонии отошел от канона и заставил птицу куковать в кварту. В XX веке музыкальная орнитология достигла апогея в творчестве Оливье Мессиана: с 14 лет он делал полевые записи птичьего пения и в своих экспедициях добрался даже до Новой Зеландии. Названия многих сочинений, например «Пробуждение птиц» (1953) для фортепиано с оркестром или фортепианный «Каталог птиц» (1956–1958), звучат буквально, но, в отличие от предшественников, Мессиан не просто использовал птичьи трели в иллюстративном смысле, но сформировал на их основе собственный художественный язык, влиятельную музыкальную систему и мировоззрение одновременно:
В часы уныния, когда я особенно ясно осознаю всю бессмысленность своего существования, когда звуки всякой музыки кажутся мне беспомощными, я вспоминаю истинное лицо музыки, забытое в лесах, полях, горах или на морском побережье, — пение птиц. Именно в этом заключается для меня музыка, музыка естественная, безымянная, существующая для удовольствия, для того чтобы встречать восход солнца, очаровывать возлюбленную, развеивать усталость, — прощаясь с отрезком жизни в момент, когда кончается день и наступает вечер…

Оливье Мессиан записывает голоса птиц.
Впрочем, столь ценимая Мессианом естественность далеко не всегда в истории человечества почиталась за добродетель. В трактате Августина «О музыке» приведен диалог учителя и ученика, из которого делается однозначный вывод: пение птиц бессознательно и, следовательно, не может считаться искусством, ибо в основе последнего непременно должно лежать некое проявление разума. В XVII веке английский поэт Ричард Крэшо пишет стихотворение «Музыкальный поединок» о соревновании лютниста с соловьем; судьба последнего оказывается печальной:
Увы, напрасно! Многозвучный звон
Искусных струн лишь миг пытался он
Унять в порыве горестном одним
Простым и чистым голосом своим.
И не сумел, и в скорби опочил,
И смертью пораженье искупил,
И пал на лютню, о достойный, чтоб
(Столь звучно певший!) лечь в столь звучный гроб!
Птицы настоящие — и искусственные
А в XVIII веке, на волне изобретательского бума, во Франции придумывают диковинное приспособление: «птичий орган», или la serinette. Его можно увидеть на одноименной картине Жана-Батиста Шардена; с помощью хитроумного устройства живых канареек с переменным успехом пытались научить исполнять мелодии, написанные человеком. Это своего рода кульминация долгой и славной истории причудливых музыкальных конструкций-автоматонов, популярных в Западной Европе начиная со Средних веков: в некоторых, кстати, фигурировали и искусственные певчие птицы на пневматическом управлении. Впрочем, если там речь шла всего лишь об имитации птичьего пения, то изобретатели la serinette сделали следующий шаг: они попробовали сменить пернатым репертуар. Человеческие возможности в век Просвещения, по-видимому, казались поистине безграничными — а репутация понятия «естественность», напротив, находилась на историческом минимуме.
И все же запрос на некоторую натуральность в какой-то степени сохранялся даже тогда. Как предполагает в книге «Спетые птицы. Музыка, природа и поэзия позднего Средневековья» Элизабет Эва Лич, «Влюбленные соловьи» и прочие птицы возникли в инструментальной музыке Куперена и других авторов неслучайно:
Хотя автоматоны и олицетворяли триумф человеческого разума и, таким образом, были глубоко «человечны» по своей природе, им, с их жутковатой бойкой механистичностью, определенно недоставало души. И инструменталисты-виртуозы также вызывали у зрителей скорее изумление, чем сопереживание: в описаниях их игры в источниках зачастую использован тот же набор слов, что и в описаниях работы автоматонов, — музыканты характеризуются как своего рода деревянные манекены, приводимые в действие неким механизмом… По-видимому, птичье пение, озвученное в инструментальной музыке этой эпохи, было попыткой позиционировать музыкантов как родственников пернатым песнописцам, заявить, что они не просто хорошо отлаженные машины по производству звуков, но своеобразный биологический вид, естественным свойством которого является «певучесть».

Жан-Батист Шарден. Птичий орган. 1751.
Чем дальше, тем спрос на естественность становился сильнее: если у Крэшо соловей погибал в неравной музыкальной битве с двуногим лютнистом, то в одноименной сказке Андерсена (1843) он за явным преимуществом побеждает подаренную китайскому императору механическую птицу: когда к императору приходит смерть, лишь пение живого соловья оказывается способно заставить ее убраться восвояси. У Стравинского (премьера оперы «Соловей» состоялась в 1914 году) партии автоматона предписан пентатонный звукоряд (дань китайской теме — но и намек на ограниченные возможности механического соловья), тогда как настоящая птица изъясняется виртуозными пассажами в верхнем регистре у сопрано, написанными в семиступенном ладу с его последовательностью тонов и полутонов. Дэвид Ноуэлл Смит в книге «О голосе в поэзии» подытоживает: «Голос соловья более ярок, чем обычный человеческий, и менее предсказуем, нежели пение заводной игрушки, — таково тонально-гармоническое послание Стравинского».
Так или иначе, идея о том, что пение птиц краше, чище и подлиннее любых рукотворных звуков, принадлежит уже романтическому мировоззрению — и в XX век она проникла именно с его подачи. В Средние же века хитроумные устройства-автоматоны имелись едва ли не при каждом уважающем себя королевском дворе — сходным чудом техники, к слову, тогда считался и несколько лучше знакомый нам инструмент: орган. Популярность всех этих причудливых, издающих звуки конструкций ручной работы (о массовом производстве речи еще не было) определялась общей завороженностью разного рода чудесными диковинами и возвращением в мировоззренческий обиход античной системы ценностей — подражание природе и другие игры в имитацию высоко ценились древними греками. Антикизация сознания в позднее Средневековье имела далекоидущие последствия и для следующего, ренессансного периода с его культом учености: отношение к человеку прямо зависело от широты его кругозора и многообразия его талантов (см. устойчивое выражение «человек Возрождения», обозначающее того, кто хорошо подкован во многих сферах сразу). Кроме того, усилился интерес к коллекционированию древностей, благо земля, на которой тысячелетиями ранее разворачивалась античная история, была набита ими под завязку. Вот что сообщает итальянский гуманист первой половины XV века Поджо Браччолини в одном из писем: «Я дал несколько особых поручений магистру Франциску из Пистойи, когда он покидал нас. Среди них самое важное — разыскивать любые мраморные статуи, даже если они разбиты, или найти любую замечательную [редкую] голову [от статуи], которую он может привезти с собой. Я сказал, что в местах, куда он отправлялся, они в изобилии. Действительно, Франциск очень аккуратно исполняет мои поручения: вчера я получил от него письма, написанные с острова Хиос, в которых он извещает меня о том, что у него для меня имеется три мраморные головы, исполненные Поликлетом или Праксителем. Это головы Юноны, Минервы и Вакха; последнюю он оценивает очень высоко».
Высокая античность в школе и дома
Непосредственное знакомство с античными источниками — даже притом, что насчет Поликлета и Праксителя корреспондент Поджо Флорентийского, вероятно, несколько преувеличивал, — продемонстрировало человеку эпохи Возрождения самое главное: возможность существования искусства безусловно высокого — по производимому эстетическому впечатлению, по глубине поднимаемых тем, по техническому мастерству исполнения — и притом целиком и полностью светского, лишенного какой-либо связи с религией. Это было чудесным и удивительным открытием, сотрясшим самые основы культурного мировоззрения, — и если философия отреагировала на него схоластическими «суммами» Фомы Аквинского, стремившегося найти компромисс между античными и христианскими представлениями о добре и зле, то в разных сферах искусства оно привело к еще более грандиозным переменам: высокое и низкое, духовное и светское отныне могли переплетаться друг с другом в самых причудливых конфигурациях. Прекрасный пример проникновения «высокой» античности в «низкую» бытовую жизнь демонстрирует одна из новелл Франко Саккетти, выдающегося итальянского литератора XIV века; в ней главный герой — состоятельный и образованный флорентиец Коппо ди Боргезе Доменики заказал рабочим ремонт своего дома. Пока те работали, Коппо читал Тита Ливия и пришел в страшное негодование от истории о римских женщинах, требовавших на Капитолийском холме отмены закона о запрете украшений. Свое негодование он недолго думая выплеснул на несчастных работяг:
Ах! Уходите вы сегодня с богом во имя дьявола. Я хотел бы лучше никогда не родиться на свет, когда я только подумаю, что у этих нахалок, у этих распутниц, у этих негодяек хватает дерзости бежать в Капитолий, так как они хотят вернуть свои украшения. Что сделают с ними римляне? Коппо, Коппо, стоящий здесь, не может успокоиться. Если бы я только мог, я их приказал бы сжечь всех, чтобы те, кто останутся в живых, всегда помнили бы об этом. Ступайте вон и оставьте меня в покое!Рабочие ушли, боясь, как бы не было хуже, говоря друг другу: «Какой черт с ним? Он говорит что-то о римлянах: может быть, о римских весах?»А другой прибавил: «Он рассказывает невесть что о распутницах: уж не согрешила ли его жена?»Тогда третий рабочий заметил: «А мне показалось, что он сказал про Капми-дольо; вероятно, у него голова болит».На что четвертый сказал: «А мне так показалось, что он жалуется на то, что пролил кувшин масла».
Конечно, простым каменщикам было невдомек, кто такой Тит Ливий, и даже слово «Капитолий» они расслышали неправильно, но Коппо, согласно Саккетти, бушевал аж до следующего утра и лишь тогда пришел в себя и расплатился с бригадой. Для рабочих тем не менее беседа с эксцентричным заказчиком была, надо полагать, не единственным столкновением с античностью. Результаты общей секуляризации, которую спровоцировало возвращение греко-римской древности в обиход, они наверняка могли каждый день видеть и слышать в церкви, во время обыкновенной литургии. Живописные алтарные образы, прежде сугубо иератические, плоскостные, стали мягче, тоньше, «человечнее» — на место однотонной фоновой заливки (например, золотой), увеличивавшей психологическую дистанцию между зрителем и изображением, пришли пейзажные фоны, выполненные по законам перспективы. Хотя сами эти законы будут окончательно сформулированы позже, в XV веке, Леоном Баттистой Альберти и другими мастерами архитектуры и живописи Кватроченто, уже Джотто (1267–1337) интуитивно нащупывал в своих произведениях соответствующие пространственные решения. С пейзажами же не могло быть ошибки — Святое семейство, сцены Благовещения, Распятия или Пира в Кане Галилейской изображались на фоне вовсе никакой не Каны (в которой художники отродясь не бывали и не знали, как она выглядела), а знакомого каждому прихожанину среднеитальянского пейзажа: вот же они, холмы Тосканы с маленькими позднеготическими церквушками посреди живописных деревень и овечьих пастбищ.

Джотто ди Бондоне. Фрагмент фрески «Святой Франциск дарит свой плащ бедному рыцарю». 1296–1298.
Человек — это звучит гордо
В живописи эпохи Возрождения появились новые жанры, не имевшие, что характерно, вовсе никакого религиозного, богослужебного подтекста, — мифологическая сцена и портрет. Последнее — еще один симптом сдвига и в философии, и в бизнес-модели искусства; наряду с художниками собственную важность для культурной жизни ощутили и их состоятельные патроны, называвшиеся тогда донаторами. Прежде эти люди жертвовали честно заработанные деньги храмам и монастырям — в надежде, что им это зачтется на Страшном суде; затем стали просить изображать себя на многофигурных алтарных композициях — обычно где-нибудь сбоку, в благочестивой коленопреклоненной позе; теперь же ими все чаще двигали уже не эсхатологические соображения, а обыкновенное здоровое тщеславие, — и потому портрет (поначалу сугубо заказной) быстро выделился в особый художественный жанр. Но и в музыке донаторы играли чем дальше, тем большую роль — к примеру, Карл Кюгле, автор статьи «Как представляли и чувствовали музыку в Средние века», полагает, что во многом именно с их возросшим авторитетом связано смещение композиторского интереса в мессе с проприя на ординарий:
В XIV веке появляются полифонические решения ординария — важное новшество, учитывая, что в предыдущие столетия вся композиторская активность в рамках литургии строго концентрировалась на проприи. Причины этого, по-видимому, следует искать в растущей набожности горожан и, как следствие, увеличении количества светских покровителей церквей, которое наблюдалось в XIV–XV веках. Поначалу лишь отдельные части ординария разрабатывались в мензурально-полифоническом ключе, в особенности Gloria и Credo… Но к началу XV века переписчики — как, по-видимому, и сами исполнители — принялись комбинировать эти фрагменты друг с другом в тех сочетаниях, которые казались им приятными на слух: часто встречались пары Gloria — Credo, а в рукописи из музея Болоньи, как показали недавние исследования, представлен своего рода литургический «цикл» — пять месс на текст ординария, написанных разными композиторами и соединенных в своего рода попурри.
В литургическую музыку в этот период уже напрямую проникали мелодии, заимствованные из светского обихода: см., например, бесчисленное множество месс, написанных на cantus firmus песни «L’Homme Arme», «Вооруженный человек». Так что легко представить себе ситуацию: условный рабочий из новеллы Саккетти приходит в храм — а там звучит та же мелодия, которую он только что слышал на ярмарочной площади…
Словом, стирание границ между духовным и секулярным затронуло в эпоху Возрождения практически все виды искусства — но это не единственный аспект, в котором музыка и живопись развивались параллельно друг другу. Стюарт Исакофф в книге «Музыкальный строй» сравнивает практики ренессансных органистов с деятельностью художников эпохи Кватроченто: «Настройки были… своеобразными звуковыми мирами, которые придавали нотам, заключенным в мелодии и гармонии, те или иные формы и краски. Их интервалы, созвучные и не очень, атмосфера, которую они создавали, влияние, которое они оказывали на развитие той или иной композиции, — все это соединялось в своего рода звуковую перспективу: фильтр, сквозь который во внешний мир проецировалась точка зрения композитора».
В самом деле, именно в эпоху Возрождения возникла практика темперации — то есть такой настройки музыкальных инструментов, при которой пифагорейские чистые интервалы игнорировались в целях общего благозвучия; Исакофф видит в этом нечто большее, чем просто удобный способ избежать «волчьих нот» и диссонансов. Темперация, как и перспективная живопись, — это прежде всего дерзкое вторжение человека-творца в то, что прежде считалось прерогативой другого Творца, того, который обитает на небесах: художник конструирует на холсте или доске новый мир, музыкант занимается тем же самым в сфере звуков.
Ренессансный Шенген, или Обнимитесь, миллионы
Но и на сугубо бытовом уровне музыка и изобразительное искусство движутся во времена Ренессанса параллельными курсами: так, и в той, и в другой сфере Западная Европа впервые в истории начинает представлять собой цельное, монолитное культурное пространство. На место средневековых городов-крепостей, ощерившихся неприступными башнями, приходят новые, открытые города, находящиеся друг с другом в состоянии более или менее непрерывного торгового и культурного обмена, — а у жителей появляется представление о широком, но на самом деле вполне постижимом пространстве за пределами городских стен. Неслучайно в литературе позднего Средневековья и эпохи Возрождения актуализируется тема путешествия: Данте в «Божественной комедии» блуждает по аду, раю и чистилищу (в компании античного поэта Вергилия), а одной из первых книг, отпечатанных типографом Альдом Мануцием в Венеции в конце XV века, причем сумасшедшим по меркам эпохи тиражом в 600 экземпляров, стал иллюстрированный роман «Гипноэротомахия Полифила», приписываемый Франческо Колонне, — история о том, как главный герой, уснув, переносится в античные времена и отправляется на грандиозную экскурсию по местным городам и храмам. Конечно, такое странствие можно было пережить только во сне — изобрести машину времени не удалось даже ренессансным гениям вроде Леонардо да Винчи. Однако и реальные обитатели городов эпохи Возрождения вовсю пользовались преимуществами ренессансной «евроинтеграции»: нидерландские композиторы-полифонисты Гийом Дюфаи и Жоскен Депре ездили работать в Италию — и то же самое делал, например, немецкий художник Альбрехт Дюрер; с другой стороны, выдающийся итальянский художник-кватрочентист Андреа Мантенья знал и ценил живопись так называемого Северного Возрождения и подражал в своих работах Яну ван Эйку и Рогиру ван дер Вейдену.

Полифил при дворе королевы Элевтерилиды. Иллюстрация к книге «Гипноэротомахия Полифила», конец XV века.
Кризисный менеджмент
Состояние гуманистического симбиоза всех со всеми — по крайней мере, в культурном поле — продлилось примерно 150–200 лет: конец ему положили в середине XVI века Реформация и церковный раскол. Западноевропейский мир разделился надвое — и та же участь постигла и некогда общую, единую культурную среду. Время всеобщей гармонии сменилось периодом религиозных войн (из которых самой разрушительной была Тридцатилетняя война 1618–1648), буржуазных революций (от Нидерландской — 1568–1648 — до Английской — 1640–1660) и общей нестабильности — что не замедлило отразиться и на истории музыки и других искусств. На место ренессансного стиля пришел маньеризм — не столько единый стиль, сколько почти бесконечный набор личных творческих «вариаций на тему», вплоть до уникальных, диковинных даже по меркам XIX и XX веков решений — в живописи таковыми были, к примеру, «овощные» портреты Джузеппе Арчимбольдо, в музыке — мадригалы Джезуальдо да Веноза, мотеты Адриана Вилларта или, скажем, фрагментарно дошедшие до нас энгармонические опыты Николы Вичентино, предназначенные для исполнения на особых, изобретенных композитором клавишных инструментах вроде архичембало. Острое ощущение хрупкости осыпавшегося на глазах ренессансного эстетического канона провоцировало писателей, художников, композиторов и философов на самые причудливые эксперименты с формой и художественным языком.

Джузеппе Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. Ок. 1590.
С другой стороны, наряду с маньеристическими экстремумами существовал и художественный мейнстрим, сводившийся в основном к разнообразным подражаниям Рафаэлю, первой художественной суперзвезде в истории человечества, всеми любимому, рано ушедшему из жизни гению, поставившему на конвейер производство тиражных «Мадонн» для состоятельной публики, — на таких подражаниях специализировалась, к примеру, влиятельная Болонская школа живописи. И это тоже, в сущности, был итог сворачивания ренессансного проекта, просто иной: в условиях потери ориентиров одни художники пустились во все тяжкие, другие же попробовали обрести почву под ногами, призвав в помощь осененные авторитетом канонические шедевры. Сам принцип подражания — не природе, как в былые времена, а чужому искусству, сколь угодно гениальному, — легитимизируется именно в этот период: ключевые деятели Болонской школы, братья Карраччи, основавшие в 1582 году в родном городе учреждение под смелым названием Academia degli Incamminati («Академия направленных на путь» — здесь прозрачно подразумевается окончание фразы: истинный), не скрывали своих планов по созданию нового искусства с помощью своего рода коллажа из наилучших образцов живописи Высокого Возрождения. Идеальная аппликация, согласно формулировке Агостино Карраччи, выглядела так: рисунок и движение — от Микеланджело, колорит — от Тициана, композиция и выражение — от Рафаэля, светотень и грация — от Корреджо.
Таким образом, хотя Тридентский церковный собор в XVI столетии и декларировал практически директивный возврат к христианскому благочестию во всех сферах жизни, а все же каких-то полвека спустя просвещенная итальянская публика в нарушение библейской заповеди уже охотно творила себе кумиров, каковыми в живописи становились выдающиеся художники прошлого и настоящего (Тициан умер всего за шесть лет до того, как его имя было выбито на скрижалях болонской «Академии»), а в музыке — оперные певцы. В том, что опера, зародившаяся в рафинированном кругу флорентийских интеллектуалов, в скором времени стала популярным, почти массовым искусством, конечно, важную роль сыграла ее заведомая зрелищная природа — но и публичный запрос на звезд явно ускорил этот процесс.
Вообще, с закручиванием гаек в середине — второй половине XVI века католическая церковь определенно слегка запоздала: инквизиторы, конечно, могли похвастаться некоторыми успехами — например, казнью Джордано Бруно или принуждением Галилео Галилея к отречению от научных открытий, — но выпущенный в эпоху Возрождения джинн свободомыслия и не думал забираться обратно в бутылку. Так, искусство с античных времен не знало такой эротической откровенности, как в XVI–XVII веках, — фривольные оперные либретто (в частности, на сюжеты из «Метаморфоз» Овидия о поруганных нимфах — «Каллисто» Кавалли, «Аретуза» Витали, «Похищение Прозерпины» Монтеверди, «Дафна» Марко да Гальяно) здесь встают в один ряд со скульптурными композициями на те же самые темы («Похищение Прозерпины» и «Аполлон и Дафна» Бернини), живописными полотнами, изобилующими обнаженной натурой, а также целым рядом соответствующих литературных памятников. Таковы были, например, «Сладострастные сонеты» Пьетро Аретино, каждый из которых к тому же сопровождался изображением совокупляющихся в разных позах исторических и мифологических персонажей авторства Джулио Романо. Знаменитый историк искусства Джорджо Вазари писал о «Сонетах», не скрывая возмущения: «После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха… В самом деле, не следовало бы, как это, однако, часто делается, злоупотреблять божьим даром на позор всему миру в делах омерзительных во всех отношениях».
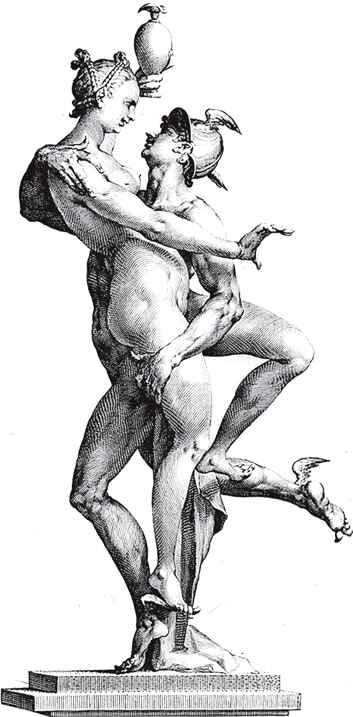
«Гермес и Психея» Джулио Романо из «Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино.
Скромность украшает
Всем этим, впрочем, характеризовалась лишь культурная среда католического мира — на севере, в протестантских землях, возобладало иное миропонимание и, соответственно, иной образ искусства. В папских землях протестантов еще долго считали еретиками, но в благочестии они явно не уступали — а скорее всего, значительно превосходили своих недавних единоверцев-южан. Как и любая другая молодая религия, протестантизм до поры до времени имел, по крайней мере, иммунитет к лицемерию, утраченный римско-католическим христианством, — и это оказало большое влияние на развитие немецкой и голландской культуры. Здесь, пожалуй, актуальна аналогия со стадиями человеческой жизни: ребенок свято верит в то, что говорят родители, и даже не думает оспаривать их представления о добре и зле; подросток, напротив, уже позволяет себе их игнорировать — открыто или исподволь. Католическому миру на момент описываемых событий было уже более полутора десятков сотен лет, и даже его иерархи вряд ли старательно сверяли все свои поступки со Священным Писанием (к римским папам из семейства Борджиа, нарушавшим, кажется, все десять заповедей скопом, это уж точно не относилось). Напротив, протестантский мир находился в младенчестве и состоял в значительной степени из людей, зараженных неофитским энтузиазмом и не подвергающих сомнению недавно открывшиеся им истины.
Отсюда дидактика, назидательный смысл, которым было почти безальтернативно наделено протестантское искусство, будь то полная риторических фигур музыка барочных композиторов (Баха, Букстехуде, Генделя, Вивальди, Пахельбеля и др.) или столь же насыщенные эмблематикой произведения голландских живописцев. Культура была призвана не только поэтизировать снулую североевропейскую действительность, но и компенсировать общий недостаток учености: с образованием в Германии или Голландии дела обстояли намного хуже, чем во Франции или Италии с их старейшими университетами (Болонья, Париж и т. п.). Между тем, согласно демократическим идеалам протестантизма, вера как таковая более не была вотчиной церковников — каждый прихожанин был максимально вовлечен в религиозную жизнь (так, жанр «Страстей» подразумевал использование канонических хоралов, которые пелись сообща всеми участниками богослужения). В этой ситуации искусство — в самом широком смысле: литература, живопись, музыка, театр — брало на себя посреднические функции, помогая человеку ориентироваться в разнообразных аспектах этой жизни.
Разницу творческих подходов севера и юга демонстрирует жанр натюрморта, развившийся в XVII веке одновременно в свободных голландских провинциях и во Фландрии, нынешней Бельгии, остававшейся частью католической империи Габсбургов. Фламандский натюрморт, представленный Франсом Снейдерсом и другими, — это идея полноты, изобилия, барочной вычурности: громоздящиеся друг на друга рыбные ряды, еле помещающиеся в раму цветочные букеты. Напротив, голландский натюрморт, на примере Питера Класа или Виллема Класа Хеды, — это строгие и скромные композиции небольшого формата, в которых за каждым изображенным предметом закреплено конкретное место на холсте и конкретная смысловая ассоциация: у Снейдерса рыба — это рыба, которую тотчас же надлежит почистить и съесть, у Класа — один из общепринятых в голландском искусстве тех времен символов Христа (восходящий к раннехристианскому, упомянутому в «Граде Божием» Августина прочтению слова ICHTHYS как анаграммы высказывания «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель»). Похожие процессы происходят в музыке: с одной стороны, итальянский оперный стиль — то самое мелодическое буйство, полуимпровизационная манера, развернутые формы, с раблезианской выразительностью раскрывающие заложенный в них аффект, с другой стороны, не менее аффектированная, но существенно более экономная в средствах инструментальная музыка немецкой органной школы (с кульминацией в творчестве Баха), до краев наполненная словесно-изобразительно-звуковыми аллегориями.

Фламандский натюрморт: «Рыбная лавка» Франса Снейдерса (1618–1621).

Голландский натюрморт: «Натюрморт с рыбой» Питера Класа (1647).
Горизонтальная структура общества — одна причина того, что в протестантском мире отношение к оперному искусству кажется сдержанным, а образцов архитектуры и живописи «пламенеющего» барокко мы вовсе не находим: тут не было ни папы римского, ни всемогущего монарха, как во Франции с ее абсолютизмом, ни даже централизованного государства, во главе которого могла бы встать подобная фигура, — голландская буржуазная революция проходила под знаком бунта так называемых свободных провинций, Германия останется раздробленной аж до XIX века. Поэтому здесь не могла родиться культура тех же итальянских кумиров-суперзвезд, ведь их восторженное почитание, как кажется, в какой-то степени было сублимацией чувств, которые паства испытывает к своему духовному лидеру, а подданные — к королю. Барокко — как художественный и архитектурный стиль — и само по себе в значительной степени об этом: тут и устремляющиеся ввысь массивы прихотливо декорированных храмов, тут и вертикальная и диагональная динамика живописных композиций (в противовес упорядоченности, успокоенности северного искусства), тут, в конце концов, полное торжество искусности и искусственности (само слово «барокко» означает нечто странное, причудливое, неправильной формы). По контрасту, например, голландские художники и немецкие органисты вовсе не воспринимали себя культурными героями, творцами и созидателями прекрасного — искусство было их ремеслом, за которое они получали заработную плату как члены соответствующей гильдии (художественные гильдии обычно назывались в честь святого Луки). Симптоматично, что слово «гильдия» пришло в русский язык именно из немецкого и голландского (gilde) — притом что примеры соответствующих цеховых ремесленных объединений были известны и в Италии, и во Франции еще со средневековых времен.
Игра в классики
Но все же музыкальный пейзаж эпохи барокко оказывается более цельным, чем художественный. Если в живописи европейский север и европейский юг размежевались друг с другом практически полностью, до такой степени, что в отношении немецкого и голландского изобразительного искусства XVII века искусствоведы даже не употребляют сам термин «барокко», то рожденные в один и тот же год Бах (немецкий композитор, в творчестве которого больше всего духовной музыки), Гендель (немецкий композитор, работавший в Англии и считавший себя прежде всего сочинителем опер в итальянском стиле) и Скарлатти (итальянский композитор, писавший главным образом инструментальную клавирную музыку при испанском дворе) при всех своих различиях определенно принадлежат одному и тому же миру барочной музыки. Сам стиль, впрочем, был неоднородным — как не было однородным и вообще ни католическое, ни протестантское искусство. Внутри последнего, к примеру, выделилась совершенно особая английская ветвь; впрочем, как в музыке (Гендель), так и в живописи (Гольбейн, затем ван Дейк) главными действующими лицами долгое время были иностранцы. В католическом мире отдельно заявила о себе французская школа — покуда в Италии бурлило и пенилось барокко в своем чистом, дистиллированном виде, здесь расцвел довольно изощренный и своеобразный гибридный барочно-классицистический стиль. Связано это было опять-таки с социально-политическим устройством местного общества, в котором монархическая власть последовательно укреплялась еще со времен Франциска I, покровителя Леонардо да Винчи, — таким образом, к эпохе Людовиков, тринадцатого и четырнадцатого, знакомой нам по романам Дюма-отца, практически все искусство оказалось замкнуто на королевском дворе и так или иначе связано с поддержанием его жизнедеятельности: «король-солнце» лично танцевал в балетах с музыкой Жана-Батиста Люлли. Это был, стало быть, достаточно авторитарный стиль, исходящий «сверху» и в некотором роде мотивированный политически, в отличие от стихийного барокко. В его жизнеспособности и выразительной силе, однако, сомнений не возникало: неслучайно даже те французские художники, которые избежали придворной работы (прежде всего проживший большую часть жизни в Италии Николя Пуссен), несмотря на это, оказались ему более или менее близки.
В драматургии классицизм означал прежде всего соблюдение трех единств: времени, места и действия; поэт Николя Буало писал об этом так:
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет.
Для пущей убедительности теоретикам французского классицизма необходимо было сослаться на авторитетный источник — решено было в этом качестве использовать Аристотеля, который, правда, настаивал лишь на единстве действия, а прочие считал желательными, но необязательными. Это тем не менее не помешало классицистической драме Пьера Корнеля и Жана Батиста Расина утвердиться в качестве драматургического мейнстрима XVII века — в итоге даже Шекспира на французский переводили, на ходу редактируя его сюжеты так, чтобы они соответствовали правилу трех единств.
В живописи классицизм предполагал приоритет контура и внятного, ясно очерченного объема над красочным пятном (которое позже окажется основным выразительным средством романтической живописи XIX века — сравните, к примеру, изображения толпы тут и там: в классицизме она неизменно состоит из четко очерченных фигур, в романтизме — сливается в однородную людскую массу). Человеческие фигуры здесь статуарны — почти античные скульптуры, — композиция уравновешена. Занятно, что одну из своих самых знаменитых картин, «Танкред и Эрминия», Николя Пуссен написал по мотивам той же самой поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, которая была положена в основу многих опер XVII–XVIII веков: от «Армиды» Люлли до «Ринальдо» Генделя. Общая культурная среда нередко означала и общие источники вдохновения.

Николя Пуссен. Танкред и Эрминия. 1630-е.
Философия классицизма — это Рене Декарт, великий рационализатор, автор максимы «cogito, ergo sum» («я мыслю, следовательно, существую»), а также сочинений с говорящими названиями вроде «Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Классицистическая архитектура — прежде всего королевские и аристократические дворцы: череда регулярных, членящихся строгим ордером архитектурных объемов.
Логично, что именно в этой культурной среде, привечающей порядок и меру, вскоре займется век Просвещения и будет написана первая всеобщая энциклопедия (она же «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» под редакцией Дени Дидро, 1751–1780). Опыт максимально полной систематизации окружающей действительности, лежавший в основе энциклопедического проекта Дидро, был в чистом виде рационализаторской инициативой, прямо проистекающей из истории развития французской культуры эпохи абсолютизма. На музыкальной почве, однако, сходный эксперимент был проведен еще раньше — Жан-Филиппом Рамо, чьи основные теоретические труды (и прежде всего «Трактат о гармонии») были опубликованы в 1720–1730-х годах. В них Рамо обосновывает теорию функциональной гармонии и обрисовывает контуры новой, сложившейся в этот период и в этом пространстве, тонально-гармонической системы. В некоторых ее аспектах — например, в упоминавшейся выше концепции устойчивых и неустойчивых ступеней в рамках тональности — явно слышится эхо пуссеновского пластического равновесия, и то же самое касается равномерно-темперированного строя, который восторжествовал над прочими вариантами настроек при непосредственном участии Рамо (большинство роялей во всем мире по сей день темперируются именно так). В целом «Трактат о гармонии» — важный памятник эпохи Просвещения, пусть с некоторыми профессиональными просветителями вроде Жан-Жака Руссо у его автора и не сложилось большой дружбы (Рамо бесцеремонно раскритиковал оперу-балет Руссо «Галантные музы» прямо во время премьеры).
Как и продолжавшая развиваться в XVIII веке опера seria, классицизм оказался первой европейской культурной парадигмой, экспортированной в Россию: о трех единствах со знанием дела рассуждали и русские литераторы (например, Сумароков или Фонвизин), классицистические здания строили в Петербурге и Москве (сначала приезжие архитекторы в рамках так называемой россики — а затем и их здешние ученики), на базе классицистического стиля, наконец, развился российский живописный академизм, против которого век спустя будут выступать передвижники. Собственно, классицизм и был первым в полном смысле слова академическим жанром — поскольку распространялся он прежде всего посредством основанных во Франции в XVII веке академий: литературы, художеств и др. Академия считалась оплотом высокого профессионального искусства — в 1770 году, например, в Болонской филармонической академии будет учиться полифонии Моцарт (и так блестяще сдаст экзамен, что для него сделают исключение и произведут в члены академии в нежном возрасте четырнадцати лет — при официальном возрастном цензе в двадцать лет). По образу и подобию европейских академий соответствующие заведения были основаны и в России — да и сама русская монархия примером для подражания считала прежде всего как раз французский двор, золотые годы которого, впрочем, к елизаветинской и тем более екатерининской эпохе остались давно позади. Абсолютная королевская власть трещала по швам — и это не замедлило сказаться на культурной среде, в которой классицизм потихоньку уступал место новым веяниям.
Свобода на баррикадах
С одной стороны, наряду с идеализированными классицистическими типажами в искусстве все чаще встречались и другие герои, которых можно обобщенно обозначить как простолюдинов: это, например, ловкие и остроумные слуги и служанки вроде главной героини комической оперы Перголези «Служанка-госпожа», которая с большим успехом была показана в Париже в середине XVIII века, или пасту́шки с пастушка́ми, заимствованные из английского сентиментализма (как, например, у Гайдна в оратории «Времена года», написанной уже после его возвращения из Лондона обратно в Австро-Венгрию в конце столетия). Все эти персонажи казались совершенно невинными — но они были живыми народными героями, и это само по себе таило нешуточную опасность: в 1792-м эти самые народные герои — только уже совершенно реальные, а не выдуманные писателями и либреттистами — возьмут Бастилию и отправят королевскую семью на гильотину.
С другой стороны, революционная героика, особенно востребованная европейской культурой после парижских событий 1792 года, была чрезвычайно созвучна нарождающемуся романтизму, и в культуре конца XVIII — первой половины XIX века эхо революции будет звучать еще очень громко. Развивается жанр оперы спасения: приключенческого музыкально-театрального спектакля, в котором протагонисту — разумеется, простого происхождения, такому как «Водовоз» Луиджи Керубини, — приходится продемонстрировать отвагу и героизм, чтобы довести дело до хэппи-энда; сюжеты — как в случае с «Водовозом», так и с самым знаменитым произведением жанра, бетховенским «Фиделио», — зачастую основаны на реальных событиях. В «Фиделио» имеется и чисто романтический образ узника, вызывающий в памяти литературные параллели: «Шильонского узника» Байрона или наследующих ему «Узников» Пушкина и Лермонтова. Впрочем, героическая патетика у Бетховена не ограничена единственным опытом композитора на оперной сцене: так, в его инструментальной музыке обнаруживаются героические траурные марши — в Третьей симфонии с подзаголовком «Героическая» (напомним, первоначально она была посвящена Наполеону как хрестоматийному герою «из низов» — по легенде, композитор снял посвящение после того, как Бонапарт провозгласил себя императором, предав, по мнению Бетховена, демократические идеалы), в фортепианной Сонате № 12 ля мажор. Образ античного титана в бетховенском балете «Творения Прометея» также решен в героико-романтическом ключе — притом что формально Прометей, похитивший с Олимпа огонь и передавший его людям, выглядит натуральным классицистом-просветителем. Так что, как сентиментализм вовсе не был антитезой, казалось бы, сугубо рассудочному проекту Просвещения (а скорее иным — условно говоря, руссоистским — его изводом), так и романтизм с предшествующим ему культурно-историческим периодом связывает куда больше, чем кажется на первый взгляд.
…И чувствовать спешит
Испытания фактами не выдерживает и противопоставление «романтизм — реализм», нередкое для разговоров о культуре XIX века. По крайней мере на первых порах романтизм мыслился искусством про жизнь и про живых людей — в противовес классицизму, который перестал поспевать за ее бурными перипетиями. Более реалистичной во Франции второй половины XVIII века была разве что литература так называемого либертинизма — прежде всего творчество маркиза де Сада и «Опасные связи» Шодерло де Лакло; однако в силу неконвенционального, вызывающего по меркам благопристойной морали содержания социальный заказ на то и другое был довольно узким. С другой стороны, само появление этих произведений прямо говорит о том, что Европа конца XVIII века переживала очередной переходный период — либертинизм де Сада стал для классицизма тем же, чем крайний маньеризм Арчимбольдо или Джезуальдо был для ренессансного искусства.
Впрочем, это мы сейчас дипломатично говорим о переходных периодах — для современников все выглядело куда более однозначно. Герой романтической повести Франсуа Шатобриана «Рене» говорит о том, что страдает так называемой «болезнью века», mal de siècle: «Увы, я был один, один на земле! Тайное томление овладело всем моим телом. Отвращение к жизни, знакомое мне с самого детства, возвратилось с новой силой. Вскоре мое сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое существование только по чувству глубокой тоски».
Ту же этиологию имеют описанные в Германии Иоганном Вольфгангом Гете «Страдания юного Вертера», да и иронический пушкинский «аглицкий сплин» (с мгновенной оговоркой, что он же — «русская хандра») — явление сходного типа. Все эти многочисленные разновидности mal de siècle — следствие кризиса более глубокого, нежели политический или экономический: кризиса рациональной философии и классицизма как ее художественного воплощения. Причем этот кризис, в отличие от прочих, не имел французской или какой-либо иной прописки — а был общеевропейским. В Англии, например, по контрасту с Францией никто не стремился свергать монархию, а в Германии и свергать-то было, в сущности, некого и нечего — но тем не менее и там и там антирационалистические (сентименталистские) тенденции в искусстве обозначились очень четко. В 1776 году была опубликована пьеса немецкого драматурга Фридриха Максимилиана Клингера «Буря и натиск», положившая начало одноименному движению, которое в той или иной степени заразило практически все существовавшие на тот момент виды искусства. Смысл «Бури и натиска» заключался именно в том, чтобы реабилитировать то, что влиятельный немецкий философ Александр Баумгартен, старший современник и постоянный корреспондент Иммануила Канта, называл «низшими способностями познания», — то есть чувство, ощущение, воображение и память. По Баумгартену, философская мысль предшествующего периода полностью пренебрегала этой сферой, сосредоточив внимание на понятиях логики и разума («чистый разум», как известно, «критиковал» затем и Кант). В пересказе И. С. Нарского новая немецкая философия выглядела так:
Баумгартен трактовал чувственность очень широко, и если Декарт, Спиноза, а отчасти и Лейбниц рационализировали ее, то Баумгартен, наоборот, сенсуализирует многое из того, что прежде рассматривалось по ведомству разума. В рубрику чувственности [он] занес память, наблюдательность, остроумие, интуицию, восхищение, воображение и фантазию. Чувственность оказывается у Баумгартена не только преддверием рациональности, она уже обладает многими свойствами, аналогичными свойствам последней… В. Ф. Асмус писал, что «для современников Баумгартена его воззрение заключало элемент дерзания и восстания против господствовавших взглядов: в операциях чувственного познания он открывал нечто подобное логическим операциям ума».
Искусство «штюрмеров» было именно про это: про чувственное познание в пику рациональному, про непосредственность ощущения как альтернативу логическому анализу, — и в условиях описанного кризиса рационализма эти идеи приходились кстати практически во всех западноевропейских странах. Их живописным воплощением были грозовые марины Жозефа Верне и «ужасы» Генриха Фюссли (о которых Гете говорил, что они в самом деле могут «хорошенько напугать»), музыкальным — например, фантазии Карла Филиппа Эммануила Баха с непредсказуемыми сменами тональности (одна из них прямо так и называлась: «Чувства К. Ф. Э. Баха»). Современник писал о них: «Выдающиеся виртуозы, присутствовавшие здесь в Гамбурге при его импровизациях, были изумлены смелостью его идей и переходов».

Иоганн Генрих Фюссли. Кошмар. (Деталь.) 1790–1791.
Другие приметы «чувствительного стиля»: интерес к минорным тональностям (25-я симфония соль минор Моцарта, ряд произведений Гайдна — например, симфонии с говорящими подзаголовками «Жалоба» и «Траурная»), к трагическим, экспрессивным образам («Альцеста» Глюка), к драматичным крещендо и диминуэндо, резким сменам темпа и фактуры, которые символизировали перепады настроения — от мрачной меланхолии до экзальтированного восторга. Большинство литераторов-штюрмеров уже к концу XVIII века стали относиться к своим «чувствительным» произведениям как к юношеской блажи. В частности, зрелый Гете своего «Вертера» только что не дезавуировал, а Шатобриан, описавший маявшегося «болезнью века» Рене, к концу жизни отзывался о собственном герое в весьма саркастических выражениях:
Если бы «Рене» не существовало, я бы не стал заново его писать; если бы можно было его уничтожить, я бы сделал это. От него произошло целое семейство Рене-поэтов и Рене-прохиндеев-от-прозы; теперь, кажется, не пишут ничего, кроме бессвязных жалобных фраз; нет других сюжетов, кроме бурь и ураганов, а также возносящихся в ночное небо стонов от неизвестных недугов. Каждый шкет, только что закончивший школу, считает себя самым несчастным из смертных; любой молокосос полагает, что к шестнадцати годам лишился смысла жить, и чувствует себя истязаемым собственным гением, снедаемым в бездне своей души «волнами страсти», и потому отбрасывает назад свои растрепанные немытые волосы и делится с изумленным миром печалью, имени которой не знает и сам.
Так или иначе, даже эта презрительная цитата тем не менее ярко демонстрирует, что семена романтизма уже были посеяны — и на фундаменте эстетических потрясений второй половины XVIII века пророс новый стиль, в самом деле покоривший практически всю Европу. О трех единствах в нем, конечно, уже не было и речи, и Виктор Гюго в предисловии к своей первой романтической драме «Кромвель» (1827) не оставил от классицистических идеалов камня на камне: «Скрестить единство времени с единством места, чтобы устроить из них решетку для клетки и впускать в нее с большим педантизмом все те факты, все те народы, все те фигуры, которые в таких массах переполняют действительность, это значит уродовать людей и предметы, это значит заставить историю корчить гримасы».

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм в стране басков. Роспись из Дома глухого, 1798.
Героям романтических произведений, напротив, дозволялось корчить какие угодно гримасы — в том числе в прямом смысле слова. Художник Теодор Жерико, автор знаменитого романтического полотна «Плот „Медузы“», помимо этого, с упоением писал портреты пациентов психиатрической лечебницы Сальпетриер. В этот же ряд хорошо помещаются «уродцы» Франсиско Гойи (например, с картины «Шабаш ведьм» или с так называемых «Черных росписей» в Доме глухого). Гротеском интересовался и Гюго, совмещая в своих пьесах трагедию и комедию, драму и фарс в немыслимых прежде пропорциях, — да и романтические заламывания рук персонажей его ключевого произведения, «Эрнани», с большим скандалом поставленного в 1830 году на парижской сцене, иной классицист с полным на то правом мог бы объявить гримасами и обезьянничаньем. В наши дни меломаны помнят «Эрнани» прежде всего благодаря опере Верди — но по горячим следам за сюжет хотел взяться еще Винченцо Беллини. Правда, в конечном счете он вынужден был отказаться от этой идеи, поскольку Ломбардия в те годы по итогам постнаполеоновского раздела Италии отошла австрийской короне и осуществить столь смелую постановку в этих условиях не представлялось возможным.
Широта пейзажа и широта души
Тем не менее музыка в апроприации романтического мироощущения не отставала от литературы и живописи: все, что было ему присуще, отражалось в ней, как в зеркале. Это, во-первых, новое представление о масштабе — о необозримой величине мира, в котором выпало жить человеку. В живописи эти ощущения ярко переданы главным немецким романтиком Каспаром Давидом Фридрихом с его бескрайними пейзажами, в которых почти теряются человеческие фигуры. В качестве музыкальной параллели можно вспомнить «божественные длинноты» Шуберта — впрочем, Линда Зигель, автор книги «Каспар Давид Фридрих и эпоха немецкого романтизма», рассуждая о морских пейзажах художника, символизирующих четыре времени суток, идет еще дальше:
[Немецкий романтизм] — это направление, в котором время и пространство видятся неограниченными. Для романтиков время-пространство представляло собой нескончаемую последовательность этапов, переходящих один в другой. Эта философия ярко передана в «Браке времен года» Новалиса:Ах, времена враждуют! Разве слиться не могут
В вечный и крепкий брак — Завтра, Сегодня, Вчера? <…>
Старость и Юность в одно, в строгой сольются игре:
В этот миг, мой супруг, иссякнет источник печали.
<…> Интересная параллель обнаруживается и в музыке немецкого романтизма: идея о непрекращающемся звуке, выраженная в бесконечной мелодии Вагнера или в новом симфоническом цикле, состоящем из тематически связанных друг с другом частей.

Каспар Давид Фридрих. Мужчина и женщина, созерцающие луну. 1818–1824.
Наиболее же точно ощущение бесконечного пространственного масштаба в симфонической музыке воплотил, пожалуй, Антон Брукнер на полвека позже. Герой его Восьмой симфонии, который, согласно комментариям композитора, сидит «на вершине горы и грезит, глядя на страну», кажется ближайшим родственником фридриховских «Странника над морем тумана» или «Мужчины и женщины, созерцающих луну», перед которыми — изображенными, что характерно, сбоку или со спины — расстилается безбрежный пейзаж. Кстати, творчество Фридриха — это как раз тот случай, когда параллели между живописью и музыкой не вполне произвольны: в 1830 году художник принял участие в необычном мультимедийном эксперименте, написав несколько рисунков для русского царевича Александра (будущего императора Александра II) по заказу его матери, великой княгини Александры Федоровны. Предполагалось, что царевич будет созерцать их при лунном свете под некий (к сожалению, не конкретизированный в дошедших до нас источниках) музыкальный аккомпанемент и в таком антураже графика Фридриха сможет по-настоящему «взволновать юную душу». Саму идею соединения музыки и живописи в поисках максимальной выразительности высказывали в начале XIX века и другие романтики: поэты Новалис и Людвиг Тик, художник Отто Рунге.
Далее, романтизм — это эмоциональная нестабильность, быстрые градации сильных чувств; в музыке этому соответствовала новообретенная полиаффектность (в пику моноаффектности предыдущих эпох), тонально-гармонические эксперименты, возможность далеких гармонических модуляций в пределах мельчайшего сегмента музыкальной формы (к примеру, у Шумана), вообще заметное расширение границ дозволенного. Это, разумеется, также и метафора путешествия, перемещения в пространстве — шатобриановский Рене ищет счастья среди индейцев Луизианы, Чайльд-Гарольд объезжает весь европейский юг, от Португалии до Стамбула, а тем временем похожие странствия с помощью звуков описывают в своих произведениях Шуберт, Шуман, Мендельсон, Глинка и другие знаменитые композиторы.
За тягой к путешествиям следовал интерес к экзотике: не только географической, но и исторической. Байрон пишет трагедию «Сарданапал», Делакруа — картину «Смерть Сарданапала», Берлиоз — кантату «Сарданапал»; одноименный древнеассирийский царь, даже если бы существовал в действительности (современные историки не сомневаются, что он сугубо мифический персонаж), уж точно и помыслить не мог, что спустя два с половиной тысячелетия станет так популярен. Но романтикам Сарданапал был чрезвычайно интересен — и как символ обреченности монархической власти (протестная повестка была неотъемлемой частью романтического кодекса чести), и просто как яркая, экзотическая личность — не чета тоскливым обывателям в реальной жизни. К последним романтики относились презрительно: Шуман и Лист вовсю бичевали филистеров и в теоретических текстах, и непосредственно в музыке (см. мещанский танец «Гросфатер» в шумановском «Карнавале»), а Гюго отреагировал на вышеупомянутую «Смерть Сарданапала» Делакруа следующим комментарием: «„Смерть Сарданапала“ — это нечто совершенно необычное и такое внушительное, что подавляет все мелкое. Поэтому это прекрасное произведение и не пользуется успехом у парижских мещан…»
Теплый клетчатый плед
Впрочем, как сентиментализм был оборотной стороной века Просвещения, так и у романтической медали существовал свой реверс: искусство, не высмеивающее, а, напротив, поэтизирующее мещанский быт, объединяют под вывеской «бидермайера» (в честь псевдонима, который выбрали для своих публикаций двое немецких поэтов второй четверти XIX века). Ключевым понятием здесь стало немецкое Gemütlichkeit, которому в русском языке, пожалуй, ближе всего соответствуют слова «уют» и «душевность». Живопись бидермайера — это в основном спокойные интерьерные сцены или портреты (в моделях — сплошь мелкобуржуазные филистерские герои: например, «Любитель кактусов» или «Почтальон в Розентале» Карла Шпицвега), архитектура — существенно уменьшившийся в размерах ампир, музыка — разного рода бытовые камерные жанры: песни, экспромты, ноктюрны, танцы. Интересно, что, несмотря на масштабную антифилистерскую пропаганду, композиторы-романтики в действительности испытывали к окружающей их массовой городской культуре несколько более сложные чувства; так, их гуру, Бетховен, в одном из своих писем отзывался о ней вполне комплиментарно: «Сколь ни иронически и пренебрежительно говорят иной раз о душевности (Gemütlichkeit), все же наши великие писатели, такие как Гете и другие, рассматривают ее как замечательное качество. Более того, некоторые утверждают, что человек, не обладающий душевностью (Gemüt), не может стать выдающейся личностью и что ни о какой глубине его натуры не может быть и речи».
Равно и Ференц Лист, еще в своей ипостаси концертирующей суперзвезды (а на годы его гастролей как раз и пришелся расцвет бидермайера), не мог не осознавать, кто именно ходит на его концерты и обеспечивает им солидную кассу: те самые мещане. Поэтому в действительности он внес немалый вклад в улучшение атмосферы филистерских жилищ с помощью многочисленных фортепианных транскрипций отрывков из оперного и симфонического репертуара. Теперь девушки в интерьерах бидермейера могли исполнять для членов своей семьи и гостей массу хорошей музыки — и с Gemütlichkeit все сразу стало еще лучше, чем было.

Карл Шпицвег. Любитель кактусов. 1850.
Там, где мой народ, к несчастью, был
Кроме того, романтиков, конечно, могли раздражать — и раздражали — конкретные окружавшие их гросфатеры и любители кактусов, но народ оказался осмыслен как носитель общей исторической судьбы. Искусство XIX века, за вычетом камерного бидермайера, привыкло оперировать большими объемами и крупными формами: см. размеры живописных полотен, высоту зданий, хронометраж опер и симфоний и т. п.; и неудивительно, что романтическая культура отмечена пробуждением национального самосознания, возрастанием интереса художников к истории собственных стран: как политической, так и культурной. Иногда эту историю можно было придумать практически с нуля — как поступили авторы песенного сборника «Волшебный рог мальчика», изданного в Гейдельберге в 1806–1808 годах. Многие старинные песни они изменили до неузнаваемости — в духе романтического патриотизма своего времени, — другие и вовсе написали сами, что, однако, не помешало «Волшебному рогу» стать частью культурного кода немецкого искусства XIX века. Фрагменты сборника клали на музыку Вебер, Мендельсон, Шуман, Брамс и Густав Малер, сочинивший на его основе самостоятельный вокальный цикл и использовавший тексты из «Волшебного рога» в симфониях.
И, наконец, поэтизация страдания и смерти — еще одно общее место романтизма: тут все рано или поздно гибнут, и лучше рано, чем поздно, темы катастрофы («Последний день Помпеи» Брюллова), бури («Плот „Медузы“», марины Уильяма Тернера), убийства и самоубийства (тот же «Эрнани» Гюго — впрочем, тут список и вовсе бесконечен) и прочих смертоносных потрясений прочно вошли в творческий обиход эпохи. Кто не умер — тот почитай что и не жил вовсе: отсюда трагические оперные финалы, пришедшие на смену прежнему принципу благополучной развязки, или lieto fine. В XIX столетии странно выглядел любой иной финал, кроме трагического, — дань общей завороженности смертью, которая была присуща культуре романтизма.
Тезис — антитезис — синтез
Словом, европейская музыка XIX века (в это понятие теперь полноценно включается и русская музыка), как и стоило ожидать, вновь являет собой отражение специфической культурной среды, сложившейся в это время в этом пространстве, — причем ее интеграция с другими видами искусства только усиливается. Положим, с литературой и, в меньшей степени, философией она была самым прочным образом увязана и раньше — но, к примеру, живописные полотна редко оказывались непосредственными источниками вдохновения для музыкальных произведений; теперь же по их мотивам Ференц Лист пишет симфонические поэмы, а Модест Мусоргский — цикл фортепианных миниатюр. Эту возросшую связь между разными творческими медиумами улавливали и сторонние комментаторы; Шарль Бодлер в одном из стихотворений так прокомментировал живопись своего друга и кумира Эжена Делакруа:
Крови озеро в сумраке чащи зеленой,
Милый ангелам падшим безрадостный дол —
Странный мир, где Делакруа исступленный
Звуки музыки Вебера в красках нашел.
Кульминацией художественного синкретизма стали оперы Вагнера, которые сам композитор считал по сути дела новым жанром. Сейчас бы его назвали мультимедийным театром — разумеется, с поправкой на количество видов искусства, существующих в вагнеровские времена. Попутно удалось решить одну застарелую проблему: в Европе XIX века существовал феномен «драмы для чтения» (Lesedrama), которая не могла быть перенесена на сцену ввиду разного рода обстоятельств — чрезмерной длины, избыточного количества персонажей, фантастических сцен, трудно воплощаемых в жизнь на театральных подмостках. В вагнеровском театре большинство соображений такого рода игнорировалось — и хотя здесь принципиально не ставили ничего, кроме опер самого композитора, театральные инновации Вагнера сыграли важную роль в том, что со временем многие бывшие драмы для чтения все же вошли в мировой театральный репертуар.
Другая оппозиция, так же актуальная для второй половины XIX века, как оппозиция программной и «чистой» музыки, — «настоящее» искусство против коммерческого: можно ли писать гарантированно хорошо продающиеся картины на отвлеченные сюжеты (как это делали художники-академисты), или от живописца требуется, согласно формулировке из советского учебника, воплощать кистью на холсте чаяния простого народа? Последнее было, как нетрудно догадаться, краеугольным камнем повестки русских передвижников (хотя большинство из них довольно быстро освободились от прямолинейно понятого народничества) — и легко заметить, что история культуры проделала здесь занятный фортель: в своих призывах к программности убежденные реалисты, взбунтовавшиеся в 1864 году против порядков в Академии художеств, целиком и полностью отыгрывали романтическую модель поведения. Соответственно, музыкальной параллелью здесь видится «Могучая кучка»: и те и другие — любители, не видевшие большого смысла в академическом обучении (позже и Римский-Корсаков, и, например, Репин сами стали преподавать — но это уже другая история), и те и другие ратовали за национальное искусство, наконец, и у передвижников, и у «кучкистов» был общий идеолог Владимир Стасов, заявлявший с одинаковым пылом о необходимости создания как русской национальной классической музыки, так и, например, русской национальной исторической картины.
Небо, море, облака
Если в России протест против академической живописи стал прерогативой передвижников, то во Франции — импрессионистов. В 1874 году в Париже прошла их первая выставка, на которой в числе прочего экспонировалась картина, невольно подарившая название всему движению, — «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне. Словно бы воспользовавшись высказанной незадолго до этого формулой писателя Эмиля Золя — «Произведение искусства — это кусок действительности, увиденный через темперамент», — импрессионисты принялись писать эти самые «куски действительности»: городские и сельские пейзажи, выхваченные в конкретный момент времени пытливым взглядом живописца. Живопись Моне, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея и других мыслилась строго пленэрной — мгновенный визуальный импульс, пойманный художником, предполагалось донести до зрителя в первозданном, нетронутом виде.

Эдгар Дега. Танцовщица у фотографа. 1873–1875.
Как глаз наблюдателя скользит по пейзажу или интерьеру, так и кисть художника переносит на холст скорее мир в целом, чем отдельные его атрибуты: фигуры и предметы на картинах импрессионистов зачастую лишаются четких контуров, растворяются в световоздушной среде полотна. Цвет и свет — вот истинные главные герои живописи импрессионизма: гаранты его выразительной силы, объекты его маниакального интереса, источники его художественных трюков и оптических иллюзий. Но и сам импрессионизм — тоже иллюзия: мгновение, которое способен запечатлеть для вечности фотоаппарат (к слову, импрессионисты не были равнодушны к этому приспособлению — см. хотя бы картину Эдгара Дега «Танцовщица у фотографа»), принципиально неподвластно художнику, работающему с красками и холстом. В 1890-е Моне создал одно из самых своих знаменитых произведений — цикл из 28 видов готического собора в Руане, запечатленных в одном и том же ракурсе, но в разное время суток, при разной погоде и разном свете. Однако за время, которое требовалось живописцу на то, чтобы нанести на холст то или иное количество краски, освещение неизбежно менялось, и работа над циклом шла тяжело. По свидетельствам очевидцев, многие картины Моне в итоге доделывал и даже почти полностью переписывал в своей студии в Живерни, в 70 километрах от Руана.
Свой импрессионизм — связанный прежде всего с именами Дебюсси и Равеля, но также раннего Эрика Сати, Эрнеста Фанелли и других композиторов — как известно, случился и в музыке. Впрочем, как это часто бывает с одноименными течениями в разных видах искусства, прямые параллели здесь сколь соблазнительны, столь и опасны. Поверхностная связь налицо — пейзажные заголовки произведений («Сады под дождем», «Море», «Облака» Дебюсси, «Отражения», «Игра воды» Равеля), общий экспериментальный посыл (художественный импрессионизм отрицал академическую живопись так же, как музыкальный — Вагнера и вообще симфонический мейнстрим немецкого происхождения). Но пристальный взгляд обнаруживает и принципиальные различия: и возник импрессионизм в музыке лет на десять позже, чем в живописи, и эстетически оказался слеплен из другого теста. А в тех же пейзажных заголовках на поверку оказывается больше символистских загадок, чем пленэрной правды. Звуковые образы композиторов-импрессионистов иногда заманчиво конкретны, как в «Фейерверках» Дебюсси или в замаскированной под водевиль игре о времени и власти в опере «Испанский час» Равеля. Но в этой музыке то слишком мало, то слишком много нот, чтобы принять ее за описательное, предметное, сюжетное искусство.
«Музыка создана для невыразимого. Мне хотелось бы, чтобы она имела такой облик, будто она то выступает из тени, то скрывается в ней… Я хочу записать музыкальные сны… Я хочу воспеть свой внутренний пейзаж с наивным простодушием детства…» — можно не верить Дебюсси на слово, но музыкальные намеки или прямые указания на химерическую природу его пейзажей, сценок и портретов невозможно не услышать. Моменты «здешней» жизни, так привлекавшей художников-импрессионистов, в музыке Дебюсси проявляются из нездешней тишины и снова исчезают в ней: его любимые ремарки — «затихая», «угасая», «отдаляясь», «растворяясь», «замедляясь», любимые финалы — истаивающие звучания, любимый нюанс — «пиано», любимые звуки — паузы. Тетради «Прелюдий», например, полны замаскированных загадок: «Девушка с волосами цвета льна» с ее как будто «простодушной» мелодией истончается, возносится на заоблачное небо верхних регистров; «Парусов» словно и вовсе не существовало в реальности, ясно слышно, как они сотканы из звука и воздуха; античные сценки с их орнаментальной статикой становятся метафорами вечности, «Прерванная серенада», «Шаги на снегу», «Мертвые листья» — знаками мимолетности. Свою единственную законченную оперу — «Пеллеас и Мелизанда» — Дебюсси написал по пьесе бельгийского символиста Мориса Метерлинка, а в 1913 году они с Равелем, не сговариваясь, создали вокальные циклы на стихи Стефана Малларме, так формулировавшего принципы поэзии символизма: «Парнасцы трактуют свои системы наподобие старых философов и риторов, изображая вещи прямо. Я думаю, что нужно, напротив, чтобы был лишь намек… Назвать предмет — значит уничтожить три четверти наслаждения поэмой, состоящего в счастье понемногу угадывать, внушать — вот в чем мечта. В совершенном применении этой тайны и состоит символ: вызывать мало-помалу предмет, чтобы показать состояние души, или, наоборот, выбирать предмет и извлекать из него путем последовательных разгадок душевное состояние».
Музыка XX века существует в связи с другим искусствами: живописью, архитектурой, поэзией и прозой, театром и кино, — просто эта связь не всегда там, где ее логично было бы ожидать, и оптические иллюзии двух в чем-то близких, а в чем-то безнадежно далеких друг от друга импрессионизмов являют тому красноречивый пример.
Шепоты, крики и не только
Короткая пробежка по дальнейшей культурной хронологии показывает, что и позднее между сходно называемыми явлениями из разных сфер опрометчиво ставить знак тождества, не вглядевшись в каждое из них попристальнее. Вот экспрессионизм начала XX столетия — стиль, проявивший себя и в изобразительном искусстве, и в музыке, и в литературе, а позже в архитектуре и даже в кинематографе. Общее — предельная субъективность высказывания, тяготение к экстремальным эмоциональным состояниям, крайнее нервное напряжение, выражаемое в изломанной жестикуляции, искривленных формах и переходе в регистр вопля. Картина «Крик» Эдварда Мунка с антропоморфной фигурой, охваченной вселенским ужасом, на фоне набора ярких, вихрящихся цветовых пятен и потоков — хрестоматийный образец направления. Чем напуган ее герой? Вероятно, тем же, чем персонажи экспрессионистских опер (предвестником в 1905-м становится «Саломея» Штрауса, кульминацией — «Воццек» Берга, рафинированным экстрактом — «Ожидание» Шёнберга в 1909-м с его психоаналитическим сюжетом-путешествием по темным уголкам человеческой души — идеальная экспрессионистская операция). Или тем же, чем лирический герой стихотворения «Конец света» Якоба ван Годдиса, написанного в 1911 году:
Сегодня на ветру не постоишь: —
Уносит шляпы!.. Что за наважденье!
В газетах пишут: всюду наводненье.
Срывает ветер черепицу с крыш.
Моря взбесились. Шалая вода
Смывает дамбы, затопив заставы.
Все кашляют, чихают… Ах, беда!
С мостов под насыпь валятся составы.

Эдвард Мунк. Крик. 1893.
Все это вроде бы звенья одной цепи — но лишь отчасти, с одного ракурса. В деталях находим и принципиальные несходства: так, если в живописи экспрессионизм — это пространство не скованного уже практически ничем авторского самовыражения (художник так видит!), то музыка экспрессионизма и додекафонии, напротив, ставит себя в рамки предельно жестких самоограничений — тональных, формальных, фактурных, интонационных — с той же целью: смыть дамбы, затопить заставы, проверить и прочувствовать пределы персонального эмоционального высказывания.
Игра в классики
А вот — следом — неостили межвоенных лет: неоклассицизм, необарокко, неоготика, неорусский стиль и многие другие. В различных видах искусства они появились и утвердились на одних и тех же основаниях: это и усталость от перманентной взвинченности экспрессионизма, и стремление к логике, симметрии, внятности и упорядоченности форм в условиях острой нехватки этих качеств в окружающем мире. Первые десятилетия XX века перекраивают географическую карту: с нее исчезают сразу несколько доминировавших на протяжении многих столетий государств (Австро-Венгрия, Османская империя), зато появляются новые (объединенные Германия и Италия), другие существенно меняют свои территориальные и идеологические контуры (Советская Россия) или стремительно выходят на авансцену из задних рядов (США). Первая мировая война — в западной традиции ее называют Великой войной, Great War, — становится потрясением, которого не испытывало прежде не только поколение первой половины XX века, но и все человечество.
Но из общих предпосылок рождается очень разное искусство: то стилизующее прошлое, то иронически его обыгрывающее; то стремящееся к исторической точности, то сочетающее старинную эстетику с современными техниками и материалами. В архитектуре «нео»-движения нередко территориально маркированы: в Москве, полной хорошо сохранившихся зданий допетровских времен, строятся церкви в неорусском стиле (например, Николы Чудотворца у Тверской заставы), а в Санкт-Петербурге с его классицистической застройкой — соответственно, неоклассические (такие как дача Половцева). Диалог с национальными традициями идет и в музыке: Альфредо Казелла пишет «Скарлаттиану» (фантазию на темы клавирных сонат Доменико Скарлатти первой половины XVIII века), Равель, Мийо и Пуленк ссылаются на классика французского барокко Франсуа Куперена. Но ничто не мешает, к примеру, и немцу Рихарду Штраусу оркестровать клавирные танцы Куперена, а Стравинскому — переосмыслять итальянские оперные традиции в «Пульчинелле». Неостили эклектичны по своей природе: как пишет критик Бенджамин Бухло о неоклассическом периоде Пикассо,
в творчестве Пикассо численность и разнородность стилистических подходов, цитируемых и заимствуемых из архива истории искусства, возрастают в 1917 году: не только классические портреты Энгра, но также, в результате посещения Италии вместе с Кокто, иконография итальянской commedia dell’arte, фрески Геркуланума (не говоря уже о скульптуре с фриза Парфенона и белых вазах в Лувре, рисунках крестьян Милле, обнаженных позднего Ренуара, пуантилизме Сёра, как отмечали Энтони Блант, Кристофер Грин и другие исследователи Пикассо). И разумеется, самоцитирование элементов синтетического кубизма, которые легко давались высокой чувственности декоративного стиля Пикассо начала 1920-х.
Параллели и перпендикуляры
Операцию сличения параллельных и перпендикулярных направлений в музыке и других искусствах можно проводить и дальше. Сопоставить, например, Джона Кейджа с его индетерминизмом — практикой, при которой существенная часть творческого процесса отдается на волю случая, — и Джексона Поллока, лидера абстрактного экспрессионизма в американском искусстве, произвольно разбрызгивавшего краску по холсту. Сюда же при желании добавляется и литературный метод нарезок Уильяма Берроуза и Брайона Гайсина, при котором текст (например, берроузовских романов «Голый завтрак» и «Мягкая машина») создается из случайно перемешанных книжных и газетных обрывков. Вновь — то, да не то, так, да не так: формально методология кажется близкой, а содержательно не всегда. Разница — в форме творческого контроля: нарезки Берроуза не вполне случайны, они лишь перемешиваются случайным образом, а Поллок как минимум осознанно выбирает тот или иной тюбик с краской. Или в том, как краска ложится на холст, а звуки — на линейки нотного стана: в живописном абстрактном экспрессионизме это происходит интуитивно, неконтролируемо, а Кейдж сверяется с китайской «Книгой перемен» («И цзин») и действует строго по ее указаниям.
На каждое сходство находится свое различие, специфика разных медиа предопределяет неоднородность подходов. Музыка многим обязанных Кейджу американских композиторов-минималистов 1960–1970-х годов разворачивается во времени и по-новому его организует, а живопись художников, которых тоже называли минималистами (геометрические орнаменты Фрэнка Стеллы, вертикальные линии Барнетта Ньюмана, кубы Сола Левитта, «стопки» и «коробки» Дональда Джадда), — в пространстве. И то и другое — примеры искусства, сознательно обходящегося малым. У музыкального и художественного минимализма не вполне одинаковые метаданные, но трансовый гипноз и обманчивая исполнительская свобода «In C» Терри Райли не так уж далеки от объективной геометрии и нейтральных фонов полотен Стеллы или Эльсуорта Келли.
Расширение пространства борьбы
Одна из работ Келли — «Мешер» 1951 года — как будто бы схематично изображает пути, которыми шли в XX веке музыка и другие искусства: горизонтальные линии на ней прерывисты и не строго параллельны друг другу, а то приближаются, то отдаляются, то сходятся, то расходятся, исчезают и появляются вновь — словом, взаимодействуют друг с другом активно и непредсказуемо.
Но где располагаются границы искусства? Где проходит линия, которая отделяет искусство от не-искусства, музыку от не-музыки, литературу от не-литературы, театр от не-театра? Культура XX века последовательно расширяет пространство допустимого, включает в свой каталог новые формы и подходы. Иногда этот процесс визуализируется буквально: как в театре Бертольда Брехта, разрушающего так называемую четвертую стену — воображаемую преграду между сценой и зрительным залом (например, в финале «Трехгрошовой оперы» один из героев обращается к зрителям и извиняется перед ними за несчастливый конец). Таким образом, местом действия спектакля становится уже не только сценическая коробка, но и все пространство театра, а в пределе — и весь мир за его стенами.

Эльсуорт Келли. Мешер. 1951.
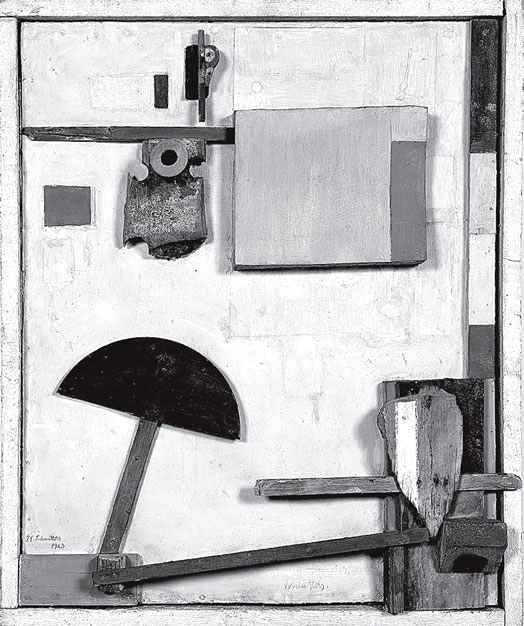
Курт Швиттерс. Merzbild Kijkduin. 1923.
Или как в мобилях — кинетических скульптурах — Александра Колдера. Статичное искусство, каким всегда мыслила себя скульптура, приходит в движение, осуществляет экспансию в окружающую его среду.
Или как в станковой живописи, постепенно преодолевающей свою двухмерную природу. Уже густые, пастозные красочные мазки постимпрессионистов заставляют формы на их картинах словно бы вздыбливаться, а в 1910–1920-х годах в живописные полотна начинают периодически проникать включения других материалов: например, конструкция из дерева и проволоки в «Пробегающем пейзаже» Ивана Клюна или всевозможный бытовой мусор в мерц-коллажах Курта Швиттерса, который художник создавал буквально из подручных средств. Как и контррельефы Владимира Татлина, его работы находятся на пути от картины к трехмерному арт-объекту — позже, в 1950-е, Жан Дюбюффе, сам работавший в близкой технике, придумает для обозначения этого вида искусства термин «ассамбляж».
Да? Да!
Эмансипация трехмерности в изобразительном искусстве происходит в первой половине XX века параллельно с другими процессами, легитимизирующими в культуре то, что раньше не помещалось под ее зонтик. Так, дадаизм — недолго просуществовавшее, но влиятельное междисциплинарное движение — легализует бессмыслицу и абсурд: «Не хочу слов, изобретенных другими, — пишет в 1916 году в первом манифесте дада Хуго Балль. — Хочу совершать собственные безумства, следовать своему ритму, иметь соответствующие ему свои гласные и согласные». «Я заставляю гласные кувыркаться, — продолжает он, — просто произношу звуки, как если бы мяукала кошка. Всплывают слова, плечи слов, ноги, руки, ладони слов. Ау, ой, у…» Высказыванием поэзии становится лепет, глоссолалия, а членораздельность, наоборот, перестает быть ее непременным условием. Литература осваивает новый язык — неструктурированной скороговорки, неконтролируемого потока сознания, как у Молли Блум в последней главе «Улисса» Джеймса Джойса.
Или даже не новый язык, а новые языки. Монологу Молли в романе предшествуют несколько глав, в которых та же самая история подана иначе — как театральная пьеса или в формате «вопрос — ответ», напоминающем катехизис. Мысль о том, что техника письма (литературного, художественного, музыкального) сама становится содержанием, — краеугольная для XX века: мы услышим ее эхо в музыкальном авангарде второй половины столетия. «В большинстве случаев в современном искусстве на самом деле нельзя больше говорить о содержании в прежнем смысле, — пишет Сьюзен Сонтаг о пьесах Эжена Ионеско, — скорее, содержанием здесь становится техника, прием. Ионеско — и с большим мастерством — приспосабливает к театру одно из великих технических открытий современной поэзии, а именно: язык как таковой может быть рассмотрен снаружи, как бы иностранцем… Его ранние пьесы не „о“ бессмыслице. Это попытка использовать бессмыслицу сценически». В 1947 году французский писатель Раймон Кено создал «Упражнения в стиле» — короткое произведение, в котором заведомо незначительная ситуация (ссора в рейсовом автобусе) 99 раз пересказана на разный манер, с использованием разных тропов и интонаций.
Точка, линия, пятно
Границы, в которых привыкла видеть и осознавать себя культура, отодвигаются все дальше, растворяются, искривляются, ветшают, в них обнаруживаются дыры и прорехи. «Я не понимаю, почему живопись непременно должна быть предметной, — пишет Шёнберг в письме Василию Кандинскому, одному из пионеров абстрактного искусства. — Более того, я как раз уверен в обратном». В сгустках цвета на картине «Крик» Мунка еще угадывались очертания моста и пейзажной панорамы под ним, но всего один шаг — и линии и пятна уже оставались лишь самими собой: линиями и пятнами. Этот шаг сделали художники-беспредметники, лишившие изобразительное искусство его, казалось бы, незыблемого качества — фигуративности. При этом абстракционизм не был монолитен: рядом с пылкой, безудержной абстракцией Кандинского возникла строгая геометрия Казимира Малевича, а еще лучизм Михаила Ларионова, неопластицизм Пита Мондриана, позже — ташизм Жоржа Матье, Антони Тапиеса и других.

Марсель Дюшан. Фонтан. 1917.
«Черный супрематический квадрат» Малевича — крайняя точка изобразительного искусства и один из решающих этапов новой разметки территории культуры. Другим стали реди-мейды Марселя Дюшана, включая знаменитый «Фонтан» — обыкновенный писсуар, который художник назначил произведением искусства и экспонировал в галерее, как и подобает, на постаменте и с экспликацией. Музыкальное произведение, коннотированное в публичном дискурсе сходным образом — как концептуалистский шедевр и остроумный розыгрыш, как революционный акт и объект насмешек, как работа, разделившая историю искусства на «до» и «после», и непреходящий источник раздражения традиционалистов, — было создано несколькими десятилетиями позже (еще одно свидетельство, что музыка и другие искусства не маршируют строем). Это «4′33″» Джона Кейджа.
Уникальное и типовое, штучное и тиражное
Попытка культуры заново очертить собственные контуры — не исключительное свойство XX столетия: она занималась этим и раньше, разве что, быть может, в менее радикальных формах и с менее вызывающими, на взгляд среднего наблюдателя, результатами. Так же и многие другие вопросы, актуальные для нее в новейшее время, в действительности не уникальны — мы слышали их и прежде. Ключевое отличие — не в вопросах, а как раз в ответах: в том, как художники, писатели, музыканты, архитекторы, режиссеры откликаются на вызовы, с которыми сталкивались и их далекие предки.
Есть, скажем, целый блок вопросов, связанный с тем, где, в каком контексте существует искусство и кто его потребитель. Произведение искусства — это музейная вещь, экспонирующаяся под стеклом в специально предназначенном для этого пространстве, или это объект, с которым каждый из нас может взаимодействовать повседневно, в быту? Еще во второй половине XIX века представители британской Школы искусств и ремесел постулировали, что мир станет лучше, если насытить его красотой даже в самых функциональных проявлениях. Свою профессиональную выучку они охотно поставили на службу бытовому дизайну, взявшись проектировать мебель или рисовать узоры для обоев. Идею подхватили и авангардисты 1910-х: среди самых поразительных художественных опытов революционной эпохи в России — так называемый агитационный фарфор, чашки, миски и тарелки, оформленные мастерами живописи и графики, например Сергеем Чехониным. Ты больше не смотришь на произведение в благоговейном молчании выставочного зала, ты — буквально — из него ешь и пьешь.

Сергей Чехонин. Блюдо «Царствию рабочих и крестьян не будет конца». 1920.
Вторжение искусства в повседневность — это и авангардистские музыкальные проекты начала века, такие как «Симфония гудков» Арсения Авраамова, где оркестром фактически становился целый город, и коммерческие решения эпохи звукозаписи. Так, в 1930-е годы в США придумали концепцию muzak — фоновой музыки, сопровождающей жизнедеятельность человека; считалось, что под нее будет лучше работаться на фабриках и в мастерских, а посетители супермаркетов и торговых центров станут более охотно покупать товары. В 1970-е Брайан Ино, считающийся пионером стиля эмбиент, очистил muzak от капиталистического подтекста: его альбомы вроде «Music for Airports» не преследовали цели сделать производство более эффективным или манипулировать эмоциями покупателей. Это была музыка, не делавшая тайны из своего предназначения — настраивать на спокойный лад во время тревожного ожидания рейса в аэропорту — и без стеснения выполнявшая заявляемую прикладную функцию, правда, музыку Ино в аэропортах никто не слышал. В XXI веке, в эпоху стриминга, подборки, скрашивающие слушателям то или иное регулярное времяпрепровождение (музыка для сна, музыка для тихого домашнего вечера, музыка для бега, музыка для силовых тренировок, далее везде), прочно вошли в нашу повседневность, и классическая музыка в них на хорошем счету — Apple Music, например, каждый месяц выпускает плейлисты Piano Chill с умиротворяющими композициями для фортепиано соло.
Музеи без стен и иные воображаемые реальности
Театральная «четвертая стена» Брехта — не единственная стена, которую разрушает XX век: в 1947 году французский философ Андре Мальро формулирует идею воображаемого музея, или музея без стен. Вкратце ее смысл в том, что благодаря воспроизводству произведений искусства — Мальро пишет прежде всего о репродукциях живописи и скульптуры, но его концепцию несложно масштабировать и на музыку эпохи звукозаписи, — у каждого из нас появляется свой воображаемый музей, состоящий из значимых для нас работ. Каждая из них экспонируется очищенной от ее первоначального культурного контекста — и, наоборот, обретает новый контекст: наших персональных воспоминаний, ощущений и ассоциаций.
В список востребованных художественных медиа XX века добавляются новые — в том числе те, которые по определению существуют в виртуальной, воображенной, сконструированной реальности. Это видеоарт, позже медиаарт и нет-арт (интернет-искусство). Но прежде всего это кинематограф, который и спустя сто лет остается массово востребован, а капитализация киноиндустрии — выше, чем даже у поп-музыкальной. Несмотря на сложную механику производства и воспроизведения движущихся картинок — здесь требуются уже не кисти и краски, не карандаши и бумага, не музыкальные инструменты, а тяжелая электрическая техника: камеры, свет, монтажный пульт, кинопроекторы и колонки, — кино стало популярным буквально с момента его изобретения.
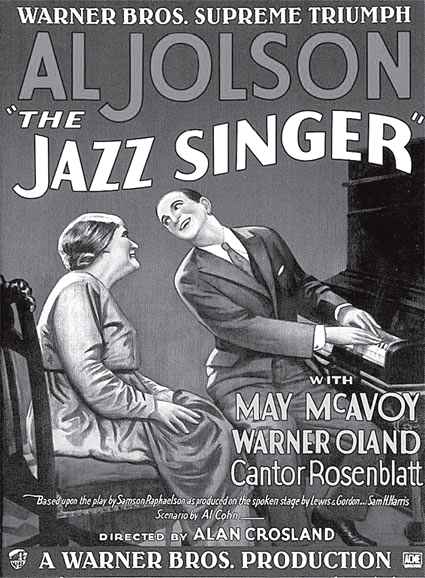
Плакат фильма «Певец джаза». 1927.
Одна из причин этой популярности — в том, что кинематограф заново воплотил мечту о гезамткунстверке — синтетическом произведении, берущем лучшее от всех старых медиа. Сценарий фильма — предмет литературы, режиссура и актерская игра — предмет театра, декорации, костюмы и построение кадра — предмет изобразительного искусства, а звук, соответственно, — предмет музыки. Примечательно, что даже в эпоху немого кино, до того, как производители научились синхронизировать звук и изображение (первым звуковым фильмом считается «Певец джаза» Алана Кросланда 1927 года), фильмы не предполагалось смотреть в полной тишине: кинотеатры нанимали таперов, а те, что побогаче, — целые оркестры для живого музыкального сопровождения. То, что кинематографу необходима музыка, стало понятно уже тогда.
С тех пор киномузыка превратилась фактически в отдельный вид искусства. Свои звуковые тропы оказались закреплены за разными жанрами: хроматические мелодии струнных и торжественно-тревожные духовые фанфары вслед за темой сериала «Миссия невыполнима» Лало Шифрина и саундтреками Джона Барри к ранним картинам о Джеймсе Бонде стали общим местом звуковых дорожек к шпионским боевикам и триллерам. А научная фантастика нередко поставляется в комплекте со звуками продвинутой электроники — после того как Луи и Бебе Бэрроны, американские композиторы-эксперименталисты, в 1956 году записали футуристический саундтрек к фильму «Запретная планета», обозначив его как «электронные тональности». Разумеется, могут быть и другие решения — как у Джона Уильямса, озвучившего «Звездные войны» с помощью поствагнеровской симфонической музыки. Мысль Уильямса: это не история для узкого круга любителей фантастики, а архетипический, понятный и близкий всем сюжет о борьбе добра и зла — просто помещенный в межпланетные декорации. Он нуждается в музыке, транслирующей эмоциональные состояния (за понятный эмоциональный архетип был принят Вагнер) — а не педалирующей космический антураж.
Текст и контекст
Кино — бесконечное пространство музыкальных возможностей: в фильме может звучать музыка старая и новая, популярная и академическая, специально написанная по случаю и уже существующая, но помещаемая в новый контекст. Некоторые герои этой книги работали с кинематографом напрямую: Прокофьев — с Сергеем Эйзенштейном, Шостакович — с Григорием Козинцевым. Другие могли слышать собственные сочинения в фильмах и иногда искренне этому удивляться — как Лигети, которого Стэнли Кубрик не предупредил о том, что собирается использовать фрагменты его сочинений в «Космической одиссее 2001 года» (задним числом композитору заплатили, и впоследствии — в фильмах «Сияние» и «С широко закрытыми глазами» — режиссер обращался к его произведениям уже с разрешения автора).
«Когда Лигети посетил венскую премьеру фильма и осознал, что музыка была использована без его разрешения, он был шокирован, — пишет журналист New Yorker. — Но, упомянув его сочинения в титрах, Кубрик сделал композитора знаменитым на весь мир». Кажется, впрочем, что дело не только в известности: важнее то, что, попав в пространство «Космической одиссеи», абстрактные сочинения Лигети («Атмосферы», «Вечный свет» и Реквием) получили дополнительное визуальное измерение. Непредвиденно для автора они оказались частью нового контекста — и не потеряли, а приобрели.

Прокофьев и Эйзенштейн во время работы над фильмом «Иван Грозный».
Этот фокус кинематограф, не только так называемый авторский, проворачивает постоянно. «В пять лет я впервые столкнулся с тем, что немцы называют Ohrwurm, „ушным червем“, — в мою голову запала мелодия, — вспоминает Дэниел Голдмарк в книге „Tunes for ‘Toons: Music and the Hollywood Cartoon“. — С помощью мамы и моего учителя фортепиано ее удалось идентифицировать: это было начало до-мажорной сонаты Моцарта K. 545. Позже, уже в колледже, мы проходили музыку эпохи романтизма, и одно из произведений — „Лесной царь“ Шуберта — показалось мне смутно знакомым. Прошло еще некоторое время, и внезапно я понял, откуда знал и Моцарта, и Шуберта — из мультиков! Соната Моцарта до мажор звучит более чем в дюжине мультфильмов студии Warner Bros.» Со времен диснеевской «Фантазии» 1940 года, саундтрек к которой записывал Филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стоковского, классическая музыка — в самом деле частый спутник анимационного кино. Несколько поколений безошибочно ассоциировали «Весну священную» со сценами из жизни динозавров, а Шестую симфонию Бетховена — с безмятежными играми крылатых лошадок-пегасов.
Точно так же «Полет валькирий» Вагнера сегодня — не только о валькириях, но и об истребителях американской армии во Вьетнаме, которые Фрэнсис Форд Коппола уподобил мифологическим девам-воительницам в «Апокалипсисе сегодня». Кино вторгается на музыкальную территорию, расширяет поставляющийся в комплекте с музыкой ассоциативный ряд. А отрывки саундтреков, созданные, казалось бы, с утилитарными целями, пополняют репертуар мировых оркестров — концертные программы из сочинений Уильямса, Говарда Шора, Бернарда Херрманна или Микаэла Таривердиева давно уже не редкость.
Музыка и в XXI веке продолжает находиться с другими видами искусства в постоянном взаимодействии — то обильно зачерпывает из их колодцев, то образует с ними причудливые синтетические комбинации, то сдает им в аренду свои уникальные сверхспособности. В частности — помогает им управлять нашими эмоциями: с этим она во все времена справлялась лучше других.
Назад: Глава 16 О музыкальных профессиях
Дальше: Интервью

