Глава седьмая. Стиль и сюжет
Самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем; критике нет нужды разбирать, что стихотворец описывает, но как описывает.А. Пушкин
Поэзия растёт из прозы
«Прозаик целым рядом черт, – разумеется, не рабски подмеченных, а художественно схваченных, – воспроизводит физиономию жизни; поэт одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливает жизнь в самых её внутренних движениях».
Эти слова написал Некрасов, поэт, который, казалось бы, поставил своей главной творческой целью как можно более тесное сближение обиходного языка прозы с поэтической речью. Однако это сближение речевых потоков, это обогащение поэтического стиля за счёт разговорного просторечия не означает ни сближения прозы и поэзии как видов искусства, ни устранения необходимых художественных различий между ними. В одной из своих лучших статей о стихах С. Я. Маршак писал: «Может ли быть мастерство там, где автор не имеет дела с жёсткой и суровой реальностью, не решает никакой задачи, не трудится, добывая новые поэтические ценности из житейской прозы, и ограничивается тем, что делает поэзию из поэзии, то есть из тех роз, соловьёв, крыльев, белых парусов и синих волн, золотых нив и спелых овсов, которые тоже в своё время были добыты настоящими поэтами из суровой жизненной прозы?» Маршак, конечно, прав: настоящая поэзия создаётся из прозы – в том смысле, что источником поэтического искусства обычно служат не стихи поэта-предшественника, а действительность, казавшаяся, может быть, недостойной поэтического воплощения. Это, однако, не даёт права заключать, что прозаическая речь, ставшая материалом для построения стиха, остаётся прозой в стиховом облачении. Даже предельно прозаические пушкинские строки действенны не тем, что они – проза, а тем, что содержат явное и потому радующее читателя противоречие между обыкновенностью словаря и необычайностью музыкально-ритмического звучания четырёхстопного ямба:
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег,
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.
Поверив Пушкину, что первые строки приведённого отрывка из «Графа Нулина» (1825) – обыкновенная «презренная проза», мы жестоко ошибёмся. Это проза, однако не обыкновенная; главное её свойство в следующем: ей любо красоваться тем, что она проза. Слова, входящие в эти фразы, и фразы, заключённые в эти строки, значат далеко не только то, что им свойственно значить в ином, нестиховом окружении. Вот, скажем, так:
«В последние дни сентября в деревне очень скучно: грязно, дует пронизывающий осенний ветер, сыплется мелкий снег да волки воют…»
Почти все слова, казалось бы, те же, но и совсем другие: они стали нейтральными, незаметными, они несут лишь смысловую информацию. В стихах Пушкина над смысловой преобладает информация «избыточная»: слова, говоря о самих себе, ещё и навязываются читателю, требуют его реакции на то, что они – «презренная проза», ждут его улыбки. И эта внесмысловая «избыточность» слов, эта их игра становится особенно ощутимой на крутых переходах от одного стиля к другому. Только что была простая, подчёркнуто обыденная разговорная речь, и вдруг слог меняется: «…не зная нег, в отъезжем поле он гарцует…» Появляются и деепричастный оборот, и высокое слово «нега» в ещё более возвышающем его множественном числе (ср.: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег») – здесь оно выступает в качестве поэтического синонима для понятия «удобство», «комфорт», – и, наконец, бесспорно старинное и поэтому возвышенно-поэтическое сочетание «пирует опустошительный набег…» («пировать что-нибудь», то есть устраивать пиршество по поводу чего-нибудь, – такое старинное словоупотребление у Пушкина очень редко, почти не встречается).
Значит, во второй половине строфы речь красуется не своей обыденностью, а иным – праздничной выспренностью; но и здесь стилистическая окраска сгущена, усилена и сама по себе, и своей противоположностью «низменной прозе» первых пяти строк. Несколько ниже похожее противопоставление:
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, дождь идти хотел…
Вдруг колокольчик зазвенел.
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?..
Столкновение разных стилей очевидно и до предела выразительно. Оно захватывает все слова без исключения (утки, лужа, баба, грязный двор, бельё, забор, погода, дождь – в первой части, а во второй – сердце, друзья, друг, товарищ, юность, она). Обратим внимание, что в первом куске лишь одно прилагательное (грязный двор), а восемь существительных лишены определений, тогда как во втором из шести существительных четыре сопровождаются эпитетами, всякий раз поставленными после определяемого слова. Инверсия, то есть нарушение привычного порядка слов, носит условно-поэтический, возвышающий характер: «в глуши печальной», «колокольчик дальный», «друг… запоздалый», «юности удалой». Все эпитеты стоят на рифме – именно они оказываются в центре внимания читателя, который от полного отсутствия эпитетов первого пассажа мгновенно переходит в область их неограниченного господства.
Эпитет – это внимание к качественной стороне бытия, а потому ярчайший признак эмоционального отношения к миру. Второй кусок логически не страдает от опущения всех эпитетов: «…кто долго жил в глуши, друзья, тот, верно, знает сам, как колокольчик порой волнует нам сердце. Не друг ли едет, товарищ юности?..» Однако теперь строки утратили присущую им выразительность – её создавали как раз логически избыточные эпитеты.
Этот второй пример, как сказано, похож на первый, но не тождествен ему. Там высокий слог, характеризующий бурбона-охотника, пародийно-ироничен; в один ряд поставлены стилистически противоположные глаголы: с одной стороны, «бранится, мокнет…», с другой – «…и пирует опустошительный набег». Во втором примере, в лирическом отступлении-воспоминании, интонация величаво-поэтической грусти лишена даже тени пародийности, она звучит с живой непосредственностью, проявляющейся в обращении к друзьям, восклицаниях («как сильно…», «Боже мой!»), вопросах («Не друг ли?», «Уж не она ли?..»), отрывистых фразах, настоящее время которых синхронно событию, возрождённому воспоминанием поэта: «Вот ближе, ближе… Сердце бьётся…»
Характеристика героини «Графа Нулина», Натальи Павловны, тоже дана стилистическими средствами, то есть косвенным путём. Правда, о ней сказано, что она получила нерусское воспитание, но эта «информация» выражена в иностранном звучании слов:
…в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.
…четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана…
«Иностранность» усиливается с появлением графа Нулина, которое предваряет французское слово «экипаж» (ср. выше «у мельницы коляска скачет…» – там слово-образ ещё не нужно для характеристики Нулина) и рифмующее с ним французское обращение слуги: «Allons, courage!» («Бодритесь!»). Да и длинный список материального и духовного багажа графа Нулина имеет не столько смысловое, сколько стилистическое значение:
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à jour,
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер Скотта,
С bons-mots парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera.
Содержание поэмы Пушкина, как видим, далеко не исчерпывается смысловым содержанием слов и фраз, её составляющих. Оно образуется столкновением, противопоставлением и сопоставлением стилистических планов, присущих словам и синтаксическим оборотам, – оно глубже и порой важней непосредственно данного смыслового содержания, с точки зрения которого, как иронически заключает сам Пушкин, поэма сводится лишь к одному: к тому, что
…в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.
Впрочем, с позиции смыслового содержания и «Домик в Коломне» учит лишь тому, что
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской… Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.
Нет, выжмешь! Поэма «Домик в Коломне» совсем не о том написана – Пушкин дразнит читателя, играя на противоречии между смысловым содержанием и тем содержанием специально поэтическим, которое дано не в логическом смысле текста, а в его стилистической экспрессии.
Понятие «содержания», таким образом, сдвигается. Пушкинские иронические морали, завершающие «Графа Нулина» и «Домик в Коломне», именно об этом и говорят читателю: возникают как бы ножницы между непосредственно воспринимаемым смыслом и подлинным содержанием поэтического произведения. Иногда эти ножницы раздвигаются настолько широко, что, казалось бы, теряется связь между логическим смыслом и реальным поэтическим содержанием. Чаще всего такое восприятие вызвано неумением прочитать стихи как стихи, исходя из внутренних закономерностей, свойственных этому искусству, а не из закономерностей прозы.
Стиль и смысл
В 1834 году Е. А. Баратынский, один из первых лириков «золотого века» русской поэзии, создал гениальную миниатюру из восьми строк:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.
Стихотворение это – философское, в нём идёт речь о соотношении духа и поэзии: в каком бы ни оказалась смятении душа поэта, как бы она ни была удручена совершённым несправедливым поступком или произнесённым ложным словом («тяжёлое… заблужденье»), как бы она ни была замутнена, искажена слепыми порывами стихийного чувства («бунтующая страсть»), искусство, творимое поэтом, исцелит страждущую душу, вернёт ей равновесие, доброту, покой. Стихотворение построено на раскрытии начального утверждения, формулированного в первом стихе:
Болящий дух врачует песнопенье.
В сущности, здесь уже всё сказано – и, что особенно важно, сказано в словах, близких к библейской, евангельской речи. В Евангелии эта фраза могла бы звучать примерно так: «Болящий (то есть страдающий, страждущий) дух уврачует вера». Баратынский спорит с религиозным воззрением на человека: нет, не вера, не раскаяние, не угрызения совести полнее всего исцелят мятущуюся, грешную душу поэта, а – песнопенье, творчество. Искусство он ставит в ряд с верой или даже выше веры. Искусство занимает место религии. Потому так важен эпитет к «поэзии» – «святая»; это тоже слово из религиозного обихода, как и причастие «разрешена», и всё предложение: «Душа… разрешена от всех своих скорбей», как и глаголы «искупит», «укротит» или редкостное существительное «причастница». У Пушкина, например, оно встречается один только раз, в пародийной речи Господа Бога, обращённой к деве Марии:
Краса земных любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовию пылая,
Причастницей ты славе будь моей…«Гавриилиада», 1821
«Будь причастницей» – то есть причастись. Слово «причастник (причастница)» в словаре Даля объяснено как «участник, соучастник, сообщник», но оно же снабжено пометой црк. (то есть «церковное») и объяснено как «причащающийся святых тайн» – оно связано с существительным церковного обихода «причащение», «причастие». «Причастие» иначе называется «святые дары» или «святые тайны». Разумеется, этот комплекс значений сопряжён у Баратынского с эпитетами «таинственная» (власть), «святая» (поэзия). Согласно христианскому представлению причастие (причащение святых тайн) ведёт к очищению души верующего от греховных помыслов. Значит, у Баратынского сказано: душа должна причаститься поэзии, тогда она обретёт чистоту и мир. Вот почему душа – «причастница» поэзии.
А что такое поэзия? Это – форма существования божества («святая»), она обладает чистотой и миром. И это прежде всего гармония, которой свойственна «таинственная власть» над душой. Замечательное слово «согласно» здесь означает «гармонически»; «согласно излитая» – то есть «излившаяся в гармонии».
Так смысл стихотворения Баратынского углубляется и по меньшей мере удваивается: в нём речь не только о том, что поэтическая гармония исцеляет «болящий дух» от угрызений совести и страстей и что она вносит мир, покой и чистоту в хаос внутренней жизни человека, но ещё и в том, что поэзия уравнивается с Богом, а преданность поэзии и вера в неё – с религией. Второй смысл стихотворения Баратынского содержится не в прямых утверждениях автора, а в стиле отдельных слов и словосочетаний; стиль обогащает вещь новым, дополнительным содержанием, вводит как бы второй сюжет, оказывающийся не менее важным, чем сюжет основной, легко различимый на первый взгляд.
Стиль относится, казалось бы, к форме, но измените его – вы измените содержание. Вот почти та же мысль, высказанная Баратынским в одном из писем к П. А. Плетнёву (1831):
«Мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство – значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа».
Нас сейчас интересует не разница между поэзией и прозой – она тут очевидна. В письме Плетнёву рассуждение Баратынского начисто лишено второго плана: здесь нет и тени того библейского стиля, который формирует глубину смысла в стихотворении, созданном три года спустя.
«Стихи и проза, лёд и пламень…»
Поставим рядом роман Диккенса «Домби и сын» (1848) и стихотворение Осипа Мандельштама, которое носит то же название (1914). Вот оно:
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык, –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын.
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле, –
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
Эти 24 строки содержат сгусток впечатления от двухтомного романа, они передают его атмосферу, его эмоциональное содержание. Попробуем подойти к этим строкам как к прозе. Прежде всего возникнет недоумение – почему в стихотворении о Домби автор начинает с героя другой книги, Оливера Твиста? Не потому ли, что его фамилия рифмуется со словом «свист»? Трезвого читателя удивит, почему именно тогда, в старом Лондоне, была «Темзы жёлтая вода» – куда ж она делась с тех пор? Ведь не изменила же вода свой цвет? А что значит многозначительное, но загадочное сочетание «дожди и слёзы»? Как эти понятия связаны между собой и к тому же с Домби-сыном, о котором сообщается лишь три разрозненных факта: нежность, белокурость, серьёзность? Какое отношение имеют сломанные стулья к мальчику Полю – с одной стороны, и к цифрам, роящимся как пчёлы (странный образ!), – с другой? Что за грязные адвокаты работают каким-то жалом (одно на всех!) и откуда взялся какой-то банкрот в петле? Конечно, покойнику уже нельзя помочь, это ясно и без комментариев, но почему автор перед лицом семейной трагедии считает нужным выделить «клетчатые панталоны»? Ведь это – бесчеловечное эстетство.
Да, конечно, имя Оливера Твиста появляется в рифме к слову «свист», и это не смешно, а серьёзно: в звукосочетании «Твист» поэту слышится эта рифма и видится некий образ коммерческой Англии XIX века, образ диккенсовских мальчиков, гибнущих в бесчеловечном мире конторских книг, цифр, бумаг. Вот о неизбежной гибели человека и написал своё стихотворение русский поэт, выделив этот и в самом деле центральный мотив из огромного многопланового романа. Не будем здесь пересказывать диккенсовский роман – его сложность характерна для беллетристики XIX века. В стихотворении Мандельштама тоже есть сюжет, но он другой: обобщённое столкновение между бюрократическим миром деловой конторы и судьбой слабого живого существа. Мир дан читателю отдельными впечатляющими штрихами: кипы конторских книг; Темзы жёлтая вода; сломанные стулья; шиллинги и пенсы; как пчёлы… роятся цифры; табачная мгла. А населяют душный мир контор весёлые клерки и грязные адвокаты. Образ адвокатов соединяется с окружающим их миром: цифры роятся в конторе круглый год, «как пчёлы, вылетев из улья»; и тотчас вслед за цифрами-пчёлами в стихотворении появляется жало адвокатов, по ассоциации с пчёлами связанное.
На этом грязном фоне возникают фигура мальчика – белокурого, нежного, чуждого «весёлым клеркам» и «грязным адвокатам», и облик рыдающей дочери, потерявшей обанкротившегося отца. Но их отец – плоть от плоти того мира, где смеются клерки и жалят адвокаты; поэт сказал об этом лишь средствами стиля:
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
Поэзия, которой овеян Поль Домби, не относится к отцу – он впервые упоминается в стихотворении уже как покончивший с собой банкрот, как мерзко-прозаический, едва ли не комичный труп – «как старая мочала, / Банкрот болтается в петле». Проза делового лондонского Сити позволяет в последних четырёх строках соединить обе темы стихотворения: прозаическую тему мёртвых вещей и поэтическую – человеческого страдания. Погибший торгаш был существом внешнего, показного бытия, а его дочка испытывает подлинное человеческое горе:
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
Если приложить к стихотворению Мандельштама прозаическую мерку – оно описательно-иррациональное. Если рассмотреть его по законам поэзии – оно оживёт и наполнится ярким гуманистическим содержанием; оказывается, оно воюет за человека и человеческую душу – против мира барышников и накопителей, против торгашества.
Мы взяли крайний пример: двухтомный роман сжат в стихотворении, содержащем примерно 75 слов, они могут поместиться на четверти страницы. К тому же Мандельштам весьма свободно обошёлся с романом. Подчиняясь законам поэтической сгущённости, он спрессовал вместе Оливера Твиста и Домби, обострил все ситуации. Есть в романе «весёлые клерки» – это, например, остряк из бухгалтерии, который, когда появлялся мистер Домби, «мгновенно становился таким же безгласным, как ряд кожаных пожарных вёдер, висевших за его спиною» (ч. I, гл. XIII), или рассыльный Перч. Однако маленький Поль Домби с ними не встречается – нет таких обстоятельств, при которых он мог бы понимать или не понимать их каламбуры. Противоположности сведены вместе в одной строфе и обострены рифмами. В романе Диккенса нет и адвокатов, «жало» которых «работает в табачной мгле», – они остаются за кулисами изображения. Контора Домби действительно терпит крах, но старый Домби не кончает с собой – он лишь намерен это сделать, пряча за пазухой нож, который собирается вонзить себе в грудь, но дочь Флоренс останавливает его: «Внезапно он вскочил с искажённым лицом, и эта преступная рука сжала что-то, спрятанное за пазухой. Вдруг его остановил крик – безумный, пронзительный, громкий, страстный, восторженный крик, – и мистер Домби увидел только своё собственное отражение в зеркале, а у ног свою дочь» (ч. II, гл. XXIX). Может быть, самоубийство попало в стихотворение из другого романа Диккенса – «Николас Никльби». Законы развития поэтического сюжета потребовали от Мандельштама иной развязки: в стихах диккенсовский идиллический happy end («счастливый конец») оказался совсем невозможным, и поэт повернул действие, завершив его трагически. Другое искусство, другая художественная логика. И, повторим, другое отношение к слову – материалу искусства.
Многие страницы, рассказывающие о старом Лондоне, дали всего двустишие; характеристика Домби-сына, которой Диккенс посвятил столько строк, уместилась в одной строфе, потребовала всего десяти слов. Конечно, эти слова и те же, что в романе, и совсем не те. Атмосфера диккенсовской Англии воссоздаётся не столько характером пластических образов, сколько стилистикой поэтического словаря. Уродливый мир конторы рисуется иностранными звучаниями: контора Домби, Сити, Темза, клерков каламбуры, шиллинги, пенсы, адвокаты, банкрот, панталоны. Да ещё в строках то и дело возникает – «пронзительнее свиста» – английское звучание: у Чарльза Диккенса спросите… в старом Сити… сломанные стулья… Дело, однако, не столько в звуках, сколько в том, что читателю раскрывается смысловое, стилистическое, ассоциативное богатство слова. Таково сочетание «дожди и слёзы», дающее и климатическую, и эмоциональную атмосферу как торгового Лондона, так и диккенсовского романа. Или сочетание «белокурый и нежный мальчик», эпитеты «жёлтая вода», «грязные адвокаты», «старая мочала»…
Разумеется, и в художественной прозе слово несёт с собой, кроме смысла, свой стиль. Но в прозе атмосфера стиля создаётся на более или менее обширном пространстве всеми составляющими этот стиль элементами. В стихах, на сжатом, предельно спрессованном поэтическом языке, достаточно одного намёка, одного яркого индивидуального слова, представляющего тот или иной речевой или литературный стиль, одного оборота – и стилистическая характеристика готова.
Борьба миров – борьба стилей
Нередко в литературном произведении сталкиваются два противоположных мира: уродливый мир мещанских будней, корыстных расчётов, себялюбивых мелких страстей – и прекрасный мир возвышенных духовных стремлений, самоотверженного благородства, поэтической любви и преданности. В прозе для такого противопоставления требуются десятки и сотни страниц. В поэзии иногда достаточно нескольких строк или строф. Мы уже видели, как в одном из стихотворений цикла «Стол» (1933) Марина Цветаева противопоставляла поэта жалким обывателям:
Вы – с отрыжками, я – с книжками,
С трюфелем, я – с грифелем,
Вы – с оливками, я – с рифмами,
С пикулем, я – с дактилем.
Здесь мир мещан выражен словами: отрыжки, трюфель, оливки, пикуль; мир труженика-поэта – простыми, но в этом тексте высокими словами: книжки, грифель, рифмы, дактиль. Слова второго ряда становятся выразительнее ещё и потому, что они по звучанию очень похожи на слова первого, «обывательского» ряда: трюфель – грифель, пикуль – дактиль, отрыжки – книжки.
Цветаева здесь придаёт простым словам возвышенное звучание, торжественный смысл. Но поэт может воспользоваться и теми стилистическими оттенками, которыми обладают слова или обороты сами по себе. Каждому читателю, даже неискушённому в стилистических тонкостях, понятно, что слово «прилизанный», сказанное, например, об университетском профессоре, звучит прозаично, насмешливо. А разве не чувствуется возвышенность в такой характеристике: «В её душе был сноп огня», «…вся она была из лёгкой персти»? «Сноп огня» – романтическая метафора, придающая тексту величавость, поэтическую напряжённость. Слово «персть» – редчайшее старинное слово, означающее земной прах, плоть. Державин писал в XVIII веке в стихотворении «На смерть князя Мещерского» (1779):
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерской! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О горе нам, рожденным в свет!»
Пушкин ни разу не употребил этого слова – оно казалось ему, видимо, слишком далёким от русской речи, слишком церковнославянским. В самом деле, «персть» – слово, привязанное к Библии. В библейской книге Бытие читаем: «Создал Бог человека, персть взем от земли», – здесь «персть» означает «прах». Или в другом месте, в книге Иова: «Посыпа перстию главу свою и пад на землю…» Лермонтов, имея в виду эту строку Библии, всё же заменил славянское «персть» на русское «пепел»:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий…«Пророк», 1841
Неужели может существовать такой литературный текст, в котором «прилизанный» и «персть» будут стоять рядом? Ведь эти слова, как говорится, рычат друг на друга, они несовместимы. Да, конечно, их соседство невообразимо в прозе. В поэзии же их столкновение приводит к взрыву – это и есть то, к чему стремится поэт. Такой стилистический взрыв подобен метафоре: в мгновенном озарении соединяются бесконечно далёкие факты действительности, той самой действительности, которая одновременно и едина, и вопиюще противоречива.
Вот как это происходит.
В наброске 1907 года Александр Блок спорит с Августом Бебелем, автором книги «Женщина и социализм» (1883), сочувствующим угнетённой женщине. Бебель был виднейшим деятелем рабочего движения, одним из основателей германской социал-демократии и II Интернационала. Блоку, прочитавшему его книгу о судьбе женщины, показалось, что Бебель унижает женщину своей жалостью; он, поэт, воспринял Бебеля как спокойно-академического учёного, профессора, не способного увидеть поэзию женского сердца, глубины её духа. Блок не называет своего противника, он говорит о нём лишь так:
…седой профессор –
Прилизанный, умытый, тридцать пять
Изданий книги выпустивший!.. –
и этому стилю интеллигентской речи противопоставляет торжественную метафоричность строк о женщине:
Ты говоришь, что женщина – раба?
Я знаю женщину. В ее душе
Был сноп огня. В походке – ветер.
В глазах – два моря скорби и страстей.
И вся она была из легкой персти –
Дрожащая и гибкая. Так вот,
Профессор, четырех стихий союз
Был в ней одной…«Сырое лето. Я лежу…», 1907
Так одними только стилистическими средствами разработан сюжет, который в прозе потребовал бы многих страниц логических доводов.
На этом же поэтическом принципе максимальной стилистической выразительности слова построены «Вольные мысли», написанные Блоком тогда же, в 1907 го ду; в стихотворении «Над озером» – романтическая петербургская природа, озеро дано метафорой красавицы, которую любит поэт:
С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни…
…………………………..
Влюбленные ему я песни шлю.
Оно меня не видит – и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом…
Такова природа, свободная и прекрасная. Появляется девушка – её образ гармонирует с озером и соснами:
…Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
…………………………
Я вижу легкий профиль.
Но есть другой, противоположный мир, мир «дальних дач»,
…там – самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех…
И это к тому же мир появившегося подле девушки
Затянутого в китель офицера,
С вихляющимся задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!
Стилистическое «двоемирие» вполне очевидно. В первом господствуют метафоры, изысканно красивые, благородные эпитеты: «складки лёгкие», «лёгкий профиль», «…О, нежная! О, тонкая!», «клубящийся туман»… Тема тумана проходит через всё стихотворение – это лейтмотив прекрасного мира петербургской природы: «сумрак дымно-сизый», «Туманится, и даль поит туманом…», «Сумерки синей, / Белей туман…», «Она глядит как будто за туманы…», «И задумчиво глядит / В клубящийся туман…», «Лишь озеро молчит, влача туманы…»
А в противоположном мире – в мире офицера и не воображаемой возвышенной Теклы, а вульгарной Феклы – царят совсем иные слова-образы: «пуговица-нос, / И плоский блин, приплюснутый фуражкой», «…смотрят / Его гляделки в ясные глаза…», «протяжно чмокает её, / Даёт ей руку и ведёт на дачу…», «они / Испуганы, сконфужены… Он ускоряет шаг, не забывая / Вихлять проворно задом…»
И всей этой пошлости противостоит музыкально-стилистический план, открывающий стихотворение, – озеро, в котором
…отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и Бог, и твердь, и сосны…
Стилистическое «двоемирие» доведено до отчётливости формулы в стихотворении Блока «В северном море» (1907) – два первых куска в отношении и лексики, и фразеологии, и синтаксиса, и образности, и фонетики противоположны друг другу. Первый кусок – берег, пошляки-дачники, обитатели Сестрорецкого курорта. Второй кусок – природа: море и небо. Вот эти два пассажа:
Что́ сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там, переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грýдей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.
А там – закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один –
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.
В первом куске грубые, почти вульгарные слова: «дымят» (вместо «курят»), «жуют» (вместо «едят»), «визжа, влезают»; неестественно жеманные иностранные слова, в а р в а р и з м ы – «кокетливо», «тальеры», «лимонад»; преобладают отдающие фамильярным разговором неопределённо-личные предложения – сказуемые без подлежащих: «…дымят, жуют, пьют…», «…бредут по пляжу…», «…шарят…», «кричат…». Все слова в прямом значении – кроме одной метафоры: «…заражая солёный воздух сплетнями…» Существенно и то, как через стихи этой строфы проходят раздражающие звучания, вроде господствующего здесь звука ж, которым отмечены несколько стиховых окончаний: жуют, по пляжу… заражая, обнажив, и, наконец, в начале строки – визжа; или – впечатляющего сочетания угрюмо хохоча.
Во втором куске всё другое. Лексика высокопоэтическая – сотворил, кубок, из очей… Ни одного слова в прямом смысле, метафоры громоздятся друг на друга и в конце очень усложняются. Цветовая гамма, усиленная синтаксической параллельностью конструкции, – «то розовый, то голубой туман», «то красные, то синие огни». Сложная фонетическая гармонизация – как в стихе, где преобладает сквозной гласный звук е: «В предсмертном гневе мечет из очей…» (7 е из 9 гласных).
Дальше эти противоположные стилистические тенденции сплетаются и, сблизившись, ещё отчётливее обнаруживают свою враждебность:
…Обогнув скучающих на пляже…
Мы выбегаем многоцветной рябью
В просторную ласкающую соль.
Стихотворение «В северном море» имеет чёткий поэтический сюжет, выявленный в равной мере как в противоборствующих идеях, так и в противопоставленных друг другу стилях: с одной стороны, грубо разговорного с оттенком вульгарности, с другой – предельно напряжённого поэтического стиля, заимствующего свои выразительные средства из романтического арсенала. В прозе сюжет «Северного моря» послужил бы, пожалуй, только сырым материалом для очерка; рассказ, новелла, повесть требовали бы дополнительных условий, в которых стихотворение не нуждается – его сюжет строится на борьбе словесных стилей.
Стилистический симфонизм
Выразительный пример использования возрастающих возможностей, предоставляемых стихом, – поэма А. Блока «Возмездие» (1910–1921).
В первой главе Блок даёт словесно-стилистическую характеристику XIX века. Обращаясь к нему, он говорит:
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций…
Не слишком важны смысловые различия между ценными бумагами – акцией и облигацией, или точное понимание того, какие имеются в виду конгрессы и федерации. Блок даёт не политэкономическую, а музыкальную характеристику капитализма, которая приобретает своеобразную полноту благодаря столкновению слов, по смыслу значащих одно и то же, а по стилю противоположных:
Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, – а просто дам…
……………………….
Там – вместо храбрости – нахальство,
А вместо подвигов – «психоз»…
Говоря об окончании русско-турецкой войны в 1878 году и о возвращении армии в Петербург, Блок перечисляет стилистически совсем иные элементы:
И Забалканский, и Сенная
Кишат полицией, толпой,
Крик, давка, ругань площадная…
………………………….
Заборы, бойни и пустырь
Перед Московскою заставой, –
Стена народу, тьма карет,
Пролетки, дрожки и коляски,
Султаны, кивера и каски,
Царица, двор и высший свет!
Проза, иронически введённая в стихотворное повествование, сменяется патетическими строками, по стилю противоположными, – они относятся к возвращающимся с войны солдатам, и в самом стиле выражена мысль о непримиримости интересов двора и солдат:
Разрежены их батальоны,
Но уцелевшие в бою
Теперь под рваные знамёна
Склонили голову свою…
А вот портрет революционерки, члена «Народной воли» Софьи Перовской, – он начат со списка внешних примет, названия которых лишены стилистической выразительности и внезапно приобретают торжественную тональность:
Средь прочих – женщина сидит:
Большой ребячий лоб не скрыт
Простой и скромною прической,
Широкий белый воротник
И платье черное – всё просто,
Худая, маленького роста,
Голубоокий детский лик,
Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью…
Курсивом здесь набраны слова и сочетания высокого поэтического плана, выделяющегося с особой отчётливостью на фоне бытовой простоты предшествующего описания.
Содержательность других характеристик тоже в большей мере зависит от стилистических оттенков, чем от смысла слов как такового. Вот дед поэта, А. Н. Бекетов, передовой профессор, ректор университета:
Глава семьи – сороковых
Годов соратник; он поныне,
В числе людей передовых,
Хранит гражданские святыни.
Он с николаевских времен
Стоит на страже просвещенья…
Выделенные курсивом сочетания – образцы фразеологии, характерной для русской либеральной интеллигенции той поры. Читатель, даже не зная речевой манеры А. Н. Бекетова и его современников, поймёт эти выражения как своеобразные стилистически окрашенные цитаты.
Вот другой «портрет с цитатами» – жених старшей дочери семейства Бекетовых, «вихрастый идеальный малый»:
Жених – противник всех обрядов
(Когда «страдает так народ»).
Невеста – точно тех же взглядов:
Она – с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царство темноты»
(И лишь венчаться не согласна
Без флердоранжа и фаты).
Вот – с мыслью о гражданском браке,
С челом мрачнее сентября,
Нечесаный, в нескладном фраке,
Он предстоит у алтаря,
Вступая в брак «принципиально», –
Сей новоявленный жених…
Пройдя мимо стилистики этих строк, вычитав из них только смысл, мы поймём бесконечно меньше, чем они содержат. А содержат они целую эпоху, социальный тип разночинца 70-х годов, и этот адрес дан отнюдь не только цитатой из Добролюбова («Луч света в царстве темноты»), но и другими типическими словосочетаниями, которые сталкиваются с французским «флердоранж»: так в стилистике отражается спор непримиримых общественных укладов. Прямо о нём ничего не сказано, но читателю ясна несочетаемость французских, произносимых в нос слов («флердоранж») с наречием «принципиально», характеризующим речь разночинца.
Психологический и внешний портрет Александра Львовича Блока, отца поэта, стилистически совершенно иной. Этот человек напоминает Байрона:
Он впрямь был с гордым лордом схож
Лица надменным выраженьем
И чем-то, что хочу назвать
Тяжелым пламенем печали.
Мотив пламени сопровождает этот образ («и пламень действенный потух»; «живой и пламенной беседой / Пленял»; «под этим демонским мерцаньем / Сверлящих пламенем очей»; «…замерли в груди / Доселе пламенные страсти»). Ему сопутствует и другой мотив – ястреба, который «слетает на прямых крылах» и терзает птенцов; в характеристике «новоявленного Байрона» то появляется «хищник», который «вращает… мутный зрак, / Больные расправляя крылья», то возникает в скобках вопрос к читателю: «Ты слышишь сбитых крыльев треск? – / То хищник напрягает зренье…», то обращение – тоже в скобках – к читателю: «Смотри: так хищник силы копит: / Сейчас – больным крылом взмахнёт, / На луг опустится бесшумно / И будет пить живую кровь / Уже от ужаса – безумной, / Дрожащей жертвы…»
Преувеличенно романтическая речь, граничащая с фальшью и пошлостью, характеризует не стиль авторского повествования, а духовный мир героя, который, впрочем, умней собственного поведения и сам понимает,
Что демоном и Дон-Жуаном
В тот век вести себя – смешно…
С годами меняется характер героя, демон становится ординарным профессором, и романтическая фразеология уступает место интеллигентски-бытовой:
И книжной крысой настоящей
Мой Байрон стал средь этой мглы;
Он диссертацией блестящей
Стяжал отменные хвалы
И принял кафедру в Варшаве…
Подобно тому, как в симфонии сплетаются и вступают в противоборство музыкальные темы, так и в поэме взаимодействуют, борются друг с другом и поддерживают друг друга темы стилистические. Они добавляют к содержанию многое, что не входит в сюжет. Симфонизм встречается и в романе, но там он носит иной характер, гораздо более рассредоточенный; в поэзии он концентрирован, связан со стилистическими чертами и оттенками отдельного слова, отдельного оборота. В «Возмездии» такими словами или оборотами, несущими стилистическую тему, оказываются: нейрастения, сплин, экономические доктрины, ренты, облигации, салоны, гостиные, Рекамье, психоз, передовые люди, гражданские святыни, на страже просвещенья, флердоранж, принципиально, тяжёлый пламень печали, книжная крыса, блестящая диссертация… Мы подошли к особой и очень сложной проблеме – о связях поэзии и музыки, о с и м ф о н и з м е в широком смысле этого слова, – однако здесь этой проблемы можно только бегло коснуться.
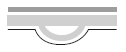
Назад: Глава шестая. Рифма
Дальше: Вместо заключения

