Стопфольд
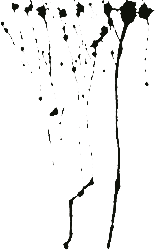
5 августа. Высадился в Тифлисской губернии. Погода прекрасна, а запахи – неописуемое блаженство. Словно входит в тебя этот чистейший горный воздух и перетряхивает все внутри. Древний город поразил и влюбил в себя с первого взгляда. Удивительная архитектура, вспоминается жаркий и вкрадчивый Каир. Глухой высоченный цоколь, омываемый рекой, над ним – разнокалиберные арочные окна, четыре-пять этажей, целая крепость. И точно этого мало, плоские крыши увенчаны мансардами. Здания соединяют мосты, присмотришься – а в этих крытых мостах-арках оконца, и там тоже обитают люди, голосистые, гордые, веселые. Нюхаю – не могу насладиться – аромат Куры, и кислого молока, и сушащегося в переулках белья, и свежего хлеба. Права, права Августа, нужна мне была эта поездка. Разомкнуть стены, забыться. В Горшине – горше.
6 августа. Арендую дом в квартале Клдисубани. Дом деревянный, но с одной кирпичной парадной стеной, с рогатой от дымоходов кровлей. Внешние лестницы, резные, крытые, ведут к террасе. Пью чай и любуюсь городом. Крыши, как летящие по ветру письма. Горы кругом, песочно-зеленые. Под горой Нарикала грузинская красавица – реконструированная церковь Земо Бетлеми и, похожая на пулю, суннитская мечеть. Овцы блеют внизу. Думаю, я распрощаюсь с бессонницей.
8 августа. Два дня путешествую по губернии. Надоело ли? Нет, нет и нет. Места изумительные, листаешь их, будто книгу, от новых глав к самым старым, написанным предками. Вот моложавые русские здания в Сололаках, театр, библиотеки, дворец главнокомандующего, вот крепости и серные бани Картлийского царства, вековые сады предместий, пятнистые фасады в сколах, помнящие нашествие персов, а за этим всем – горы, коим снятся Тамара и Тамерлан, святая Нино и халифы. Вечером гулял под напевы зурны, под стук молоточков из мастерских и праздный хохот из духанов – трактиров. Скучаю по Наташеньке, доченьке моей, а в остальном почти счастлив.
13 августа. Вернулся в Тифлис. Ездил с проводником по армянским монастырям, по мечетям, в Тифлисе посещал воронцовский театр, которым восхищался Дюма. Но самое сильное впечатление производят нерукотворные шедевры. Голубоватые и фиолетовые камни, скалы, изборожденные дождем и ветром, украшенные гирляндами виноградников, сиреневые ущелья. По горным тропам кочуют гурийские, имеретинские и рачинские муши, тысячелетние старцы опираются на кизиловые палки. Дети волокут котомки и бурдюки. Ропщет река, спорят каштаны, бук, липы и граб. Как далек от меня Горшин! Сидя на каменистом берегу, думал о моей Иде. Ида, Идочка, вставь мне в глазницы свои бирюзовые глаза, чтобы я видел за тебя эти сокровища, чтобы ты в смерти подлой наслаждалась красотой ущелий, красотой продолговатых листьев, сплавляемых по течению. Или тебе с небес видно все? Отзовись, Ида, дай обнять тебя, нежность, дай увидеть тебя в чертах Наташеньки. Зачем же ты ушла так рано? Тоскую…
13 августа, позже. В церкви Анчисхати смотрел на лица. Лица этих людей сошли с фресок, с ненарисованных икон! Как мне их написать? Как перенести на полотно их взгляды, их улыбки? Почему я так слаб, а мой талант так куц? И есть ли он, талант? Августа словно родилась, зная о себе все, кто она, кем будет, для чего живет. С Идой я тоже знал, зачем живу. А сейчас?
14 августа. Был на рынке. Это другой мир, существующий по другим правилам. Поразительны и пестрота тканей, и сложные узоры ковров, и узоры стариковских морщин. Крики, сутолока! Арбе не разминуться с караваном верблюдов. Вон цирюльник прямо на валуне бреет голову клиенту. Вон лепешки, развешанные по веревкам, словно белые паруса. Шьют, лепят, чинят, пилят бородачи. Здесь состоялся любопытный разговор и любопытная же сделка. Щуплый мингрел прибаутками зазывал к товару. На земле – бело-красные бутоны мирабилита, модного минерала, добываемого с недавних пор неподалеку от Тифлиса. Решил Августе сувенир купить, смотрю, ваза в тряпицу замотана. Ваза медная, старая, в белом налете, но меня заинтересовала тряпица. Развернул… Верно я угадал, посудину замотали в холст, и я окаменел, увидев изображенное. Таких лиц не встречал у лучших иконописцев! Портрет излучал энергию, волю, силу! Нарисованный мужчина мог быть царем, и фантазия моя тотчас сотворила дворец, и трон, и изображенного человека в порфире, а перед ним коленопреклоненные подданные. «Кто писал это?» – спросил я, негодуя, что в столь вдохновенное полотно завернули хлам. «Никто, – сказал мингрел, – оно само появилось». Само! А он ведь прав – великое появляется само, а художник – лишь проводник, кисть, инструмент! Мингрел все нахваливал вазу, сказал, что работает на высохшем озере и нашел ее под толщей песчаной глины и мирабилита. Что я могу сделать много картинок, если положу вазу на ткань… или я неверно истолковал его плохой русский. В любом случае я заплатил за вазу и получил вместе с ней драгоценный холст.
14 августа, позже. Рассматриваю ткань в крайнем возбуждении. Да, портрет великолепен. Он живет своей жизнью, наблюдает, повелевает комнатой – если долго смотреть, затихает уличный шум, перекличка детей и мычанье волов. Необычные мысли наполняют голову. Как он написан? Как мне повторить, скопировать эти глаза? Краска – сажа? – пропитывает холстину насквозь. Будто портрет не рисовали, будто подержали над огнем, и лицо расцвело, проявилось, возникло! «Само появилось», – сказал мингрел. И можно поверить, представить, что это саван святого, на котором отпечатался лик… Первозданные горы диктуют библейские мысли.
15 августа. Так увлекся холстом, что лишь сегодня вспомнил о вазе. Горловина закупорена сургучом. Металл теплый на ощупь. Что же там? Золото? Жемчуг? Богатства, веками таившиеся в мирабилите, на дне пересохшего озера? Где нож? Проверим…
Проверил. Вот тебе и богатства. В вазе были кости – я испугался, что человеческие. Но кости слишком тонкие и слишком длинные. Желтые, в наростах минералов. Как сахар на палочках, кошмар. Кости, конечно, выбросил в ров позади двора, вазу промыл и упаковал.
16 августа. Гулял на Воронцовской площади. Почувствовал вдруг нестерпимое колоссальное желание увидеть холст, сановный лик. Бежал домой, спотыкаясь, умирал от мысли, что его украдут. Не узнаю себя.
18 августа. Прощаюсь с Грузией. Горы в белой дымке, долины, взрыхленные реками, желтые и охристые пласты. На плато – словно рассыпчатом издали – отара домишек. Журчит вдоль тропы ручей, валуны оживают, оказываясь овцами, чье желтоватое руно сливается с желтым каменным фоном. Иззубренные скалы и персты монастырей. Над треугольным фронтоном храма вырезанное крестом окно. Как жаль, что я не пейзажист… а кто я? Ида, помнишь, я пытался писать твой потрет, а ты смеялась? Носила Наташу в большом своем животе. Мы много смеялись в тот год.
18 августа, позже. Отъезд омрачен: на Асатиани убили человека. Я прогуливался к церкви и видел труп. Молодой парень зарезан в пьяной драке. Кровь натекла нимбом вокруг курчавой головы. В этой красной луже вдруг увидел лицо с холста. Я стал одержим портретом. Тут – горе, смерть, а я – про искусство. Грешен.
25 августа. С домашними хлопотами было не до дневника. Будто вчера еще вздымались вокруг горы и бурлила Кура, и вот я в Горшине. Наташа не слезает с колен. Взрослеет, хорошеет. Шесть лет! Так мало! А сколько всего вместилось в эти шесть лет – любви, горя. Иногда свет особенным образом падает на ее профиль, и я узнаю Иду, и хочется кричать. Наташа смотрит умными мамиными глазами, прижимает к губам куклу. «Пап, ты видел слонов?» Смеюсь. Каждому домочадцу привез подарки, никого не обделил. Августе – сервиз, Наташеньке – кукол и сладости. Шаль с серебряной нитью для захворавшей Зинаиды. Титу – чубук и вина, Шурке и Палашке – конфет и пряностей. А себе? Себе кисти новые и лицо на холсте.
26 августа. Странно, странно, странно. Странно.
26 августа, позже. Обдумал хорошенько – нет ответов. О чем я? О вазе, по приезде брошенной за шкаф. Распаковал – а на бумаге, в которую вазу заворачивал, пятно в форме лица. Долго, со стеклом, исследовал вазу, искал выпуклости, способные отпечататься, но медь гладкая. Перечитал запись от 15-го. Писано: кости выбросил в ров позади двора. И сам помню, как выбрасывал. А ваза полна костей, желтых, в кристаллах. Что со мной? Горе издырявило память? Тайна за семью печатями. Бумагу порвал, кости выкинул, вазу запер в чулане.
27 августа. Рисую. Пока безрезультатно. Закрепил холст с лицом – моего натурщика. Повторяю маслом, все не то. Не тот взор, не те черты. Со злости грохнул кулаком так, что раскокал чашку. Августа прибежала. Насилу успел спрятать холст. Притворяюсь вдохновленным, взвинчен. Скоро осень…
1 сентября. Вот она пришла, золотая, рдяная. Иды осенью не стало. Это – ее погребальные наряды. Уходя, шептала на ухо: «Утешь, Георг, скажи, что жить будешь, ради дочери». Утешил, поклялся ей. Но живу ли я? Когда дочь обнимаю – живу. Больно, как освежеванный заживо зверь, но живу. Ида, Ида, снись мне, во сне радости много.
2 сентября. Наташа забывает лицо матери. Зинаида показывает ей фотографии. Говорит о небесном царстве. Вспомнил легенду о рыцаре, который сорок лет добирался к любимой, а любимая умерла, и он отправился штурмовать Божьи чертоги, дабы вызволить ее. Завтра – охота. Нет сил дышать краской.
3 сентября. Возвратились. Я разучился отдыхать. Доктор К. подметил нездоровую бледность, велел есть красные ягоды и свеклу. Шел за гончими по лесу, увидел дерево с облетевшей кроной, рыжее от грибка, покалеченное молнией, как моя душа – любовью, а потом бедой. Дупло показалось мне ртом, плесневые разводы – глазами и носом. Мой монах (я назвал человека на холстине – монахом) и здесь настиг меня. Он отпечатывался на ткани, и на разуме моем отпечатался. Аппетит пропал, дома со злости обругал бедную Зинаиду ни за что. А она четыре года с Наташенькой как с родным дитем нянчится. Стыдно, стыдно.
6 сентября. Снилось такое: Наташа тонет в зыбучем песке, а я стою на коньке флигеля и ничем не помогаю. Весь Горшин в песке, желтая масса прет, словно тесто, вот-вот поглотит наш холм. Люди кричат, лошади ржут. Песок смыкается, всасывает флигель, лижет ноги, а я стою.
7 сентября. Извел поприще холстины и осьмуху краски и сдался. Не повторить мне портрет, только не мне, обделенному и искрой таланта. Смирился, опустил руки. Покидал мастерскую, как вдруг… мысль – фейерверком. Тит – даром что неученый, дворовой, находил на болотах коряги, напоминающие зверей, кое-где ветки ломал, подтачивал, и получайте статуэтку! Так и я использовал готовый портрет – пририсовал монашеские волосы, шею, воротник, прошел кистью по линиям, умаслил. Бороду рисовать не стал – боялся испортить. Приладил раму, оценил результат. Чужой, купленный у мингрела холст стал моим собственным. Обман ли? По всему выходит, обман. Соромно ли мне? Нет, даже счастливо.
8 сентября. Снился необыкновенный сон. Разрушающийся дворец, как у халифа. Повсеместный упадок. Фонтаны, забитые мусором, умирающие павлины, увядший сад. Фрески осыпаются потускневшими клочьями. Я смотрю в бойницы и вижу ад: полчища до горизонта, в полнейшей угрюмой тишине под набухшими тучами сотни тысяч воинов режут и колют друг друга. Океан из людей, который бороздят серые корабли – слоны, оседланные лучниками. Ноги топчут врага, хоботы поднимают солдат в воздух. Смерть в пустыне, припорошенная пылью смерть! И я наблюдаю с горделивой обреченностью, без страха, но и без надежды. Потом, как это бывает во сне, картина меняется – я оказываюсь там, где кипела битва. Не понять, кто победил, скорее, мертвы все. Трупы под ногами, подранные кольчуги, смятые черепа. Дохлый, ощетинившийся стрелами слон. А над полем боя, надо мной, громадный, до звезд, возвышается человек… дух… демон. У него тело мужчины, но голова многих зверей сразу: львиная, орлиная, волчья. Личины меняются, пока он не выбирает лицо с моего холста. Он глядит на меня – червя! – огненными глазами и спрашивает, чего я хочу. И каждый труп в пустыне, даже мертвый слон – повторяет его вопрос шелестящим шепотом. Я знаю, кто он: джинн, ифрит из арабских сказок, из Корана, из «Тысячи и одной ночи». Он может все: дать мне власть над гниющими трупами, восстановить мой дворец, отлить в золоте монумент моему величию. Я прошу, чтобы он позволил мне еще хоть раз поцеловать Иду. Просыпаюсь в слезах.
8 сентября, позже. Пригласил дочь, сестру и Зинаиду в мастерскую. Не того эффекта я ждал! Ладно, Наташа расплакалась и выбежала вон – она крошка еще, а мой монах умеет впечатлить. Но слова Августы огорчили. Она спросила хмуро, кто позировал мне: пациент больницы для умалишенных? И почему герой картины смотрит с такой ненавистью? Я вспылил, Августа вышла тоже. Зинаида же, застыв у холста, трогала монаха дрожащими пальцами, как святыню. Я, удивленный, наблюдал за таким необычайным поведением, нисколько не присущим дебелой, гнушающейся искусства, женщине. С третьего оклика удалось привлечь внимание Зинаиды. Ее зрачки плавали в слезах, она схватила меня за руку и сказала горячо: «Вы нарисовали Бога!» Угодил няньке, а родной сестре не угодил.
10 сентября. Вечером у нас будут гости. Тит зарезал поросенка, Шура и Парашка колдуют на кухне. Наташенька – маленькая принцесса в голубом платье. Августа весь день ворчит.
11 сентября. Руки трясутся, роняю перо. Ночью… нет, не сейчас. Мне надо подумать и выпить коньяка.
11 сентября, позже. Осушил бутылку. Постараюсь быть внятным. Ночью приходила Ида. Я проснулся – да, я настаиваю, я уверен, что проснулся, – от скрипа петель. Дверь в моей спальне была открыта, я видел лестницу и чувствовал, сидя на кровати, как что-то поднимается, движется ко мне. Из мрака выкристаллизовалась фигура. Она шла по ступенькам, и я узнал походку, а когда она вплыла в комнату, и дверь позади закрылась сама по себе, я узнал платье, в котором похоронили Иду, и лицо, занавешенное волосами. Лунный свет окутывал эту призрачную фигуру. Галлюцинация была не только зрительной, но и обонятельной: я вдыхал запах прелой листвы, жирной взбурленной грязи, размякшей под дождем колеи… Куда вела та колея? Ко мне, в постель, чтобы я убедился, что плечи гостьи холодны, а локоны мокры. Она присела молча на край кровати. «Ида?» – спросил я дрогнувшим голосом. Она ответила печальным вздохом – запах осени стал нестерпимым. Я разделил пальцами занавес свалявшихся волос. Клянусь, если бы там была гниль и оскаленный череп, я бы целовал гниль и череп! Но за ширмой скрывалось родное любимое лицо, разве что похудевшее и как бы выбеленное. Щеки ввалились, глаза тонули в черных дырах… а губы… губы искали меня. Они поймали мой палец и начали посасывать – я завыл беззвучно от переполняющей тяги. Ида, моя Ида вышла из могилы, воскресла, воплотилась… Я прикоснулся губами к ледяным губам, нашел шершавый язык, я кричал глубоко внутри от горя – кричал, цепляясь за нее, опасаясь, что видение растает… и мы были вместе до зари, вдвоем… Сейчас, глядя на свои ладони, я помню ослизлые бугорки грудей. Кусая губы, вспоминаю солоноватый вкус пота. Я истощен, как бывает истощен мужчина, любивший супругу ночь напролет…
Она испарилась, сгорела в серых рассветных лучах. Посмотрела на прощанье бездонными глазами, уже не бирюзовыми, а черными… На постели остались комья земли и белые извивающиеся личинки. Кем была она? Живым мертвецом? Призраком? Грезой? Все равно, все равно.
12 сентября. Ида приходила вновь.
13 сентября. Не ложился спать, ждал, зажег свечи. Ее тело разрушается, но не моя любовь. В разгар наших ласк кричала Наташа, а я не смог прервать объятия. Утром оказалось, ей снился дурной сон. Августа смотрит косо, будто о чем-то догадывается, но как ограниченному человеческому мозгу догадаться о таком? На спине царапины – доказательства, что я не брежу.
14 сентября. Понял, целуя Иду: эта ночь – последняя. Пытался расспрашивать, что там, откуда она приходит. Ида загрустила. Она сказала, что мне не позволено знать. Сказала, что я совершил ошибку и мне придется платить за ее кратковременное возвращение. Я говорил, что отдам все до последнего гроша.
15 сентября. Бодрствовал. Ида не пришла.
16 сентября. Иды нет.
20 сентября. Перечитываю записи. Будто это было во сне. Чувствую, что заболеваю. Ида, подари мне еще одну ночь, один поцелуй, один взгляд.
1 октября. Августа боялась, я умру. Дежурила у постели. Ежедневно наведывался доктор К. – ничего не помню. Жар спал. Сегодня даже вышел из дому, смотрел, как облетает с деревьев листва. Пока был прикован к кровати, кошмары, точно табуны лошадей, проходили через меня, топтали копытами. Запомнился самый яркий и страшный: я снова был на месте ратной битвы, где трупы шептались, разлагаясь под неумолимым солнцем, где мухи ползали по оголившимся ребрам слонов. И великан с разными лицами, с красными глазами, сказал, что я должен платить. Он – джинн, ифрит – сказал, что платой будет мое потомство и мой город. Во сне казалось это справедливым.
3 октября. Здоров ли я? Не скажу. Днем в парке видел собак, терзающих добычу. Приблизился. Это были не собаки, а шакалы. Пятнистые и тощие, они дрались за окоченевшего дрозда. Тельцами дроздов была устелена опушка. Шакалы, услышав меня, замерли, повернули голодные морды и встали на задние лапы. Я убегал, оглядываясь, а они стояли среди дубов, отбрасывая длинные тени. Я болен? Или в Горшине завелись шакалы? Или я привез из поездки что-то недоброе, паутиной опутавшее поместье? Картина… она пылится в мастерской. После той неудавшейся выставки… я писал… или нет? Нет, не писал, забыл. Почти месяц назад пригласил в дом друзей. Демонстрировал монаха. Лица – будто они шли на встречу с прекрасным, но проезжающий кэб обрызгал грязью. Хвалят… лгут… смотрят как на безумца. У Зинаиды пошла носом кровь. Августа сказала, что переселится во флигель, если я повешу на стену «эту мерзость». Плюнул, накрыл мешковиной злосчастный портрет. Признаться, самому он уже кажется дурным. Голодным, как привидевшиеся шакалы.
7 октября. Наташенька плачет во сне. Говорит, ей угрожает великан. Ругаю Зинаиду, вовремя не проснувшуюся. Зинаида последнее время сама не своя, как сомнамбула. Думаю, не блуждает ли один и тот же великан по сновидениям жителей этого печального имения?
12 октября. Застал Зинаиду ползающей в листве позади овина. Надавал пощечин, насилу отрезвил. Принюхался: пила? Смотрит стеклянными глазами. В листве что-то дохлое, смрадное. Велел ступать домой и не приближаться пока к Наташеньке.
20 октября. На апостола Фому похоронили бедную Зинаиду. За чертой кладбища, без отпевания. Тоскливая то была процессия под моросящим дождем: я, Тит, кухарки, причитающие сельские бабы. Вороны. Августа увезла Наташеньку в город. Зинаида укоротила свой век, страшный грех взяла на душу. Кухонным ножом перерезала горло в мастерской: кровь забрызгала монаха. Мешковину она убрала, словно желала, умирая, видеть мой холст… мой ли? Не потянул ли за собой визит на тифлисский рынок череду страшных и неимоверных происшествий? Сны дочери, видения наяву… тень Иды, вплывающей в покои?
27 октября. Лицо везде. В разлитой воде, в черных ветвях, в складках сестринского платья. Августа требует показаться врачу. Сомневаюсь, что врач поможет. Уничтожить полотно! Сжечь! Избавить дом от его присутствия! Царь он, монах или сказочный джинн – сжечь!
27 октября, позже. В первый раз за долгое время смеялся, хорошо и искренне. Портрета, писанного мной поверх чужого, больше нет. Его съела Гуля! Именно так, слопала наша корова! Я вынес холст к сараям, хотел предать огню. Зазевался, а Гуля высунулась сквозь планки ограды и сжевала мой шедевр, аки блин на Масленицу! Уж хохотал я! Тит, озадаченный, выбежал из конюшни. А как ему объяснить? Руками махал и смеялся.
28 октября. Тени покинули дом. Покинули мысли. Долго гуляли с Наташенькой и сестрой, ели орехи и леденцы, мечтали. Наташенька увидела в облаках бегемота, Августина – клячу, а я – карету.
3 ноября. Я не безумен, дела обстоят гораздо прискорбнее. Это дьявольская печать, лежащая на моем челе, заражающая все окрест. С вечера зарядил ливень. Темень взрывалась громовыми пушками, будто сам Сатана посетил Горшин, и ему салютовали черти. Всполохи молний заново наполнили гостиную беспокойными тенями, а душу – тоской. Тит постучал в дом: «Гуля рожает!» Думал наорать, почто, мол, держим тебя? Рассмотрел перекошенное лицо Тита. Волосы встали дыбом. Посеменил за ним по грязи. Хлев оглашался мычанием. Страшно кричала наша Гуля. Вспышки небесного электричества отражались в расширившемся глазу. Она покачивалась на нетвердых ногах, брюхо ходило ходуном. «Отелится же! – крикнул я. – Тяни!» Но Тит только тряс головой. Гуля месила солому копытами. Полыхнуло, из-под хвоста хлынула черная жижа. А в жиже, в сизом околоплодном пузыре, извивался ребенок. Моя рука движется по бумаге, выводя слова, но разум мой пребывает в хлеву. Я вижу маленькую цепкую ручку о пяти пальцах, разрывающую пузырь, вижу человека… ребенка… нет! Карлика! Дети не умеют улыбаться так и так люто смотреть! У вылезшего из коровьего чрева существа была серая кожа и улыбка во все лицо, до раскосых глаз. И зубы! Сколько зубов! Захихикав во тьме и вони, оно юркой ящеркой ринулось прочь и пропало за ливнем. Гуля, породившая нечисть, завалилась на бок. Жизнь покидала ее. Тит крестился, талдыча: «Бес! Мы прокляты! Это бес!» Я потряс его за зипун, строго-настрого приказав молчать о случившемся. Он пообещал… Утром Гулю сожгли. Мне чудилось рыло монаха в дыму. Морда ужасного джинна! А теперь в сумерках и стрекоте дождя мне чудится хихиканье, топот босых ножек по чердаку. Оно в доме! Оно ждет, пока мы уснем!
4 ноября. Без происшествий. Хожу, слушаю. Почти не сплю.
8 ноября. Много дней не брался за кисть, но Наташенька попросила нарисовать элефанта на ее щеке. Мы разрисовывали друг друга в потеху, когда Ида была здорова. Я поцеловал ее в щеку – в теплый душистый холстик – и начал с завитушки… а закончил, покрыв черной краской все личико Наташи: нос, губы, лоб… словно другое лицо легло поверх, и я узнал его. Наташенька расплакалась, глянув в зеркало. Я утешал, сулил пряники, умывал, чтобы не заметила Августа. Но полностью вывести темные пятнышки не смог. Наташа скоблит щеки и плачет. Ее мучают кошмары, кто-то – кто и зачем? – рассказал ей, как умерла ее нянечка. Несчастное дитя! Несчастная моя сиротка!
11 ноября. Тит проговорился, но, слава Всевышнему, его подняли на смех. Он прав совершенно: мы прокляты. Ночами коровий отпрыск скребется за дверью, глумится, носится в стенах. Я уничтожил холст, выбросил кости, но… погодите!
11 ноября, позже. Я забыл про вазу – про лампу джинна. Напрочь забыл! Направляясь к чулану, слышал шорох внутри, звук, словно пьют горячий чай. В доме никого не было, сестра с Наташей уехали на ярмарку. Я вооружился кочергой. По́том обливаясь, отворил дверцы навстречу чаепитию и керосиновой лампой ткнул в сумрак. Не улыбающийся карлик, не шакалы, жрущие падаль, – в чулане сидела кухарка Шура. Нечеловеческое выражение лица повергло в ужас. Меж толстых ног Шура держала вазу. В руках сжимала на манер дудочки длинную и тонкую кость. Грызла ее, как дети – конфету. Сгрызала соляные наросты. Дюжина костей, вылизанных дочиста, лежала веером перед Шурой. Я выгнал ее, скулящую, взашей. Задним числом понимаю: лишь я один виновен в том, что разум девицы помрачился, но тогда я просто кричал с лестничного пролета: «Уволена! Уволена!» Теням в углах: «Уволены!» «Уволен!» – шороху в подполе.
12 ноября. Кости раздробил в труху на жернове. Вазу утопил в реке. По дороге к Горшину наблюдал, как стая грачей образует в небе лицо.
16 ноября. В мое отсутствие приходил К. Пил коньяк в гостиной, беседовал с сестрой. Августа вышла на минуту, вернувшись, не застала гостя. Тит сказал, он сбежал, сломя голову. Видел, стало быть. Видел, что́ в поместье живет.
30 ноября. Поможет ли? С утра приезжал отец Александр, раньше он учил детей в церковно-приходской школе, был рукоположен во иерея и прислан в храм Рождества Пресвятой Богородицы настоятелем. О. Александр молился и окуривал ладаном комнаты – я настоял, чтобы коровник и конюшню тоже. Сказал: чувствует, в доме было зло, но больше нет. В мастерской и в чулане свечи постоянно гасли.
P. S. Господи, дописать не успел, а оно уже хихикает в коридоре и скрипит половицами.
20 декабря. Попрощался с семьей. Был в Москве, посадил их на поезд. Наташенька не плакала. Обхватила шею сестры и смотрела на меня взрослыми мамиными глазами. «Папка, мы увидимся еще?» «Конечно, – сказала Августа, – и совсем скоро». Я не стал лгать. Поцеловал нежно в родинку над бровью – точно такую же, какая украшала лоб Иды. Поезд тронулся, и я испытал облегчение, будто тяжкий груз свалился с плеч. Чего стоило мне уговорить, убедить сестру, что дома – со мной, с родным отцом! – Наташе не безопасно. Другие давно усвоили: Палашка уволилась неделей раньше, никто к нам в гости больше не приходил, и отец Александр сторонился нас на воскресной службе. Августа повторяла, что не бросит меня. «А дом, – восклицала, – а завод?»
Но пятого дня Августа, страдающая бессонницей, заглянула в детскую, поняла и приняла истину. Наташенька спала в кроватке. У изголовья стояла медная – из грузинского озера – ваза. Через бортики кроватки были перекинуты кости. Пара костей лежала крестом над головой невинной малышки. Но и эту чудовищную картину Августа могла приписать мне, моему извращенному уму и подлейшим попыткам выжить сестру из поместья. Чего не мог я сотворить, так это лицо, болтающееся в воздухе над кроваткой, сотканное из лунного света лицо монаха!
Итак, решили, Августа поживет в Петербурге. Сборы заняли вечность. Я опасался, что приютившиеся на холме силы не позволят моим близким бежать. Заклинит дверь, сломается паровоз… К счастью, страхи не оправдались. Я гулял по Москве, смотрел, как сражаются с бочкой морса половые, ссорятся за клиента извозчики, гарцует на лошадке городовой… и вынашивал план.
В Горшине меня ждал Тит, занятый тенями холодный дом и первая ночь без дочери.
22 декабря. Шел до ветру и в темноте споткнулся о вазу. Кто-то принес ее к моей спальне. Кости зашуршали и защелкали в медной утробе. На этот раз даже не пытался избавиться: ногами затолкал в чулан. Ночью вернулась Шура. Ползала голая по крыше конюшни и выла. Утром нашел на свежем снегу цепочку следов. Карлик все еще в доме.
31 декабря/1 января. Пишу эти строки за столиком в гостиной, слушая, как ненастье хороводит за окнами, снежные плакальщицы стенают и протискиваются в дымоход, и вижу – в данную минуту вижу – коровьего отпрыска, демонического служку. Он не прячется, сидит на лестнице, расплюснув свою харю о балясины, и смотрит на меня, улыбаясь. Поглаживает медный сосуд, тарахтит костями. Его улыбка мерцает в полумраке продрогшего, пустого, выстуженного, бедного моего дома. Как удивительно, на первых страницах дневника ты еще жива, Ида. Комнаты светлы и пригожи, солнце согревает нас. Я вырвал эти страницы – страницы счастья, страницы увядания, смерти и печали, чтобы под обложкой оставалась только новая жизнь, начавшаяся с той проклятой поездки в Тифлис. Другой у меня нет и не будет. Чу! Часы бьют. Наступил девяносто восьмой год.
5 января. Думал поджечь дом и пустить в мозг пулю, но я обещал тебе, Ида, и даже на этом пепелище, на руинах, в аду сдержу обещание.
P. S. Кулаки зудят. Действую.
9 января. Не иначе молитвы прорвались сквозь свинцовые тучи к Господу Богу. Мы убили карлика. Ночью зазвенели колокольцы, Тит, переместившийся в гостиную, был начеку. Один из капканов сработал, гнусная тварь извивалась в стальных челюстях и мяукала по-кошачьи жалобно. Тит приставил к голове беса берданку и покончил с богопротивным существованием. Тело обратилось в груду дождевых червей, нами растоптанную. Празднуем коньяком.
10 января. Гибель коровьего отпрыска разгневала джинна. Его лицо вылезло из лепнины потолка да так и торчит там, пуча глазищи. Дьявол никуда не спешит, он умеет ждать обещанного. Мою душу, душу моей дочурки. «Она вернется, – нашептывают сквозняки, – рано или поздно она будет моей». Столетиями он спал на дне высохшего озера и…
Постойте-ка. А что если…
…разобрали кирпичи, и я опустил вазу в нишу. Затем мы замуровали стену. Выйдя из подвала, увидели, что буря прекратилась. Добрый знак. Неужели все завершилось? Неужели я пробудился от кошмара?
10 февраля. Теперь можно написать: зло побеждено. Дом очищен от скверны. Это не воскресит Зинаиду, но мертвые должны лежать в могилах и склепах, а живые – притворяться, что рядом с ними не рыскает алчная тьма. Я не зря замуровал кости в подвале, превратил дом в темницу – я должен наблюдать, быть стражем до последнего удара сердца, я должен знать, что оно не вернется. Там, внизу, плененное человеческой волей и Божьим промыслом немыслимое существо, и горе мне, если когда-нибудь я усомнюсь в том, что это было на самом деле.
Назад: Паша (9)
Дальше: Марина (11)

