Марина (10)
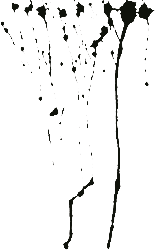
Произошедшее в столовой обсуждали все: и дети, и педагоги. История, как капустный кочан, укутывалась листьями сенсационных небылиц. Самую странную сплетню озвучила англичанка Аполлонова.
– Моя кума работает в амбулатории, – сказала она, – врачи говорят, племянница Тамары незадолго до освобождения родила.
Учительская ахнула и зашепталась.
– Ее матка расширена, наружный зев открыт, идет молоко…
– Ерунда, – возмутилась Лариса Сергеевна Самотина, – они жили от нас через забор, я встречала несчастную девочку в сентябре. Никакого живота не было.
– Хорошие соседи, – окрысилась вдруг Аполлонова, – под боком девушку пытали, так вы не слышали.
– Не слышала! – Самотина хлопнула тетрадками по столу.
– А про беременность вы, с вашей внимательностью, прямо уверены!
– Конечно, уверена! Лиля летом во дворе загорала в купальнике. Я что, не поняла бы, носит она ребенка или нет?
– Да уж, Александра Михайловна, – поддержала Самотину Кузнецова, – глупости ваша кума говорит, а вы глупости повторяете. Не плодили бы слухов, а то до школьников, упаси бог, дойдет.
Аполлонова кудахтала гневно, настаивала на своем.
– Нет, ну вы вдумайтесь! – в коридоре сказала Марине Самотина. – За неполный месяц, значит, у девочки вырос живот, и сразу родила, так получается?
– Действительно глупости, – сказала Марина.
На следующий день она увидела Самотину подавленную, сбитую с толка.
– Что случилось, Лариса Сергеевна?
– Ох, Марина. Одно с другим не сходится. Полиция утром приезжала. Спрашивала, не могла ли Лиля быть беременной.
– А почему им у самой Лили не узнать?
– Она не разговаривает. Не реагирует на расспросы. Я говорю следователю: в августе живот у нее был плоским, это точно. Я еще любовалась через забор, думала, что и я такой стройной была когда-то. Нет, к ноябрю она, конечно, и могла ходить на четвертом месяце, но чтобы родить? Чушь!
– И что полиция?
– Двор Тамары перекапывают. Трупик ребеночка ищут. Ну чушь же, чушь!
Никакого ребеночка полиция во дворе не нашла, и Самотина успокоилась. Сестрам Зайцевым сняли швы. За героем Прокопьевым активно увивались незамужние коллеги.
А Марина существовала между школой и общежитием, и ноябрь слился в один длинный хлопотный день.
Осень заканчивалась. Но у осени еще имелись в загашнике сюрпризы для молодой учительницы.
В пятницу после уроков она схлестнулась с отцом девятиклассника Ерцова. Жилистый мужик в лыжной шапке, в дубленке, вошел, пачкая песком и снегом свежевымытый паркет. От него за километр веяло луком и раздражением.
– Позвольте узнать, Марина…
– Фаликовна.
– Я давайте просто по имени, я вас старше лет на двадцать. Марина, за что вы невзлюбили моего Игоря?
– У меня к вашему Игорю нет никакой нелюбви. Я ко всем ученикам отношусь одинаково.
– По его дневнику так не скажешь.
– Простите, но Игорь к моим урокам не готовится совершенно. Шумит, огрызается. Сегодня пришлось их с Татаровой рассаживать – так они внеурочными делами увлеклись.
– Ну, допустим, у них с Татаровой любовь.
Марина искренне удивилась:
– А я тут при чем? Если Татарова не против, если ее родители – за, пятнадцать лет, самое время, мало, что ли, беременных школьниц по стране?
В памяти прошмыгнули истории про племянницу вахтерши.
– Это, в конце концов, забота их классного руководителя, – продолжала Марина, стараясь не дышать луковым запахом визитера, – но на своих уроках я требую порядка.
Ерцов не унимался:
– Если Игорь такой плохой…
– Я не говорила!
– …почему на других предметах он ведет себя тихо?
– Кто сказал «тихо»? Пойдите по учителям! Спросите Ольгу Викторовну, что он творил на истории.
– Ольга Викторовна мать Игоря вызвала, рассказала.
– Ну вот!
– И вы бы вызвали. Двойку ставить зачем? Аттестат запороть хотите?
– Впереди шесть месяцев, чтобы исправить все двойки.
Ерцов уселся на край парты и хрустнул кулаками. С его ботинок текло.
– Марина, послушай меня. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Моему сыну литература даром не сдалась. Стишки ваши, – он кивнул на портрет Маяковского. – Какой в них смысл? Он – ребенок, ему гулять надо, свежим воздухом дышать. А не гнить над этими вашими классиками.
От наглости Ерцова Марина онемела. Слова застряли в глотке.
– Я эту хрестоматию полистал – пригодится оно кому-то в жизни? Тебе многое твой Пушкин дал? Деньги, может любовь?
Он повысил голос, казалось, вся школа слышит. Наслаждался смятением зеленой девчонки. Дверь открылась: «спасение!» – тукнулась надежда и сразу умерла. В кабинет заглянула Каракуц.
«Вдвоем, – подумала Марина, – они меня раздавят. Запла́чу, не выдержу».
– Это что такое? – нахмурилась завуч.
– Да вот, Татьяна Сергеевна, на философские темы общаемся.
– Встать с парты! – скомандовала Каракуц. – Вы что себе позволяете?
– Я… – Ерцов стушевался.
– Вас ноги вытирать не учили?
– Извините, тут подошвы…
– Вы что же, учителям «тыкаете»?
– Мы с Мариной…
– С Мариной Фаликовной, – почти не разжимая губ, прошелестела Каракуц. Марина, остолбенев от неожиданности, наблюдала.
– Да, с Мариной Фаликовной. – Ерцов, словно кролик перед удавом, замер перед завучем.
– Доложила вам Марина Фаликовна про поведение Игоря?
– Доложила.
– Действуйте. Времени в обрез. Не поменяется – на второй год пойдет. А по поводу домашнего задания: я на каждый урок литературы буду приходить и проверять. Чтоб у него от зубов отскакивало. Ясно?
– Да, конечно. Мы с матерью уже работаем.
– До свидания. – Каракуц подвинулась, показывая папаше выход.
– До свидания, Татьяна Сергеевна. До свидания, Марина… Фаликовна.
Ерцов ушел. Каракуц осмотрела, кривясь, лужицы.
– Двоечник. Девять лет стулья протирал. Плешь проел. Таблицу умножения так и не выучил. А нынче с сынком его носимся, с писаной торбой.
– Спасибо, Татьяна Сергеевна. – Марина чувствовала, как трансформируется за минуту ее отношение к завучу. Кто бы предположил, что Каракуц примет ее сторону, защитит от хама?
– Окна откройте, освежите кабинет. – Завуч повернулась к Марине тяжелым задом. – Макаренко бил их, собак. Неучей. Так и писал в «Поэме»: избил и не жалею. Человечище.
Люба Кострова пошатывалась от смеха, слушая Марину.
– Вот это да! Каракурт встала на сторону добра.
– Мне бы так. Резко, по делу. Не сюсюкаться.
– Это нужно – к хамам привыкнуть. Радости мало.
В понедельник Люба отмечала день рождения. Марина пришла пораньше, помочь сооружать бутерброды. В кабинете Люба сервировала стол, ее дочурка очищала от кожуры бананы.
– Поздравляю, милая. – Марина обняла подругу. – Пока никого нет, хочу вручить подарки. Очень скромные.
Она выставила на стол домашнее вино – от дедушки, домашний, бабушкин, мед и завернутую в бумагу фотографию.
– Это для музея.
Люба развернула упаковку и присвистнула.
Черно-белое фото в рамке запечатлело двухэтажное здание с ризалитами и стоящего у крыльца, опирающегося на трость господина.
– Это же поместье Стопфольдов! – воскликнула Люба. – И… неужели сам Георгий Генрихович?
– Собственной персоной, – сказала Марина. Настя приподнялась на цыпочки посмотреть снимок.
– Кто этот, мам?
– Хозяин особняка, находившегося на месте нашей школы.
– Похож на Марину Фаликовну.
– И правда, – рассмеялась Люба. – Откуда у тебя эта фотография?
– Из семейного архива.
– В каком смысле?
– В таком, – сказала Марина, поглаживая Настю по волосам, – что Стопфольд – мой прапрадед.
– Быть не может, – охнула Люба.
– Три поколения моих предков жило на этом холме. В восемьсот седьмом Августа Стопфольд переехала в Петербург, забрав с собой единственную дочь брата, племянницу Наталью. Мою прабабушку. Наталья Георгиевна умерла в сорок третьем. Ее дочь сменила фамилию.
– Ты – Стопфольд?
– Каюсь.
– И ты молчала? Скрывала от своих подруг?
– Стеснялась слегка. И боялась, что мне не поверят, сочтут выдумщицей. Человек с фамилией «Крамер» – потомок коллежского асессора. Звучит смешно.
– Марина Фаликовна, – спросила Настя, – вы – дворянка?
– Ага, немного. Только, девочки, это между нами. А то начнут обсуждать. Я уже привыкла к прозвищу «Шариковна», не хочу иных.
– Ваше высокоблагородие, – поклонилась Люба, – как скажете.
Любу надолго не хватило. В последний день осени к Марине забежала негодующая Кузнецова.
– Ну спасибо, подруга! Мне, учителю истории, не призналась!
– Ольга Викторовна, что мне, при знакомстве уточнять: «родовая дворянка»?
– Естественно! Чтобы помнили. Чтобы если Каракуц решит снова выпендриваться, ротик ее пролетарский захлопнуть.
– Какая тут аристократия, – усмехнулась Марина, – бабушка всю жизнь проработала в продуктовом. Дед – водитель.
– А профиль-то! Профиль, кожа, глазища. Нет, происхождение не скрыть.
Марина отшучивалась, краснея. Кузнецова вытащила из сумки тетрадь в светло-коричневой кожаной обложке.
– Это тебе.
– Что это? – Марина открыла тетрадку. Пожелтевшие страницы испещрили тесные строчки. Написано чернилами, кое-где поплывшими, летящим разборчивым почерком. Палец Марины скользнул по бублику буквы «о», по «ятям» и отмененным «i».
– Дневник Георгия Стопфольда, – торжественно сказала Кузнецова.
– Откуда? – изумленно спросила Марина.
– Мама нашла его в подвале, когда старое здание сносили. Среди книг. Неплохо сохранился, а?
– Превосходно. – Марину заворожили чернильные витки, кляксы на полях.
– Дарю.
– А почему он не в музее? – Марина оторвалась от дневника.
– Мама не желала его обнародовать. Спрятала на антресоли. Говорила: мы многим обязаны Георгию Стопфольду. Он приютил нас в своих стенах. А дневник… видишь, первая половина страниц вырвана. То, что осталось, – последний год жизни. Прочитав его, мама решила, что это – фантастическая повесть, написанная от лица Стопфольда. Но это – хроника безумия человека, не справившегося с потерей жены.
– Я знала, – произнесла Марина, – что Стопфольд перед смертью впал в депрессию.
– Он сошел с ума, – сказала Ольга Викторовна. – Он считал, что замуровал в подвале демона.
Назад: Костров (8)
Дальше: Паша (9)

