Книга: Христианство. Три тысячи лет
Назад: Часть V Православие: имперская вера (451–1800)
Дальше: 14. Православие: более чем империя (900–1700)
13. Вера в Новом Риме (451–900)
Храм, придавший форму православию: Святая София
У епископов Рима две харизмы: одна происходит от гробницы Святого Петра, вторая – от столь же долго сохраняющейся очарованности Европы могуществом и цивилизацией Рима. Постепенно в результате череды случаев, которые мы проследили с I по XIII век, преемники Петра оживили надежду римских императоров на правление миром и умудрились предотвратить захват монополии на эту монархическую роль в западном христианстве преемниками императора Карла Великого. В Константинополе баланс был другим. Епископ новоучрежденной кафедры этого города извлек пользу из благоприятного стечения политических обстоятельств на Константинопольском соборе 381 года (см. с. 242), чтобы приобрести «первенство чести после епископа Рима, потому что Константинополь есть новый Рим», тем временем как его церковь приложила все старания к тому, чтобы превзойти Рим в аполитичности, объявив себя основанной первозванным из апостолов Христа – Андреем. Даже по раннехристианским меркам это был невероятный домысел, и Андрей на самом деле так никогда и не сыграл какой-то заметной роли для своих предполагаемых преемников во епископстве – патриархов константинопольских. Вместо этого византийские императоры и идеал христианского правления, который они представляли, стали специфической жизненной силой в церквах, впоследствии известных как православные, – даже много позже того, как в 1453 году последний император погиб, защищая Константинополь.
Православное христианство гордится своей верностью преданию: в величественном круге пронизанного тканью древней музыки православного богослужения, которое сохраняется неизменным наряду с тщательно выверенной системой жестов и хореографии в окружении живописи, следующей предписанной традиции письма, можно видеть отражение вневременности Небес. Те, кто запечатлевал историю православия, обычно держали в голове его идеальный образ, и перед учеными, стремящимися ее воссоздать, реальная проблема состоит в том, чтобы восстановить подлинные персоналии или события, которые в определенные моменты предлагали альтернативные пути в будущее и, соответственно, были представлены православными историками в черном цвете. Одной из особенностей православной традиции общественного богослужения является то, что оно содержит гимны ненависти к лицам, признанным еретиками, – от Ария через монофизитов и диофизитов к иконоборцам. Взять хотя бы эти строки из 5-й стихиры (гимна) великой вечерни в воскресенье по Вознесении. Празднуя память I Никейского собора, богослужение смачно описывает (со злонамеренным богословским каламбуром) презренную кончину главного никейского злодея в нужнике от фатального поноса:
С кручи греха падает Арий,
зажмурившийся, чтобы не видеть света,
и, как божественным крючком терзаемый,
понуждается опорожниться
и вместе с внутренностями
отдать всю свою сущность [ousia!] и душу,
сделавшись другим Иудой
и по мыслям, и по уделу.
Такое литургическое представление ненависти является дополнительным раздражителем при современных экуменических дискуссиях между восточными христианами, когда оно направлено против любимых святых одной из церквей-участниц, но, вероятно, все-таки предпочтительнее западной практики сожжения еретиков на костре. В Византийской империи было несколько сожжений, и они прекратились вскоре после того, как в XI веке практика сожжений развернулась на Западе, хотя в более позднее время сожжения возобновились в православной Московии – очевидно, прежде всего, благодаря подсказке посланников Священной Римской империи в 1490 году. На самом деле в Православной церкви была долгая традиция сожжения на костре тех, кто критиковал ведущих церковников, хотя эта традиция имеет мало общего (если имеет вообще) с тем, что было в западном католичестве. Когда православные церкви на Востоке и на Балканах оказались в руках турок-оттоманов, преследование еретиков-христиан уже не могло иметь у православных практического применения, но осталось литургическое утверждение того, что есть одна истина в православии, которая в борьбе прокладывала себе путь через череду сатанинских соблазнов к заблуждениям.
Преемственность и неизменность – не одно и то же. Константинопольская церковь и церкви, которые произошли от нее, были преданы имперской политике и политике стран-преемниц империи: ритм их духовности задавали их исторические судьбы. Гибель империи в 1453 году не просто побудила церковь к крепкой приверженности ее сложившейся богословской идентичности при отрицании того, что может или могла быть возможна какая бы то ни было другая. Падение империи привело также церкви, которые избежали гибели, к новому утверждению сакральной монархии на пепелище Византии, и только в конце XX века последний монарх православной страны был изгнан с престола – король Греции, которому посчастливилось носить то же имя, что и первому «православному» монарху, равно как и последнему византийскому монарху: Константин. В посткоммунистических культурах православных стран по-прежнему появляются правители, которые надеются иметь подобную же роль.
Константинопольская Святая София
Православие в заметной степени формировалось вокруг одного-единственного церковного сооружения, куда более значительного, чем даже самые священные места на западе – базилика Святого Петра в Риме и храм Клюнийского аббатства. Это кафедральный собор Святой Премудрости (Hagia Sophia, Айя-София, Святая София) в Константинополе, с которым обошлись лучше, чем с клюнийским храмом, но судьба которого как церкви, обращенной в мечеть, инкапсулирует травмы православной истории. Своей нынешней формой Святая София обязана партнерству латиноязычного мальчика с Балкан и бывшей цирковой артистки, отличавшейся ужасающе гимнастическим сексуальным мастерством: императору Юстиниану I и его супруге Феодоре. Мы уже встречались с этой героической, чтобы не сказать непривлекательной, царственной четой, когда знакомились с историей Западной церкви, а также церквей, отвергших христологическое определение Халкидонского собора 451 года. Еще до того как Юстиниан в 527 году наследовал своему дяде – воину Юстину, уроженцу Балкан, он вместе с дядей мечтал о воссоединении прежней империи посредством двоякой стратегии: богословских переговоров с миафизитскими врагами Халкидонского собора и военных захватов на Востоке и на Западе.
Юстиниан и Феодора были последними вплоть до британской королевы Виктории в XIX веке христианскими монархами, которые обладали влиянием во всех частях христианского мира своей эпохи, и это влияние было намного более личностным и намного менее символическим, нежели у Виктории. Именно Юстиниан председательствовал на Константинопольском соборе 553 года, когда тот осудил богословскую традицию Оригена, стремился усилить церковное отвержение диофизитов и по ходу дела унизил папу Вигилия (см. с. 233 и 354–355); именно Феодора предоставила свое покровительство тем, кто тайно формировал миафизитскую церковную иерархию для конфронтации с халкидонитами (см. с. 261–262). Насколько колоритными были биографии этих супругов, едва ли можно представить себе, созерцая в императорском храме Сан-Витале в Равенне их мозаичные портреты как величественных вселенских правителей, где они, стоящие в благоговейном окружении своего духовенства и двора, в нарушение иконографических традиций представлены в алтарной части храма. Их колорит раскрывается в необычных по неоднозначности оценок трудах придворного историка Прокопия. Уравновешивая свое красноречивое прославление публичных достижений императора и построенных им зданий, Прокопий изливает свое разочарование собственным подобострастием и украдкой вписывает в свое повествование также ядовитое осуждение Юстиниана и Феодоры в виде пересказа тех же событий, основанного на сплетнях, – «Тайной истории», новое открытие которой в XVII веке ватиканским папским библиотекарем существенно увеличило возможности исторического познания этого периода.
Юстиниан начал перестраивать Святую Софию после подавления восстания, чуть не положившего конец его правлению всего через пять лет после восшествия на престол. Расточительство Юстиниана и постоянное активное ведение им войн на границах, а также попутный сбор налогов, чтобы все это оплачивать, направили против него гнев активных граждан Константинополя. В 532 году две группировки спортивных болельщиков, именовавшиеся «зелеными» и «голубыми», которые играли ведущую роль в городской политике, поскольку организовывали публичные мероприятия на столичном стадионе – ипподроме, приостановили свое обычное соперничество в стремлении свергнуть Юстиниана, выдвинув одного из его племянников в качестве претендента на императорскую власть. Пока они поджигали важнейшие здания, крики толпы «Победа!» (Nika) наполнили город. Прокопий утверждает, что среди пламени и паники только холодное заявление Феодоры, обращенное к мужу – «Царство – это красивый погребальный саван», – успокоило Юстиниана, заставило его вернуться в город, откуда он бежал, и, направив войска на подавление восстания Ника, перекрыть повстанцам пути к установлению ими контроля над городом. Перед потрясенным императором многие части города лежали в руинах, в том числе и двухсотлетняя базилика Святой Софии рядом с ипподромом и дворцом.
В Юстиниане открылась страсть к строительству. Немедленно он отдал своему архитектору распоряжение уничтожить остов старого храма. То, что его заменит, будет служить кафедральным собором города и символом единства империи Юстиниана, а также, возвышаясь над ипподромом, станет вечным предупреждением для будущих непокорных толп. Полностью проект был завершен всего лишь через пять лет, и новый храм, который тогда же и был освящен, превзошел все прежние образцы. Он не унаследовал базиликального плана церкви, стоявшей на этом месте, и продемонстрировал ту черту имперской архитектуры, которая ранее редко оказывалась чем-то бо́льшим, нежели вспомогательным элементом в христианских сооружениях: купол – воссоздание сени Небес. Со времен Константина купола использовались в качестве крыш круглых и концентрических в плане христианских зданий, которые говорили прежде всего о пути на Небеса в смерти, – храмов-мавзолеев для погребения известных людей или баптистериев, свидетельствовавших о смерти христианина для греха (см. с. 319). Здесь же цель была другой: создать пространство, где соберутся император, патриарх и народ, – пространство, которое ощущается так, как если бы оно охватывало длинную ось традиционной базилики, проходящую между восточной и западной сторонами света. Это ощущение достигалось благодаря куполу поразительной ширины и высоты, в своем основании пронизанному рядом окон, через которые лучи света проникали в нижнее пространство храма: этот купол казался как бы парящим на двух конхах (полукуполах), находящихся с восточной и западной сторон. Престол на востоке находился за их пределами в полукруглом в плане (апсидном) святилище: эту апсиду увенчивала еще одна конха. Поэт VI века Павел Силенциарий попытался уловить этот эффект: это «огромный шлем, нависающий со всех сторон, подобно светозарному небу… подобно тверди, почивающей на воздухе».
Стихотворение Павла, на самом деле, относилось к недавней реставрации Святой Софии после повреждений от землетрясения; купол частично разрушился вновь в 1346 году. Немногие храмы могли бы состязаться с ее дерзкой и сложной архитектурной формой; ни одна из многих других церквей, построенных или перестроенных Юстинианом, не следовала ее образцу полностью. Новизна Святой Софии состояла в развитии центрального купола как ведущего мотива в имперской церкви Востока и в тех церквах, которые позже стремились отождествлять себя с этой традицией. Более того, следуя прецеденту Святой Софии, купол стал в исламской архитектуре главной особенностью мечетей, с тех пор как они сделались в большинстве своем помещениями под крышей, а не открытыми дворами. Когда купол использовался в других восточных церковных сооружениях, он в основном появлялся, как в более ранних христианских зданиях, в середине центрированного плана, а теперь он обычно возвышался на центром равностороннего креста – греческого креста. Такая планировка храмов могла вполне использоваться и совсем маленькими общинами, вроде сельских приходов и небольших монастырей, где она все равно производит впечатление небесного величия. На значительно более поздней стадии развития преграда, именуемая иконостасом, по обычаю закрывала алтарь (см. с. 523–525), но это не соответствовало тому, какими задумывались первоначально такие храмовые интерьеры и какими они были в течение пяти или более веков после Юстиниана.
Нигде сочетание православных архитектуры, искусства и богослужения не представали взору так ярко, как в Святой Софии, которую зачастую называли просто «Великой церковью», хотя ее нынешнее весьма печальное внутреннее состояние не дает представлений ни о ее первоначальном воплощении, ни о щедрой заботе о ней в пору ее дальнейшего использования в качестве мечети. В 612 году патриарх Сергий распорядился урезать штат и церемониал собора, казавшиеся избыточными: уменьшенный штат, который он разрешил, составлял 80 священников, 150 диаконов, 40 диаконисс, 70 иподиаконов, 160 чтецов, 25 певчих и 100 придверников. За пределами этого чудовищного воинства сакральных придворных верующие могли видеть над собой Небо в куполах и конхах. Изображения, которые в первоначальном декоре Святой Софии были относительно простыми, со временем становились более и более сложными. Взиравшие на купол, который высился над собранием, видели образ Христа Вседержителя (Пантократора) – Судию во славе. Они могли также смотреть на восток, на тот стол, где освящались хлеб и вино, над которыми возвышался образ Матери Христа, по обычаю с ее младенцем-Сыном – воплотившимся Богом. Вокруг этих изображений восседающего на престоле и воплощенного Божества были другие фигуративные изображения (мозаики или настенные росписи) по схемам, которые постепенно фиксировались в православии не только в плане порядка элементов, но и в плане содержания, и все они задумывались как отражения своих первообразов, подобно тому как тот или иной предмет может быть отражением платонической формы. Пояса изображений, представлявших правителей, святых, духовенство, которые все находились в иерархических, хотя и близких отношениях с Богом и Богородицей (Theotokos) Марией, служили для собравшихся и взиравших на них верующих постоянной гарантией того, что Бог в своей милости позволяет людям такую близость.
Литургический смысл архитектуры и оформления храмов
Интересно, что порядок святых в интерьерах византийских храмов не особо отражает смену времен христианского литургического года: вместо этого святые имеют тенденцию группироваться по чинам (категориям), таким как мученики или девы. Церковный год – Рождество Христово, Пасха, Вознесение – рассказывает историю, которая линейным порядком продвигается от месяца к месяцу, концентрируя внимание на жизни Христа, и в которую вкропляются дни воспоминания определенных исторических событий в житиях святых. Евхаристия по контрасту вневременна, она отражает вечность Небес. Именно эту вневременность характерным образом воплощают художественные программы православных церквей: единственная точка, которая указывается над алтарем, – конец времен, когда Христос воцарится во славе, момент, которому причастно всякое совершение Евхаристии. Восточные собрания не развивали подхода, свойственного каролингскому Западу, в соответствии с которым Евхаристия – это что-то подлежащее приватизации, направляющее свою мощь на определенные цели и интенции, а потому сводимое до сокращенной читанной формы (см. с. 385–386). На Востоке богослужение совершалось потому, что его нужно было совершать, – даже в самые худшие периоды православной истории не стоял вопрос, что церковь способна это делать. Более того, с самых ранних времен восточные христиане, похоже, пришли к заключению, что для молящихся достаточно присутствовать при совершении Евхаристии, не причащаясь. Это, вероятно, явилось мерой того страха, который был связан с опытом вкушения Тела и Крови Христа, как понималась Евхаристия. Причащение мирян стало крайне случайным опытом (возможно, только раз в год) намного раньше, чем на Западе. И в самом деле, уже в конце IV века Амвросий Медиоланский писал о своем неодобрении этого восточного обычая.
Особенности византийского богослужения
Упорядоченное богослужение было средством освящения, которого мог достичь каждый под защитой огромного шлема купола над головой. Богослужебное пение имитировало музыку Небес, где пели ангелы, сливаясь в едином хоре с молящимися, и многое из литургической музыки предназначалось для процессий, где пели все участники. Традиция допускала только голос, без сопровождения музыкальных инструментов – в противоположность постепенному принятию инструментов на средневековом латинском Западе, как и в далекой Эфиопской церкви. Поющие собрания шествовали в направлении святости, охраняемые фиксированным обликом богослужения, соединившись в процессиях, которые царили не только над драмой Церкви, но и над повседневной жизнью на улицах Константинополя. Моменты вхождения и принятия в священные ограды были особо важными даже для самого императора, а целью оказывалась драма Евхаристии на престоле Божьем. Музыка, которая начинала свою жизнь в процессиях, могла заканчиваться в совсем другом контексте. Например, самое популярное из восточных петых возглашений Трисвятое [Trisagion] (см. с. 264–265), как утверждают, первоначально (в середине V века) было придумано каким-то мальчиком как комментарий на покаянный псалом, который он пел во время молитвенной процессии об избавлении от продолжения сильных земных толчков. Успех в усмирении землетрясения обеспечил глубокое укоренение этого песнопения в богослужении и в сознании восточных христиан далеко за пределами Византии.
Богослужение в православном стиле подтолкнуло сначала монахов, а затем и мирян за пределами монастырей к идее, которая на века стала основополагающей для православной христианской духовности: соединение с Божеством, или theosis (ошеломляюще для человечества и тревожно для многих западных христиан, это слово может быть переведено как «обо́жение»). Эта концепция, похоже, уводила верующего-христианина совсем в ином направлении, нежели западное Августиново суждение о великой пропасти между Богом и человечеством, созданной первородным грехом. Она утверждала, что человеческое общество может быть освящено через служение и литургию Церкви, а также через медитации тех, кто готов начать столь тяжкий и искусительный труд. Юстиниан своей основной программой строительства в столице Святой Софии и создания постоянного круга священных церемоний вокруг нее добивался того, чтобы сделать себя и императорский двор центром внимания общества, где вся публичная деятельность, которая когда-то была частью нехристианской структуры империи, теперь становилась святой и посвященной служению Богу.
Юридические реформы и военные кампании Юстиниана
Первый крупный проект Юстинианова правления – кодификация императорских правовых решений, накопившихся за полтысячелетия, – может сначала показаться далеким от замысла сакрализации византийского общества, но своды законов и их сокращения, сделанные Юстинианом, были сознательным приданием христианской формы имперскому юридическому наследию, значительно более осмысленным в этом плане, чем прежняя гармонизация римского права христианским императором Феодосием II в IV веке. Эта кодификация стала одной из самых долговременных сфер Юстинианова наследия. На Западе она была утрачена с падением самой империи на несколько веков, но ее новое открытие в XI веке сыграло значительную роль как в переустройстве общества в ходе Григорианских реформ, так и в создании первых христианских университетов (см. с. 431–432 и 454), а также составило основу большинства западных правовых систем, появившихся позже. Кроме того, кодификация оставалась основанием восточной имперской юстиции вплоть до падения Византийской империи в 1453 году, но выжить смогла благодаря незамедлительному переводу на греческий язык.
В империи преемников Юстиниана у латыни не было будущего, ибо в Восточном Средиземноморье она всегда была лишь языком захватчиков, привнесенным колониальными администраторами с Запада. Народ Византии продолжал называть себя «римлянами» (и именно поэтому арабы называли их и их родину Малую Азию «Rhum»), но они произносили это по-гречески: «ромеи» (Rhomaioi). Они утратили также способность наслаждаться латинской литературой до той поры, пока много позже – в XIII веке, в эпоху возобновившихся контактов – не обнаружили новые греческие переводы латинской поэзии и философии и не стали их читать. Стремление отфильтровать из Нового Рима то, что было римским или нехристианским, стало одним из необратимых последствий правления Юстиниана: через полтора столетия после его смерти, наступившей в 565 году, для общества в Восточной Римской империи была создана новая идентичность, которую можно характеризовать как византийскую.
Потеря контроля над ситуацией
Не только военные кампании Юстиниана в Италии и Северной Африке способствовали разрушению традиционного римского общества: но также было подорвано многое из того, что оставалось от прошлого на Востоке. В 529 году император закрыл Афинскую академию, которая в золотые дни «второй софистической школы» на пике римской имперской самоуверенности (см. с. 162–163) стала эффектным воссозданием древней Академии Аристотеля, где по-прежнему поддерживались платоновские традиции. Кроме того, именно в период правления Юстиниана, в 550–551 годах, был закрыт другой институт высшего образования – в Берите (Бейруте), после того как сильное землетрясение разрушило город. Только Александрия оставалась центром древней нехристианской учености вплоть до мусульманского завоевания. С такими потерями образование все больше становилось достоянием христианского духовенства и отражало его приоритеты. Книги были редкостью, и всё более распространенным становился новый вид книг – florilegia, это были собрания коротких фрагментов из полных трудов, которые служили введениями в тот или иной предмет, особенно в религию. Обычно их составляли по какому-то определенному плану. Процветал и другой тип книг: по образцу жития Антония Египетского (см. с. 228–229) агиографическая литература (биографии святых, а также чудеса, сотворенные ими или связанные с их гробницами) стала основным чтивом византийцев.
Это было вполне естественно. Мир ощущал себя все больше лишенным человеческого контроля, и наилучшая надежда, казалось, обнаруживалась в узенькой трещинке между Небом и землей со священными местами и святыми людьми. В конце VI века Византийская империя усиливала оборону на всех фронтах, что сопровождалось огромными потерями в Западном Средиземноморье завоеванных Юстинианом земель и захватами территорий империи на Балканах славянами и аварами. В 613 году персидская армия расположилась лагерем на противоположном от Константинополя берегу Босфора, так что ее было видно из города, а затем его осадили объединенные силы аваров, славян и персов. В отсутствие императора Ираклия, находившегося в военном походе, патриарх созвал все население города для процессии с несением икон. Рассказывают, что во время осады видели покровительствующую защитникам города женщину, которую отождествили с самой Девой Марией: это стало важным стимулом для уже существовавшего культа Богородицы в восточных церквах.
Император Ираклий и мусульманские захватчики
Ираклий, один из величайших, пусть и часто осуждаемых героев всей византийской истории, смело выступив против этих усиливавшихся военных угроз, совершил чрезвычайные подвиги, и его воцарение в 610 году знаменовало начало императорской династии, которой суждено было править на протяжении всего VII века. Тем не менее случилась одна страшная беда: будучи полностью занят разгромом своих врагов на востоке и на западе, Ираклий недооценил мощь новых захватчиков на юге – мусульман-арабов. После поражения византийской армии в 636 году все южные провинции, включая Иерусалим, были вскоре потеряны. На самом деле был шестилетний период времени, когда император Констант II, отчаявшись защитить свои западные провинции, оставил Константинополь и вместе со своим двором бежал на Сицилию, а в 668 году пал жертвой заговора своих придворных, приведенных в ярость его решительными попытками обезопасить государственные доходы и явным желанием делать это постоянно: впоследствии его имя подверглось поношению и было сокращено до «Константа» вместо его крещального имени «Константин».
Византийская империя сопротивляется арабам
Наследники Ираклия продолжили его борьбу против завоевания империи арабами. В 678 году Константин IV выбил мусульманские войска из самого Константинополя, спасенный его внушительными стенами и страшной горючей смесью, известной под названием «греческий огонь» (настоящее византийское секретное оружие – ее состав всегда успешно хранился в секрете), уничтожил арабские корабли. Хотя с высоты нашего времени мы можем усматривать в этой византийской победе решительный поворот, на столетия блокировавший продвижение мусульман в Европу, в те времена не было никаких оснований для успокоения. Бедствия непрестанных войн осложнялись продолжительной естественной катастрофой: начиная с 540-х годов эпидемия чумы стала распространяться по всей империи и за ее пределами, постоянно возобновляясь вплоть до VIII века. Население сокращалось (включая и жителей самого Константинополя), и общий результат этой эпидемии по-прежнему можно видеть в Сирии, которая до того была регионом постоянно развивающейся кипучей городской цивилизации: города один за другим полностью вымирали, и впоследствии в них уже никто не возвращался, так что остались скопления руин среди полупустыни, которые можно наблюдать до сего дня. Да и сам Константинополь стал городом развалин, превратившись в призрак своей прежней сущности. Это ослабление и византийского, и сасанидского общества чумой могло быть еще одной причиной того, почему арабам оказалось так легко овладеть столь огромными территориями могущественных империй. Археологи отмечали ощутимое сокращение числа монет, обнаруженных в находках, которые датируются периодом примерно между 650 и 800 годом: экономическая активность, повидимому, иссякла. По всему Средиземноморью общество оказалось в руинах. Неудивительно, что Византия жаждала почтительно слушать тех, кто стремился приблизить ее к ее Богу.
Византийская духовность: Максим и мистическая традиция
В таких условиях сохранение византийской культуры в империи все больше становилось делом одного сильного и расширяющегося института вне императорского двора. Как и в расколотых королевствах Запада, монастыри становились хранилищами и фабриками учености, а также бастионами вмешательства в политику империи. Имперская церковь все чаще избирала в епископы монахов. Не было христианских эквивалентов Афинской академии и школ богословия, подобной той, которую император Зинон изгнал из Эдессы в 489 году (см. с. 271). Итак, не было ничего, кроме монастыря, чтобы научиться, как защищать веру, или обсуждать с духовными мужами, как проводить пастырское попечение. В V веке несколько выдающихся церковных историков создали словесные портреты ряда великих защитников никейского и халкидонского православия. Среди последних выдающимися фигурами были такие монахи, как Василий Кесарийский или даже представитель Запада Мартин Турский, который проложил мост через пропасть, казавшуюся на заре монашества непреодолимой, соединив монашеское и епископское призвания. В результате к XI веку на Востоке стало повсеместным обычаем, что епископы должны быть монахами, и это так и осталось в православии. Этот обычай породил два пути для православного духовенства, ибо – в полном контрасте со средневековым Западом – клирики, не желавшие слышать призыва к монашеству или епископству, обычно продолжали следовать практике ранней церкви: они были женаты, имели семьи и служили мирянам в своих местных храмах.
Община сенатора Студия
Ко времени Юстиниана некоторые важнейшие монастыри пользовались славой на всем имперском Востоке. Первые христианские императоры не одобряли строительства монастырей в столице, но этот обычай был нарушен в середине V века богатым сенатором Студием, который на свои деньги построил монастырь в своем собственном имении в черте городских стен. Студийская община, благодаря тому, что она владела головой Иоанна Крестителя, почти тысячу лет проявляла себя как решающая сила в жизни Константинополя. Кроме того, в границах империи, в землях, которые вскоре будут завоеваны арабами-мусульманами, двум наиболее значительным ранним монастырям удалось выжить во всех бедствиях позднейшей истории и дожить до сего дня. Монастырь Святого Саввы под Иерусалимом был со времени своего основания в 480-х годах большой общиной («Великой лаврой») в окружении многочисленных дочерних обителей. Его основатель Савва, монах из Каппадокии, умер в правление Юстиниана в возрасте за девяносто. Более отдаленным и древним был монастырь Святой Екатерины на горе Синай – обширный бенефициарий любви Юстиниана к церковному строительству. Помимо массивных гранитных стен монастыря благодаря сухому климату сохранились удивительные деревянные образцы: монументальные врата храма, относящиеся ко времени Юстиниана, а также под более поздними панелями скрываются сохранившиеся в своем изначальном положении брусья крыши, на которых начертаны памятные надписи о щедрости императора и его латентно миафизитской императрицы Феодоры в деле обновления и укрепления этого важного православного монастыря.
Иоанн Лествичник и его «Лествица»
В отчаянно тревожный период, последовавший за правлением Юстиниана, некоторые значительные монашествующие авторы, не особо известные или ценимые на Западе вплоть до Нового времени, создали ту духовность, которая отличает православный мир. В монастыре Святой Екатерины жил один из тех, кто сыграл наиболее заметную роль в оформлении византийского монашества, – настоятель этой обители Иоанн Лествичник (tis Klimakos), прозванный так по названию созданного им труда по духовности: «Лествица (т. е. лестница) духовного восхождения». Лествичник был фигурой неясной, как западный святой Бенедикт, который, возможно (поскольку мало определенного известно о них обоих), был почти его современником: оба, видимо, жили в VI веке. Подобно Бенедикту, Лествичник известен только благодаря своему письменному труду, являющемуся не монашеским уставом, как у Бенедикта, а собранием речений, задуманным как руководство для монахов. Представленная в нем метафора совершенствования аскетической жизни по ступеням своего рода лестницы характерна для христианской мистики как на Востоке, так и на Западе. Многие мистики в разные времена говорили и писали об импульсе, задающем движение к цели и побуждающем идти вперед, даже если на взгляд мирского человека такие подвижники кажутся погруженными в покой и неподвижность. Покой может быть целью, но на пути к нему всегда нужно приложить огромные усилия.
«Лествица» многое извлекает из прошлого. Это еще одна черта мистических писаний, которые постоянно собирают отзвуки старых текстов, едва ли знакомых автору напрямую (тогда как в отдельных случаях одни и те же мистические темы возникают независимо друг от друга в самых разных собраниях). Тексты Лествичника созвучны речениям египетских аскетов, в том числе Евагрия Понтийского (см. с. 233–234), на том этапе еще не осужденным как еретические, у которого Лествичник заимствует концепцию того, что обозначается словом apatheia – бесстрастие или спокойствие как одна из основных ступеней лестницы, возводящей к единению с Божеством в theosis’е. В творении Иоанна Лествичника, которое очень личное, присутствуют острая проницательность и даже юмор. Одна из наиболее оригинальных его тем, много раз повторявшаяся позже, – парадоксальное настойчивое утверждение, что плач есть начало христианской божественной радости: «Изумляюсь тому, каким образом плач [penthos] и так называемая печаль заключают в себе радость и веселие, как мед заключается в соте». В православных монастырях по сей день сохраняется обычай последовательного чтения «Лествицы» за трапезами Великим постом.
Максим Исповедник
В следующем поколении другой монах придал православной духовности еще более устойчивую форму. Максим (около 580–662), известный как «Исповедник», из-за страданий, которые он претерпел в конце своей долгой жизни, защищая халкидонское православие, считается величайшим из богословов византийской традиции. Его творения способны были вести монаха почти во всех аспектах монашеской жизни – в доктрине, в аскетической практике, в культе и в понимании Писания), – и над всем этим царит постоянная для Максима тема единения с Божеством. Подобно Лествичнику, Максим не стремился быть оригинальным: он подтверждал и обогащал весть, полученную из прошлого, но его предпочтения намечали направления для будущего. Одним из его источников был Кирилл Александрийский, в котором он охотно видел твердого защитника богословия касательно природы Христа, впоследствии утвержденного Халкидонским собором, и опять же Оригена и Евагрия, но значительно более осмотрительно, чем это было принято в предыдущем поколении. Однако Максима также интересовал автор, чьи труды ходили под именем одного из новообращенных Павлом Тарсийским в Афинах – Дионисия Ареопагита. Книги этого «Псевдо-Дионисия» на самом деле были, по-видимому, составлены в Сирии лет за восемьдесят до того времени, когда жил Максим, каким-то христианином, увлеченным неоплатонической философией и, более того, по иронии судьбы (если принять во внимание твердое халкидонитство Максима) симпатизировавшим миафизитам. В действительности судьба Псевдо-Дионисия примечательна: он постоянно присутствует в мистических творениях православного христианства, и с IX века, когда его труды были переведены на латынь ирландским философом Иоанном Скотом Эриугеной, становится влиятельным голосом также и в западной латинской мистической традиции.
Дионисий Ареопагит
Дионисий Ареопагит основывался на идеях неоплатоников (см. с. 193–194) в своих размышлениях о том, как может Божество тесно соединиться с человеком, когда тот продвигается через очищение, а затем просвещение к единению. Эти ступени будут обнаруживаться во многих последующих толкованиях мистического христианства намного позже Максима, и их корни в трудах столь сомнительного происхождения являются свидетельством того пути, по которому христианская мистика вышла далеко за рамки границ, старательно очерченных соборами церкви. Богословие Дионисия было неоплатоническим и по своему взгляду на космос как на иерархический ряд: оно рассматривало эту иерархию не как препятствие на пути к Богу, но как средство соединения отдаленности и непостижимости Бога с познаваемой частностью низшего творения, подобно тому как придворные могут быть посредниками, помогающими простым людям приблизиться к монарху. Бога можно познавать совершенно противоположными путями: посредством того, чего о Нем нельзя сказать («апофатический» взгляд на Бога), и посредством того, что о Нем можно утверждать («катафатический» взгляд). Псевдо-Дионисий, как и столь многие авторы мистической традиции, любил пользоваться терминологией, связанной со светом, выражая отношения между непостижимым трансцендентным и теми ярусами бытия, которые представляли постижимое Божество:
[Иерархия] своих причастников творит Божественными подобиями, яснейшими и чистейшими зерцалами, приемлющими в себя лучи светоначального и Богоначального света так, что, исполняясь священным сиянием, им сообщаемым, они сами, наконец, сообразно с Божественным установлением, обильно сообщают оное низшим себя.
Учение Максима Исповедника
Максим жадно впитывал эти темы и прилагал их куда более детально к многоразличным аспектам духовности и культа. Для него обожение (theosis) было направлением человеческого спасения, достижение которого грех Адама в Эдеме поставил под угрозу, но не сделал невозможным: на самом деле, весь космос был создан для того, чтобы достичь обожения. Остинатным басом для медитаций Максима о theosis’е является Логос – слово, которое есть Слово и эхом которого настолько полнится античная философия, что снова откликается эхом в прологе Евангелия от Иоанна и в творениях первых апологетов (см. с. 27–28 и 165–166). Для Максима центральным моментом во всей истории космоса было пришествие Слова во Плоти – единение нетварного и тварного, и именно поэтому последняя половина его жизни была посвящена трагической публичной борьбе за утверждение его собственного халкидонитского понимания того, что это значит. Но в значении Логоса было немало глубин за пределами этого события Воплощения. Божье творение содержало в себе многочисленные «слова́» (logoi), которые были интенциями Бога для Его творения и источниками дифференциации, которая стоит за всеми тварными вещами: Единый и Простой Бог замыслил Свое творение во множественности и сложности, а потому «сказано, что Бог знает все существа соответственно этим логосам (logoi) прежде их сотворения, поскольку они суть в Нем и с Ним; они суть в Боге, Который есть истина всего». Разумные тварные существа имеют предназначение и повеления двигаться назад навстречу их Богу через их логосы.
Таким образом, Логос надлежит встретить и в Иисусе, и во всем творении; его надлежит встретить и в Писании. Изображая «Слово» с заметной долей физического, Максим говорил: «О Слове сказано, что оно стало «плотным», (…) потому что ради нас, которые грубы своим складом ума, Оно приняло воплощение и выразимость в буквах, слогах и словах, чтобы от всего этого привлечь нас к Себе». Максиму по душе был тот подход к Писанию, который был впервые предложен Оригеном, и под покровом буквального смысла текста он видел бескрайнее море духовных истин. Помимо других даров верующим эти истины могут объяснить те противоречия и нелепости, которые встречаются сплошь и рядом в священных книгах, и придать им позитивное значение. Искать их смысл – еще одна дорога назад к Творцу, и идущего по этой дороге направляет любовь. Любовь – «это превосходнейший источник обожения». Но каким бы ни был путь, целью остается «стать живыми образами Христа, или даже тождественными Ему, или Его копиями, или даже, возможно, стать Самим Господом, пусть это кому-то и покажется кощунственным». Неоднократно Максим говорил о христианах как о богах по благодати.
Можно понять, почему некоторые христиане действительно находили такой язык почти неприемлемым, но Максим избежал какой-либо позднейшей цензуры и остался авторитетным голосом в Восточной церкви. Это произошло отчасти из-за его страстной веры в то, что церковные литургические церемонии служили самыми главными средствами обожения: его творения наиболее личностным образом пропитаны его участием в духовных богатствах литургии. Каждую часть ее служения он связывает с восхождением к Богу, видя вершину в принятии евхаристических хлеба и вина, в котором «Бог наполняет [причастников] всецело и не оставляет ни малейшей части в них лишенной Его присутствия». Так параллельно всем наставлениям касательно внутренней жизни, которыми Максим снабдил монахов, его особое красноречие было предназначено для той общинной драмы, которая связывала воедино духовенство и мирян. Не менее важно то, что через свои творения и страдания в конце жизни Максим стал главным символом сопротивления православия еще одной попытке императоров сделать миафизитские взгляды приемлемыми для церкви посредством развития общего для них богословия на основе учения Кирилла Александрийского.
Среди многообразных стараний императора Ираклия защитить и усилить свою империю, возможно, самым далеко идущим было поощряемое патриархом Сергием содействие богословскому примирению его враждующих подчиненных. Группа богословов, избранная для того, чтобы найти решение доктринальным разногласиям в империи, стремилась быть верной Халкидонскому собору в признании сосуществования во Христе двух природ (Божественной и человеческой), но чтобы принять миафизитов, она выдвинула такое предложение: если эти природы в Нем сосуществуют, то ими достигается единство действия или воли (energeia или thelçma). Максим был одним из основных возвысивших голос против этого «моноэнергизма», или «монофелитства». Он говорил, что Бог слишком уважает свои создания, включая людей, чтобы позволить Логосу принять что-либо меньшее, нежели подлинную тварную человеческую природу во всей ее полноте: итак, воплотившийся Христос должен был иметь всецело человеческое действие и всецело человеческую волю. Когда во время Своего борения в Гефсиманском саду Христос вверял Себя Своему Отцу – «Но не как Я хочу, а как Ты хочешь», – Он как человек использовал Свою человеческую волю, чтобы повиноваться Своей Божественной воле. Это было смелым заявлением, основанным на во многом новом ви́дении воли как самоопределения, одновременно разумного и за рамками сознания: никакой греческий философ, не говоря уж о богословах, не формулировал такого прежде, и воля никогда не оказывалась настолько главной категорией для того, чтобы понять Христа. За свою оппозиционность Максим подвергся чудовищным страданиям по приказам императора и патриарха: Исповеднику, как известно, вырвали язык и отсекли правую руку, чтобы лишить его возможности говорить и писать.
При всей своей новизне интенсивно повторяемые в поздних трудах Максима аргументы благодаря страданиям, которые он претерпел за убеждения, глубоко укоренились в православии. Растущее отчаяние имперских властей, не сумевших извлечь политическую выгоду из своего монофелитского компромисса, перед лицом военных успехов арабов подтолкнуло их на принятие жестоких мер не только против Максима, но и против папы Мартина (см. с. 373–374): это в ситуации с монофелитами принесло больше вреда, чем пользы. Максим так и не дожил до окончательного осуждения монофелитства на VI Вселенском соборе в Константинополе в 680–681 годах. Признав человеческую волю во Христе, человек открылся к страданиям Спасителя – неизмеримо бо́льшим, чем страдания верующего, но не отделенным от них. Это убеждение многократно укреплялось в постоянных испытаниях православия в последующие века.
Уничтожение изображений: иконоборческие споры (726–843)
Потерпев в 681 году поражение, монофелиты зловеще указали на одну новую угрозу как знак Божьего неодобрения: продвижение на юг болгар – еще одного из той длинной череды народов, которые перемещались из Центральной Азии, желая поселиться в Европе. В 680 году болгары разбили византийские пограничные войска и основали свою столицу в Плиске, на территории нынешней Болгарии. В течение последующих столетий болгары оставались одной из постоянных проблем, лишавших византийских императоров покоя. Но гнев Божий на империю казался нависшим еще с большей силой в виде мусульманской угрозы, поскольку арабы, которых в 678 году византийцы сумели прогнать от стен Константинополя, не оставляли надежды завоевать территории империи в Малой Азии. Естественным был вопрос, а не являют ли христианам элементы веры и религиозной практики столь успешных воинов волю Божию, – и это стало убеждением одного из военачальников, чье суровое упорство в изнурительной и бесконечной обороне византийских границ способствовало его восхождению в 717 году на императорский престол как Льва III.
Лев Исавр
Лев известен как «Исавр» по причине своего происхождения из Исаврии – одной из пограничных провинций Малой Азии, и возможно еще там, в непосредственной близости к мусульманским территориями, он оказался под впечатлением такого аспекта мусульманской строгости, как стойкое отрицание живописных изображений Божества. Это существенно контрастировало с одной усиливавшейся особенностью византийской религии: изображений, или икон, и той поистине Божественной силой, которая им приписывалась. Исламская иконофобия – ненависть к изображениям – противостояла византийской иконофилии, и, казалось, ислам побеждал. Воля Божья была с особой силой выражена в одном впечатляющем эпизоде вулканической и сейсмической активности, столь характерной для Восточного Средиземноморья. В 726 году мощное извержение вулкана опустошило архипелаг Санторини, и в море поблизости образовался целый новый остров. Среди советников Льва Исавра был епископ одного малоазийского города Константин Наколийский, который еще до извержения на Санторини был известен своими замечаниями по поводу того, что чудотворные иконы не способны достичь особых успехов в борьбе против арабских войск, и он был далеко не единственным епископом, считавшим так. Иконофобия была чревата переходом к деструктивным действиям: иконоборчеству. Соответственно, Лев начал проводить иконоборческую политику.
Ислам, иудаизм и иконоборчество
Борьба, которая продолжалась более столетия, была не просто инспирирована исламом: она демонстрировала одну из величайших линий разлома в самом христианстве, являясь отражением его двойного происхождения из еврейской и греческой культур. До принятия христианства греки, как мы видели, рассматривали возможность изображать божество в человеческом облике как нечто естественное, и в их искусстве ваяния господствовали такие изображения (см. с. 46–47). Евреи, хотя и могли в некоторых культурных условиях делать священные живописные изображения или даже скульптуры (см. с. 202), в средоточии своей веры имели в Десяти заповедях, данных Богом Моисею («Декалог»), такое утверждение: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». Это утверждение представляется очень категоричным, и христиане, принадлежавшие к основному течению, решив после своих распрей во II веке сохранить ТаНаХ как Священное Писание, не могли, как и иудеи, игнорировать Десять заповедей. Однако вопросы оставались. Как иудейские, так и христианские комментаторы Библии обращали внимание на то, что запрет кумиров (резных изображений) – самая длинная и многословная из Десяти заповедей. Далекие от того, чтобы укреплять ее авторитет, эти толкователи допустили возможность, что она вовсе не была частью основополагающих заповедей, но является лишь вспомогательным комментарием на первую Божью заповедь и основной запрет, который ей предшествует: «Я ГОСПОДЬ Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».
Как быть с запретом на изображение кумиров
Это открыло для христиан другую возможность. Они не могли помыслить того, чтобы изменить число Десяти заповедей, которое было основополагающим для иудаизма по меньшей мере со времен Второзакония (см. с. 82–83), но они могли их перенумеровать. А это значило поместить запрет на кумиров внутрь Первой заповеди (а соответственно – поделить заповедь против вожделения на две и таким образом сохранить число десять). Таков был вывод, сделанный Августином Гиппонским, и ему следовала Западная церковь вплоть до Реформации, когда некоторые (но, как мы увидим, не все) протестанты вернулись к этому вопросу и стали снова четко следовать иудейской традиции деления Декалога, тем самым оправдывая свое глубоко враждебное отношение к церковному искусству (см. с. 674–675). В церкви, какой знал ее Августин, где священные скульптурные изображения были повсеместно приняты по меньшей мере со времен Константина, а возможно, и раньше (см. с. 195–196), было естественным чувство, что повседневное благочестие со всей очевидностью свидетельствует против существования какого бы то ни было Божественного запрета на скульптуры.
Можно было ожидать, что Восточная церковь с ее явной любовью к священным изображениям примет ту же линию в исчислении Десяти заповедей, что и Августин. Однако она осталась верна библейской экзегезе Оригена, который продолжал оставаться глубоко (и справедливо) уважаемым как комментатор Писания даже после того, как многое в его богословии подверглось осуждению. Ориген поднимал эти вопросы, связанные с Десятью заповедями, но касательно исчисления заповедей твердо придерживался той же позиции, что и иудеи: запрет на кумиров оставался Второй заповедью. Само собой разумеется, это не отвратило восточных христиан от создания богатого церковного искусства, но то, что они делали, было совершенно буквальным соблюдением этой заповеди: для их изобразительного искусства характерным было то, что оно оказывалось не резным (т. е. не объемным), а плоскостным: обильно украшенные мозаикой из камней и стекол поверхности стен и полов и живопись на деревянных досках, которая стала для Православной церкви образом par excellence – иконой.
Быть может, как это в недавнее время стали утверждать, иконы берут свое начало в древней традиции живописных погребальных портретов для египетских мумий, с воодушевлением воспринятой египетскими христианами. Определенно святые на иконах по своему воздействию имеют много общего с этими хорошо запоминающимися египетскими портретами, глаза которых напряженно сосредоточены на зрителе, но все же египетского погребального обряда недостаточно, чтобы объяснить общий феномен нескульптурного восточнохристианского искусства. Он имел богословское происхождение: это было хитроумное разрешение дилеммы, поставленной Второй заповедью, и, конечно, оно рассматривалось иконоборцами VIII века как чистой воды лицемерие – опять же на богословском основании. Что еще было поставлено на кон в иконоборческих спорах? Одна из проблем для понимания этих вопросов состоит в том, что на самом деле все аргументы иконоборцев были разбиты победившими в конечном счете иконопочитателями. Единственное важное утверждение иконоборцев, которое дошло до нас, было сформулировано на соборе иконоборческих епископов, созванном императором Константином V в его дворце Иерия в 754 году, и оно сохранилось только в актах более позднего собора иконопочитателей – Никейского собора 787 года, где было зафиксировано с целью подвергнуть его систематическому оспариванию и осуждению (собор жестоко заставил одного епископа из числа раскаявшихся бывших иконоборцев, прежде присутствовавшего в Иерии, прочитать это утверждение вслух целиком). Высказывалось предположение, представляющееся правдоподобным, что за спорами о церковном искусстве стояли споры о том, как обращаться к Божьей святости. Как Божественное соотносится с человеческим миром?
Позиция иконоборцев
Иконоборцы говорили, что мы встречаемся со святостью в определенных ситуациях, где духовенство представляет нас Богу (как, например, в богослужении церкви), так что иконы, в лучшем случае, не имеют к этому никакого отношения. Сторонники таких взглядов настаивали на том, что иконы не могут быть святыми, поскольку над ними священник не произносит никакой особой молитвы освящения (возможно, как результат обычной православной практики в последние века является освящение икон предписанными молитвами). Иконоборцы придавали не меньшее, чем их противники, значение оформлению богослужения, но им было нечего больше предложить тем, для кого оно стало слишком громоздким и обременительным, чтобы удовлетворить их духовные нужды. У иконопочитателей же было что предложить. Они считали, что не нужно никакой официально санкционированной инициативы, чтобы привносить что-либо в сферу сакрального: каждый волен встретиться со священным, ибо все, что сотворил Бог, по природе своей священно. Каждый может достигать Бога через иконы, когда чувствует, что Бог призывает его.
Как спасали иконы
Это стало спасением и силой икон во все те годы, когда их срывали со стен храмов: маленькие деревянные дощечки находили убежище у людей в личном пространстве их домов, и именно здесь мамы и бабушки будут чаще всего ощущать воздействие их силы и принимать решение сохранить образ, а затем впечатляюще передавать любовь к этому частному источнику Божественной силы своим детям. В равной мере иконы и их защита стали ассоциироваться со святыми людьми, которые, видимо, мало чем были обязаны церковной иерархии и ее компромиссам с прихотями императоров: эти люди, которые были обычными и в то же время необычайными, по-видимому, странствовали из одного места в другое, по-прежнему претендуя на святость монаха или отшельника. Монахи и монахини, любившие иконы, могли солидаризироваться с коренившейся в среде мирян тенденцией спасать иконы от последствий политики высшего клира и правителей империи.
Поначалу кампания против изображений и икон разворачивалась не в полную силу – едва ли больше, чем просто символическое удаление нескольких наиболее известных икон из имперских зданий и замена мозаик побелкой. Но когда Льва сменил его не менее иконоборчески настроенный и более грамотный в богословии сын Константин V, были предприняты дальнейшие действия. Один великолепный храм, перестройка которого была вдохновлена иконоборцами, сохранился нетронутым со времени его правления: это перестроенный после землетрясения 740-х годов храм Святой Ирины (Айя-Ирини), воздвигнутый еще при Константине I; позже этот храм пренебрежительно использовали оттоманские завоеватели как оружейный склад позади дворца Топкапи, и его пространство, напоминающее пещеру, позднее стало концертным залом. Здесь полукупол апсиды, где находился алтарь, украшен огромным черным мозаичным крестом на золотом мозаичном фоне, вместо обычной роскоши мозаичных фигур. Это было заменой, характерной для иконоборческого искусства. Крест значил для иконоборцев очень много: он был символом не только смерти и воскресения Христа, но и покорения восточных церквей мусульманами и сдачи арабским войскам Иерусалима вместе с обретенным такими мучительными стараниями Ираклия Истинным Крестом (см. с. 285–286). Кресты этого периода по-прежнему будут завуалированно прятать в более поздних фигуративных мозаиках других храмов.
Размах уничтожения изображений
Императорам-иконоборцам VIII века сопутствовала удача в их военных кампаниях, которая хотя бы на какое-то время должна была подтверждать правильное направление их политики. Похоже, они действительно оказывались выразителями распространенного поветрия в восточном христианстве, что явствует из храмовых мозаик, найденных во время раскопок в Палестине, которая перешла под власть Омейядов и Аббасидов. Некоторые из этих мозаик были аккуратно переделаны – фигуративные изображения заменены нефигуративным орнаментом. Датировка первоначальных мозаик помогает установить время этой замены – десятилетия после второй четверти VIII века, то есть ее проводили во время иконоборческих кампаний династии Льва, однако подобные замены обнаруживаются за границами Византийской империи. Наряду с этим известно значительно более раннее иконоборческое движение по ту сторону северо-восточной границы империи – в Армении. Очевиден и широкий размах уничтожения изображений: сохранилось очень мало икон византийского письма, которые датируются более ранним временем и наиболее примечательное собрание которых было сохранено в недоступном для императоров монастыре Святой Екатерины на Синае.
Но как бы ни была популярна поддержка икононенавистничества, иконоборческие споры сильно подорвали империю. Эта политика порождала глубокую обиду в Риме, приводя пап ко все более тесному союзу с Франкским королевством (см. с. 378–379). В собственных же владениях императоров она вызывала озлобленность, трагически раздробляя Византию во время новых и новых военных угроз. Неудивительно, что среди оппозиции иконоборчеству прославились монахи, ведь Константин V был не просто очень упрямым человеком, страстно любившим светский театр и музыку, но он презрительно относился к монашескому образу жизни. Император принимал меры по ограничению монашества и казнил некоторых монахов-иконопочитателей (один из них был запорот насмерть бичом на константинопольском ипподроме). Платой за это оказалась его дурная репутация, запечатленная византийской историографией, несмотря на его военные достижения и на то, что он внес большой вклад в восстановление Константинополя после череды природных бедствий.
Защитник икон Иоанн Дамаскин
Далеко оттуда, в монастыре Святого Саввы в Палестине, за границами империи, высокоуважаемый Иоанн Дамаскин (см. с. 289), провел жизнь в созерцании и критиковал ислам в непосредственном с ним соприкосновении. Он увидел в развивающемся конфликте уже знакомое противостояние. Если мусульмане относились с презрением к почитанию креста, то он в своем диалоге с воображаемым мусульманским оппонентом спрашивал, а почему же они тогда оправдывают почитание черного камня в Каабе? Иоанн оказался противником иконоборчества, которое нанесло ему наибольший урон, – он был одним из великих мыслителей своего времени и философом, достаточно мощным, чтобы много позже вызывать неподдельное восхищение у Фомы Аквинского. Фома часто цитировал Иоанна, утверждая, что на протяжении всей своей взрослой жизни каждый день читает по несколько страниц из его трудов, и следовал этому арабскому христианскому святому в своих рассуждениях об изображениях, как и во многом другом. Иоанн был последним восточным богословом, который имел неослабевающее влияние на западную христианскую мысль вплоть до Нового времени.
Иоанн Дамаскин славился в ту эпоху, что последовала за триумфом его защиты изображений, не только как богослов и проповедник, но и как поэт, и именно как поэт он создал сокровищницу всевозможных образов – как словесных, так и зрительных. Они проясняют и усиливают наше ви́дение Бога, и, действительно, в отношении к Богу они значимы по причине совершенно непостижимой сущности Бога. Мы можем узнавать Его только через Его деяния и через сотворенные вещи, которые обязаны своим существованием Его энергии: они обеспечивают нас образами, с помощью которых мы можем взглянуть со стороны на божественное. Таким образом, Иоанн не только защищал иконы как нечто оправданное перед лицом ветхозаветных запретов, каковые он считал применимыми только ко временам до Христа, но и решительно пропагандировал их позитивное воздействие. Он следовал традиции Максима Исповедника, усматривая в халкидонском равновесии между человеческим и божественным в Христе демонстрацию того, как Божественное может проникать собою тварное: «Божественное естество остается прежним; плоть, созданная во времени, приводится в движение разумной душой. Поэтому я приветствую всю остающуюся материю с почтением, ибо Бог наполнил ее Своей благодатью и Своей силой».
Иоанн был первым ревнителем икон, который разобрал еще одну греческую терминологическую проблему, подобно тому как четырьмя веками раньше Василий Великий и каппадокийские Отцы разрабатывали приемлемую терминологию для Троицы (см. с. 241–242). В данном случае он разделил узусы слов, обозначающих абсолютное и относительное почитание. Latreia – почитание как поклонение – подобает только Богу; почитание, подобающее Божьим творениям, – это proskinesis, каковым является, например, почтение, оказываемое императору в Константинополе. Подобные творения «истинно именуются богами – не по природе, но по усыновлению, подобно тому как раскаленное докрасна железо называют «огненным» не по его природе, а потому что оно причастно действию огня». Именно proskinesis воздается иконе верующим дома или в храме. Задолго до этого тот же каппадокийский Отец Церкви Василий Великий заметил, что почитание, которое воздается изображению императора, относится к прототипу этого изображения. Точно так же почитание и молитвы, воздаваемые образу святого, могут выходить за пределы этого образа и относиться к самому́ святому, а следовательно и к Богу, Создателю всех и небесному Спасителю святых. За различением терминов у Иоанна Дамаскина проглядывает искусное использование обсуждения Аристотелем категорий и причин, оставленного им в наследство будущим защитникам икон. Естественно, тварный человек по иному соотносится с Первопричиной всех вещей, нежели с другими тварными объектами, способными быть вторичной причиной – как император. Если принять эту терминологию и аристотелевский аппарат, то почитание изображений в христианстве оказывается безопасным.
Императрица Ирина
Константин V мог бы обеспечить своим преемникам победу и готовые образцы правления, если бы не вмешательство вдовы его сына Льва IV императрицы Ирины. Ирина стала регентом при своем сыне Константине VI после смерти Льва в 780 году. В византийской истории уже существовала давняя традиция вмешательства царственных женщин в политические решения, становившиеся богословскими, – даже до Пульхерии, которая столь сильно повлияла на Халкидонский собор (см. с. 249–250), – и Ирина была не последней. В те годы она проявила инициативу созвать собор, которому надлежало вновь разрешить иконы. Невозможно толком разобраться, какими мотивами она руководствовалась, вторгаясь в имперскую политику. Позже, когда 26-летний император Константин стал проявлять желание взять власть в свои руки, она приказала ослепить его в той же комнате дворца, где и родила его, получив возможность стать первой в византийской истории единолично правящей императрицей. Ирина была полна решимости противопоставить свою волю церковной и дворцовой верхушке. После первых встреч, на которых преобладали епископы-иконоборцы и симпатизирующие им силы, Ирина последовала примеру Константина Великого почти пять веков назад и в 787 году созвала епископов в более контролируемом месте – Никее. Председательствовал патриарх (в то время это был поспешно рукоположенный мирянин, избранный за свое враждебное отношение к иконоборцам), все протоколы тщательно проверялись императрицей-регентом и ее юным – тогда еще не ослепленным – сыном. Собор сделал официальным учением разработанное Иоанном Дамаскиным разграничение терминов latreia и proskynçsis.
Позиция церковных властей на Востоке и на Западе
Можно было бы предположить, что это новое одобрение изображений будет с удовлетворением воспринято церковными властями на Западе, и действительно папа Адриан I с воодушевлением принял акты II Никейского собора. Это был один из последних случаев, когда папа так одобрял деятельность константинопольского патриарха, однако в политике имели место и другие реалии, с которыми приходилось считаться. Во Франции Карл Великий обустраивал империю для Запада, основанную на франкской монархии, и после его коронации в 800 году отношения новоиспеченного императора с носителями древнего императорского титула на Востоке осложнились (см. с. 378–379). Враждебность Карла к восточной императорской власти усилилась из-за чреватого губительными последствиями неверного латинского перевода одного фрагмента Деяний собора: там сообщалось о том, что один из епископов церкви на Кипре говорил, что он воздавал изображениям такое же почитание, как и Троице, хотя на самом деле следовал линии партии иконоборцев и говорил прямо противоположное. Карл решил осудить богословие Востока, культивировавшее изображения, и утвердил сводящее к минимуму значение изображений, богословские установления, которые вошли в историю как «Каролингские книги» (Libri Carolini). Собор франкских епископов во Франкфурте-на-Майне в 794 году последовал их учению резкой критикой того, что счел злоупотреблением использования икон на Востоке.
Это был любопытный момент в истории Западной церкви. Иконоборческие настроения в каролингских кругах имели, несомненно, политическое измерение. Оно становится очевидным, например, тогда, когда «Каролингские книги» осмеивают идею, приводившую византийских императоров к тому, что они заказывали собственные изображения, для их почитания: это стало еще одним удачным поводом заявить, что византийцы утратили право претендовать на имперские почести. Но была в западных кругах и другая глубокая проблема относительно изображений. Большое число богословов испанского происхождения воспринимали свою близость к границам исламского мира точно так же, как иконоборцы на Востоке, делая на основании успехов мусульман вывод, что изображения не угодны Богу. Одного из таких богословов Теодульфа, которого Карл Великий сделал после собора во Франкфурте епископом Орлеанским, сейчас считают автором «Каролингских книг».
Яркие произведения иконоборческого искусства
Теодульф стал также аббатом могучего монастыря во Флёри на Луаре (см. с. 382, 389), рядом с которыми до сих пор стоит часовня, построенная им для себя при епископском дворце. Сейчас это приходская церковь небольшого села, которое называется Жерминьи-де-Пре. Когда в XIX веке в полукуполе ее алтарной апсиды осыпался слой штукатурки, открылась золотая мозаика, уникальное сокровище времен Теодульфа. Ее стиль переносит зрителя в византийский мир. В центре – рука Божья (а не суеверное изображение Его лица) в сопровождении двух ангелов, которые указывают на двух херувимов под ними, покрывающих ковчег Завета своими крыльями; надпись вокруг апсиды призывает зрителя взглянуть на ковчег и помолиться о Теодульфе. В «Каролингских книгах» имеется соответствующий фрагмент, представляющий собой библейский комментарий о ковчеге Завета. В спокойствии долины Луары мы неожиданно оказываемся втянуты в богословские споры между Востоком и Западом во времена Карла Великого. Мы видим иконоборческое искусство.
Клавдий, епископ Турина
Иконоборческие настроения на Западе вскоре прошли, потому что поздних Каролингов тревожили те крайности, с которыми им приходилось сталкиваться. Особенно неистовым был другой испанец по имени Клавдий – энергичный и хорошо образованный, но не слишком глубокий и тонкий толкователь Библии. Около 816 года сын Карла Великого Людовик «Благочестивый» сделал Клавдия епископом большого итальянского города Турина, считая, что его взгляды могут оказаться полезными в дипломатических переговорах с восточным императором Львом V, который теперь снова поощрял иконоборческую политику. Клавдий не особо благоговел перед папством; он часто критиковал все изображения в человеческом облике, паломничества, мощи, вообще культ святых и даже почитание креста – того символа, который по-прежнему очень много значил для восточных иконоборцев: Клавдий реально уничтожал кресты в храмах своей епархии. С оскорбительной насмешкой он называл паломников «невежественными людьми, которые в целях обретения вечной жизни хотят идти прямо в Рим и почитают всякое духовное разумение заслуживающим меньшего уважения». Несмотря на осуждение папой и запрет синодом франкских епископов, он вплоть до своей кончины оставался во главе своей епархии, по-прежнему пользуясь покровительством франкского императора Людовика, но объем враждебных комментариев на его труды продолжал увеличиваться, и к нему все больше относились как к еретику, хотя и не переставали читать написанное им. Даже при жизни Клавдий понимал, что идет вразрез с популярными в его епархии настроениями: паломничествам и святыням суждено было пережить его враждебность, а франкские правители не пошли против течения.
Развитие концепции почитания
Средневековая Западная церковь настолько же зафиксировалась на изображениях, насколько и Восточная, и несмотря на альтернативное исчисление Десяти заповедей не запрещала по-прежнему развивать традицию фигуративной скульптуры. Статуи в большей мере, нежели иконы, становились на Западе центром латинского благочестия, особенно в культе Пресвятой Богородицы (см. с. 425–426). Более того, Западная церковь исправила никейскую терминологию, хотя не переставала признавать, что детали можно передать намного более четко по-гречески, нежели по-латински: она заменила proskinesis другим греческим словом, обозначавшим почитание, – dulia. К XIII веку возрастание благочестивого почитания Марии, Матери Божьей как на Востоке, так и на Западе привело Фому Аквинского, восхищавшегося Иоанном Дамаскиным, к дальнейшей формализации более тонких деталей: это была концепция исключительного почитания, которое получило название hyperdulia и которое воздается величайшему из Божьих творений – Марии, Матери Иисуса. Лишь в XVI веке ненавидевшие изображения протестанты вновь открыли Клавдия Туринского, Франкфуртский собор и «Каролингские книги» и радостно воскресили их, чтобы показать, что протестантизм не сообщает ничего нового. Первое печатное издание «Каролингских книг», написанных франкским епископом, было выпущено в 1549 году другим французским епископом Жаном дю Тилле, который симпатизировал идеям Реформации. Он был другом Жана Кальвина, и тот поспешил использовать сенсационную находку. Римокатолики нерешительно протестовали против действий кальвинистов.
Жестокое возобновление иконоборчества
Таким образом, решения II Никейского собора по-прежнему оспаривались – отчасти из-за того, что само правление императрицы Ирины было спорным и в основном безуспешным, завершившись ее низложением и ссылкой: ослепление ею собственного сына было определенно одной из причин ее непопулярности, а предложенный ей Карлом Великим брак (см. с. 379) стал, вероятно, последней каплей. С 813 года борьба с иконопочитанием возобновилась с еще большей жестокостью, после того как император Лев V объявил войну иконам и еще раз удалил главную икону из Великого дворца. Ревнители иконопочитания показали, что пиетет Церкви по отношению к императору остается условным даже в Константинополе. Феодор Студит (в ту пору настоятель Студийского монастыря и основной реформатор монашеской жизни) выступил как главный защитник икон и без колебаний заявил Льву: «Твое попечение, император, – государственные и военные дела. Думай о них и оставь церковь ее пастырям и учителям». Феодор и целая сеть монахов сохраняли связь между собой даже тогда, когда Студит был отправлен в ссылку. Они знали о поддержке на Западе со стороны папы, решительно сохранявшего прохладное отношение к попыткам императора примириться с ним. Тем временем иконоборцы уже не были способны сопротивляться войскам императрицы Ирины. Особенно серьезным ударом оказался для них захват мусульманскими войсками в 838 году Амория – важнейшего пограничного города в Малой Азии. Это поражение еще долго вспоминали в византийском фольклоре и в песнях, и нельзя отделаться от мысли, что это произошло во многом благодаря ассоциациям с последним императором-иконоборцем Феофилом.
Императрица Феодора, защитница икон
Именно Феодора, жена Феофила, в конце концов обратила вспять иконоборческую политику – по мотивам, которые, подобно мотивам Ирины, стараниями благодарных православных агиографов навсегда ушли в тень. Когда Феофил умер, Феодора как регент приказала патриарху Мефодию восстановить иконы в храмах. В память об этом первое воскресенье Великого поста, которое пришлось на 11 марта 843 года, празднуется в восточных церквах как один из самых значимых праздников – «Торжество православия». В этот день иконы обносят вокруг православных храмов с особой церемонией, и торжественно читают документ, увековечивший это решение IX века и сочиненный примерно в то же время. Этот «Синодик» включает в себя список главных защитников икон, и имя каждого из них сопровождается возгласом «Вечная память!» Императрица, беспокоясь о репутации своего сына, позаботилась и о том, чтобы из списка осужденных, параллельно содержащегося в «Синодике», не было исключено имя его отца – покойного мужа Феодоры Феофила – и чтобы недвусмысленные намеки предваряли любую кампанию возмездия иконоборцам, которые вплоть до конца IX века продолжали отстаивать свою правоту, но больше уже никогда не удостаивались государственного покровительства.
Итоги борьбы за иконы
Две императрицы-иконопочитательницы успешно закрыли всякую возможность альтернативных форм культа в православной традиции. Они сделали почитание икон ее обязательным элементом, существенным знаком принадлежности к православию. Они сами и те, кто их поддерживал, не только вынесли вердикт по поводу эстетических предпочтений, но также трансформировали природу искусства в Восточной церкви. Особая природа православных икон подчеркивалась приобретавшим все большее распространение (во многом благодаря этим горьким спорам) утверждением, что есть один совершенно исключительный класс искусства: acheiropoieta – нерукотворные образы Иисуса, то есть не сотворенные человеческими руками, и их архетипом послужил теперь уже таинственный Mandylion (убрус), данный Самим Иисусом эдесскому царю Авгарю (см. с. 203); в своей развитой форме легенда об этом убрусе, по-видимому, датируется периодом иконоборческих споров. Подобные предметы окончательно разбивали иконоборческий аргумент, что иконы не получили особого освящения от церкви: специфически божественное творение отметало любые подобные придирки.
Один современный комментатор подводит такой итог тому, что произошло во время иконоборческих споров: «В течение почти 180 лет дебатов греческие богословы произвели радикальную перемену в языке, которым они обрамляли икону. Тем самым они повысили статус произведения искусства до богословского произведения, а статус художника до богослова». Искусство стало не средством индивидуального творческого выражения человека, а провозглашением корпоративного опыта Церкви. Теперь это было нечто, к чему следует приближаться с медитацией и острым чувством традиции. Последовали и технические изменения. Самые ранние иконы – например, два величественных портрета Христа и святого Петра, сохранившиеся в монастыре Святой Екатерины на горе Синай (с определенной точки зрения, прекрасные образцы позднеримского натуралистического искусства) – были выполнены в энкаустической технике, когда связующим элементом для краски служил горячий воск. По своей природе эта техника стимулирует скорость, ведь работать можно только пока воск не затвердел; это почти импрессионистическая техника, и в таких произведениях натурализм оказывается союзником индивидуального таланта. Смелость и быстрые решения играют первостепенную роль. Более поздние иконы пишутся темперой, краски замешиваются на яичном белке. Такая техника оборачивается крохотными мазками, которые накладываются скрупулезно, с тщательностью и вдумчивостью: очень подходящее средство для медитации, предполагающее особое внимание к деталям. Художник, пишущий темперой, мог полагаться на все более и более формальные правила представления святого, обращая все свое индивидуальное мастерство на то, чтобы проиллюстрировать непрестанно усложняющийся свод правил, которые несли в себе режиссированные таким образом богословские идеи.
Монахи и церковное искусство
Не все монахи противостояли уничтожению изображений, но лидирующими фигурами в деле их восстановления были, помимо императриц, монахи, наподобие Феодора Студита. Они также энергично участвовали в деле введения этого восстановления в более широкий контекст – в обновление и обогащение богослужения и церковной музыки в Константинополе. Это происходило как раз в ту пору, когда Каролинги и их епископы обильно обогащали богослужение Франции, но имея иной ориентир – Рим. Подобным же образом Византия смотрела на восток: обновление в IX веке городской литургической традиции черпало вдохновение из источника за пределами империи – из Иерусалима. Теперь, когда этот город находился в руках мусульман, возникло естественное желание сохранить его духовную традицию от возможного исчезновения, как это явствует из почитания креста иконоборцами. Многие палестинские монахи поняли, что в конце VIII века мусульманское владычество сделалось значительно более обременительным, нежели в прошлом, и направились в империю, чтобы практиковать свою веру там. Феодор восхищался такими святыми палестинскими монахами, как Савва, и Студийский монастырь стал своего рода лабораторией для экспериментов с церемониями и текстами, пришедшими из монастырей Палестины. Вскоре эти службы, с любовью толковавшиеся в трактатах со времен Максима Исповедника и далее, начали использоваться монастырями и соединяться с богослужением Великой церкви Святой Софии, чтобы сформировать богослужение всей Церкви.
Палестинские монастыри привнесли в церковь Константинополя ту традицию музыки и гимнографии, которая сохранилась в недрах византийского богослужения. Именно в Палестине были выработаны восемь музыкальных модусов (гласов). Их не только использовали в Константинополе в ту пору, но вскоре усвоили Каролинги и Западная церковь как целостную систему упорядочения у них сочинения музыки и пения, и, таким образом, они стоят у истоков всей западной музыкальной традиции. Прежде в музыке константинопольских храмов господствовало собрание петых повествовательных проповедей, известных под названием «кондак» (kontakion), – диалогов между певчим и хором или собранием, певшим рефрен. Теперь известен единственный кондак, поющийся обычно целиком во славу Девы Марии в 5-ю субботу Великого поста, который именуется «акафистом» (Akathistos – буквально «неседальный», поскольку он имеет особую честь быть той частью богослужения, во время которой все должны стоять). Другие кондаки, которые по-прежнему исполняются в богослужении, значительно сокращены. Формой литургического гимна, сменившей кондак, стал канон – собрание из девяти песней. Эти собрания появились в палестинских монастырях как размышления над темами из Библии, проводившиеся во время богослужения; вся эта череда девяти песней достигала своей вершины в песни Богородице.
Канон православного богослужения
Канон – единственный элемент, делающий православное богослужение постоянным преломлением библейских текстов, паутиной толкований и разработок, особенно в неевхаристических утренних и вечерних службах. Цитирование отдельных фрагментов дает возможность только чуть-чуть попробовать вкус этого эффекта. Вот два кондака из Божественной литургии святого Иоанна Златоуста, первый из которых звучит в Неделю о Блудном сыне, отличающуюся покаянным настроем в приближении Великого поста, а второй поют в дни большого праздника, приходящегося на середину лета, когда вспоминается событие Преображения Христа, в момент которого Его лицо исполнилось божественного света и Он беседовал с Моисеем и Илией:
Глупо бежав от Твоей отеческой славы, я расточил в злых делах доверенное мне Тобою богатство; потому вопль Блудного приношу Тебе: Согрешил я пред Тобою, Отче милосердный; прими меня кающегося и сделай меня одним из наемников Твоих.На горе’ Ты преобразился, и Твои ученики, насколько они способны были вместить, славу Твою видели, Христе Боже, чтобы, когда они увидят Тебя распинаемым, они могли уразуметь Твои добровольные страдания и проповедовать миру, что Ты воистину Отчее сияние.
Таким образом, молящееся собрание, слышащее первое песнопение, мысленно соединяется с блудным сыном из притчи Христа о покаянии (Лк 15: 11–32). В другое время года молящиеся стоят неподалеку от ошеломленных учеников на горе Фавор, получая вновь заверение, что даже те первые привилегированные последователи Христа могли только частично видеть Его Божество; из этого момента славы они также взирают вперед сквозь течение литургического года на следующее воспоминание земной смерти Спасителя, которую Тот предрек им на высокой горе. Это постепенное литургическое движение через Писание означает, что, лучше это или хуже, православный подход к Библии и ее смыслу имел значительно меньше склонности отделять библейские штудии от медитации и повседневной богослужебной практики, нежели это было в западной традиции.
Павликиане и богомилы
«Торжество Православия» в IX веке не должно затемнять того факта, что другая, очень отличающаяся ветвь христианства сохранялась как в Византийской империи, так и к востоку от нее, в Армении. Эти инакомыслящие противостояли официальной иерархии намного более радикально, чем почитавшие иконы монахи, монахини и миряне – епископам-иконоборцам. Они были дуалистами по вере, подобно гностикам или манихеям, хотя трудно усматривать прямую связь между ними и более ранним дуализмом. Похоже, подобно Маркиону (см. с. 149–150), на основании своего собственного прочтения христианского Нового Завета, и особенно Павла, они выстроили собственное богословие глубокой пропасти между плотью и духом. Как мы уже видели, маркиониты действительно сохранялись далеко на востоке Византийской империи в рассматриваемый период, но этот новый дуализм представляется независимым и от них. Впервые он обнаруживается в Армении в конце VII века. Враги его приверженцев дали им презрительное наименование «павликиане» – возможно, по имени какого-то их основателя, но весьма примечательно, что их преклонение перед апостолом Павлом было настолько сильным, что они последовали примеру Маркиона и сократили канон Нового Завета, удалив из него два послания, приписываемых Петру. Очевидно, это произошло потому, что их приводило в ярость коварное утверждение в 2 Петр 3:16, что в посланиях Павла «есть нечто неудобовразумительное».
Вполне логично, ввиду своей веры в то, что материю сотворило зло, павликиане с презрением относились к плотским аспектам имперской религии, таким как культ Марии или физическая церемония крещения. Естественно, они были также икононенавистниками (в отличие от византийских иконоборцев их ненависть распространялась даже на сам крест) и, подобно иконоборцам, им удавалось сделать свою веру привлекательной для военных. Императоры-иконоборцы, вроде Константина V, не видели никакой проблемы не только в том, чтобы терпеть павликиан, но и в рекрутировании их на военную службу. Даже императоры-иконопочитатели признавали их достойными службы в армии и впоследствии использовали на балканских границах Византийской империи, таким образом непреднамеренно распространяя их проповедь на запад. К IX веку эта группа стала уже настолько опасной для имперской церкви, что архиепископ Болгарии был вынужден заказать опровержение их учения, что вовсе не избавило Болгарию от распространения в ней в X веке еще одной дуалистической секты, значительно более аскетичной по своему характеру, которая по имени своего основателя, жившего в IX веке, называлась богомилами (имя Богомил – по-славянски «любимый Богом», то есть по-гречески это, видимо, было имя «Феофил»). Богомилы стремительно распространились по всей империи, и именно один из богомилов – Василий – известен среди весьма немногих в Византии жертв сожжения на костре за ересь (возможно, последняя). В факте сожжения Василия видится некая зловещая симметрия – поскольку сожжения за ереси усилились на Западе как раз тогда, когда прекратились на Востоке, но также и потому, что богомилы, похоже, стали вдохновителями столь же аскетичных катаров в Западном Средиземноморье, которые в XIII веке во время Альбигойского крестового похода стали жертвами одного из самых беспощадных гонений за всю историю (см. с. 420).
Для ставшей вроде бы такой монолитной византийской культуры это оказалось непредвиденным экспортом. В наше время на Балканах сохранилось наследие богомилов (если оставить в стороне гипотезы, в которые уже никто не верит, что впечатляющее множество загадочных надгробных плит с изящной резьбой, сохранившихся в Боснии и Герцеговине, восходит к их культуре). Хотя с XIII века в Боснии нет никаких заслуживающих доверия упоминаний о богомилах, в 1990-е годы я встретил в Оксфорде боснийского беженца, утверждавшего, что он богомил, и такое сознание у боснийцев отражает ту роль, которую память о богомилах (во многом реконструированная) играла в этнических конфликтах, нанесших Боснии столь чудовищные раны в то десятилетие (см. с. 1102). Среди различных требований этнического приоритета в регионе имело место и требование боснийских мусульман, которые, если они происходят от богомилов, могли противостоять утверждениям православных или католиков о пришлом характере боснийцев – что их якобы привезли сюда оттоманские турки. Кроме того, боснийцы, возможно, с гордостью вспоминали о независимой церкви, за которой стояло богомильство, несмотря на то, что теперь они были мусульманами. Выдвигая все новые аргументы, разнообразные и несовместимые, все стороны имели склонность пользоваться неполной и спорной историей богомилов.
Фотий и новые миссии на запад (850–900)
Расширение истории этого религиозного инакомыслия на Балканы открывает новое измерение Византии IX века, которое оказалось решающим для формирования православной идентичности: неожиданное распространение миссии на запад в Центральную Европу, как в регионы, которые прежде, в Римской империи, были христианскими, так и на новые территории за пределами Византии. Такое развитие стало результатом не только новой силы Византийской империи после многих лет войн, но и дальновидности одного человека – Фотия, который принял патриаршее служение в период продолжающегося кризиса. На волне победы иконопочитателей в 843 году трагически разделенная Церковь отчаянно нуждалась в сильном лидере, которым не мог стать скомпрометировавший себя патриарх Мефодий, продержавшийся только четыре года, а потом низложенный. От его преемника Игнатия, казалось, тоже не следовало ожидать чего-то намного лучшего: кастрированный выходец из императорской семьи, который был назначенцем императрицы Феодоры и ее марионеткой, был низложен после того, как в 856 году императрицу отстранили от власти.
Фотий на месте Игнатия оказывался со всей очевидностью значительно более подходящей кандидатурой. Он был сыном богатого мирянина, который умер в изгнании в бедственных условиях по причине своей верности иконопочитанию, и внучатым племянником патриарха, председательствовавшего на утвердившем иконопочитание Никейском соборе. Но помимо славы, которой Фотий был обязан истории своей семьи, он был одним из самых талантливых и творческих людей среди всех, кто когда-либо находился на патриаршем престоле. Ему принадлежит письменный труд, не имевший себе равных в Древнем мире: резюмированный обзор порядка четырехсот произведений христианской и дохристианской письменности, прочитанных Фотием за первые три десятилетия его сознательной жизни, – такая способность к чтению была, возможно, сама по себе беспрецедентной для того времени. Конечно, исключительная ученость Фотия возбуждала подозрения среди монахов, которые обвиняли его в том, что он тайный язычник, – говорили, что во время богослужения он рецитирует себе под нос светскую поэзию. Кроме того, для них было невероятно, что священник, который, будучи целибатным, не является монахом, имеет какое-то право руководить церковью, и их враждебность соединялась с гневом прежнего патриарха Игнатия, проявлявшего заметную настойчивость в соперничестве за патриарший престол.
Македонская династия
Эти совместные козни дважды оборачивались заговорами, приводившими к низложению Фотия как патриарха: в первый раз – в 867 году в пользу восстановленного на константинопольской кафедре Игнатия, и окончательно – в 886 году, после чего различные враги Фотия сделали все, чтобы гарантировать дискредитацию исторической памяти о нем. Однако, в конечном счете, Восточная церковь решила, что он должен почитаться как святой (искусно связав в литургическом поминовении его имя с именем его соперника-евнуха), и для такого выражения благодарности есть все основания. Периоды патриаршего правления плодотворно совпали с чередой способных императоров, много сделавших для восстановления империи после двух столетий бедствий. Они основали династию, которая правила почти два столетия и оказалась первой столь продолжительной династией во всей истории Римской империи: она называлась Македонской – по месту рождения Василия, ее основателя. Василий был придворным воином армянского происхождения, спланировавшим и проложившим по трупам свой путь на трон, куда он взошел в 867 году. Еще в 863 году благодаря ему была одержана сокрушительная победа над арабами. Император Василий I и его наследники терпеливо устанавливали относительную стабильность и даже раздвигали границы империи; примечательно, что основное внимание они уделяли расширению на запад, а не на восток, даже несмотря на то, что надежно заблокировали возможные нашествия мусульман. Параллельно возрождению ими успехов Византии имперская церковь предпринимала шаги по расширению границ православной религиозной практики, что остается живым наследием Фотия по сей день. Именно его начинаниям православие обязано своим нынешним культурным распространением. Отчасти благодаря своим инициативам этот патриарх долго пользовался дурной репутацией на христианском Западе.
Вскоре после того как Фотий стал патриархом, папский престол занял Николай I, с которым мы уже встречались, когда он поощрял богатое воображением переписывание истории в целях утверждения особой власти Рима (см. с. 380–381). Папа Николай, конечно, жаждал создавать проблемы для правящего патриарха, слушая жалобы экс-патриарха Игнатия. Глубокая эрудиция Фотия не распространялась на знание латыни, и он гораздо больше, чем прежние патриархи, недолюбливал Западную церковь. У двух незаурядных личностей, окормлявших церковь в Риме и в Константинополе, имелись все основания для напряженных взаимоотношений: на кону оказалась широкая полоса христианского мира, тянущаяся из Центральной Европы на Балканы и вдоль Адриатического моря (Иллирия и Великая Моравия), – территория, давно потерянная для империи. Через нее проходило древнее разделение между Востоком и Западом, впервые проведенное императором Диоклетианом в конце III века (см. с. 221). Византийцам не терпелось распространять свою версию христианской веры, равно как и искать путей расширения своих территорий: лучшего способа у Византии и не было разобраться с доставлявшим ей много хлопот народом вроде болгар, жившим вблизи ее границ, чем обратить его в свою веру.
Хазары
В 50–60-е годы IX века происходило важное событие, продемонстрировавшее возможности и опасности чередующихся обращений; оно должно было стимулировать продвижение имперской церкви за границы империи. Целый народ, населявший могущественное и стратегически значительное царство к северо-востоку от Черного моря, – хазар – его хан привел к обращению в иудаизм, и никакие попытки со стороны самых способных поборников христианства, направленных Фотием, не смогли переубедить хана (возможно, он помнил, что за сто лет до того хазарская царевна стала женой императора-иконоборца Константина V, и поворот византийцев в сторону иконопочитания оказался менее привлекательным, чем твердый запрет иудаизма на изображения). В качестве придворного языка у хазар сохранялся древнееврейский, и их массовое обращение стало одним из самых значительных (хотя зачастую и остающимся без внимания) событий в иудейской истории. Вне зависимости от политических соображений, миссия была для Фотия предметом страстного личного интереса. Сейчас общепризнанно, что он написал предисловие к «Эпанагоге» (Epanagôge, т. е. «Провозглашение») – изданному императором Василием I новому своду законов, в котором в ходе обсуждения взаимоотношений между имперской и церковной властью провозглашается, что долг патриарха – убеждать всех неверующих, а также укреплять православных в вере. Фотий воспользовался военным успехом Византии на восточных границах для неоднократных попыток переговоров с отделенной от православия миафизитской церковью в Армении, и не его вина, что, в конечном счете, его аккуратная дипломатия и проявленная им в огромных масштабах добрая воля так и не принесли никаких результатов.
Нарастание конфликта между патриархом и папой
Отношения Фотия с Римом были куда менее примиренческими (на самом деле, в переговорах с армянами он, помимо прочего, искал поддержки в своем конфликте с папой). Папа Николай ждал случая вторгнуться в пределы Византии, и некоторые правители в этом регионе не преминули воспользоваться возможностью стравить Запад и Восток. Главным среди них был искусный в коварстве хан болгар Борис (правил в 853–889 годах), первым поползновением которого был поиск соглашения с западным франкским соседом королем Людовиком Немецким, чтобы навести страх как на византийцев, так и на другого соседа Византии – Моравию. Византийцы не могли потерпеть такого альянса и при помощи огромной армии добились того, что в 863 году хан принял христианское крещение от византийского, а не латинского духовенства и взял в крещении имя самого византийского императора Михаила. Тем не менее Борис продолжал вести с епископами и Древнего, и Нового Рима дипломатические торги относительно будущей юрисдикции его новой Болгарской церкви, создавая отравляющую атмосферу, которая воскрешала различные неугасающие темы раздоров, такие как всё более распространяющееся на Западе использование вставки Filioque в Никейском символе веры. Яростные комментарии Фотия на этот предмет называют «миной замедленного действия» в том нарастающем противостоянии, которое достигло пика в 1054 году (см. с. 406–407), что было последствием событий 867 года, когда лично Фотий и Николай взаимно отлучили друг друга от Церкви из-за болгарского вопроса. И снова Восточная и Западная церкви оказались в схизме.
После смерти Николая в том же году проблема не разрешилась, но вскоре Рим перед лицом угроз со стороны мусульманских сил в Южной Италии ощутил отчаянную нужду в помощи византийского императора. В результате два собора, проведенные поочередно в Константинополе в 869 и 870 годах, привели к тому, что хан Борис-Михаил склонился, в конце концов, к тому, чтобы препоручить себя и свою Болгарскую церковь византийскому покровительству. К этому его сподвигли устраивавшие его условия: хану назначали его собственного архиепископа, которого он мог контролировать практически ежедневно. Второй из этих соборов стал особым триумфом для Фотия, который был восстановлен на патриаршем престоле после смерти соперника, временно занимавшего его место, Игнатия. Фотия, купавшегося в милостях императора, который одобрил всю его деятельность по расширению юрисдикции Константинопольской церкви, собор провозгласил Вселенским патриархом, что было параллелью власти папы. Это не усилило энтузиазма Рима в деле разрешения трудностей посредством решений, принимаемых сообща, но эти два собора навсегда запечатлели распространение христианства в одну из самых сильных и долговечных балканских монархий.
Моравская миссия, Константин и Мефодий
Миссионерская стратегия Фотия также достигла успеха среди славянских народов Великой Моравии, правитель которой Растислав (или Ростислав; он правил в 846–870 годах) имел такие же амбиции и такие же дипломатические способности, как и Борис Болгарский. Результаты оказались столь же значительными, сколь и сложными, и они продолжали провоцировать столкновения между восточными и западными христианами и споры о том, кто из них хозяин своей истории. Современная Моравия прочно обосновалась внутри римскокатолической культурной сферы, подобно соседним с ней Австрии, Богемии, Хорватии и Словакии, и вполне можно понять, почему в деликатном вопросе состояния центральноевропейских отношений в последние десятилетия выдвигался аргумент, что находившаяся под владычеством Растислава «Великая Моравия» простиралась значительно дальше в Юго-Восточную Европу – в те земли, где теперь преобладает православная традиция. Своим обращением Великая Моравия обязана византийцам – двум братьям, родившимся во втором по значению городе империи: это был порт на Эгейском море, который назывался Фессалоники (или Фессалоника). Воспитывавшиеся там Константин и Мефодий, должно быть, знали многих славян, а Константин, в частности, проявлял исключительный интерес к языкам и способности к ним; он был учеником Фотия в те годы, когда этот ученый еще не стал патриархом, и тот не забыл о таланте Константина. Патриарх использовал братьев в посольстве к хазарскому хану, целью которого было отвратить его от иудаизма, и даже его безуспешность не помешала Фотию отправить их в новую экспедицию, когда князь Растислав попросил византийцев противостоять влиянию франкского духовенства, действовавшего на его территории.
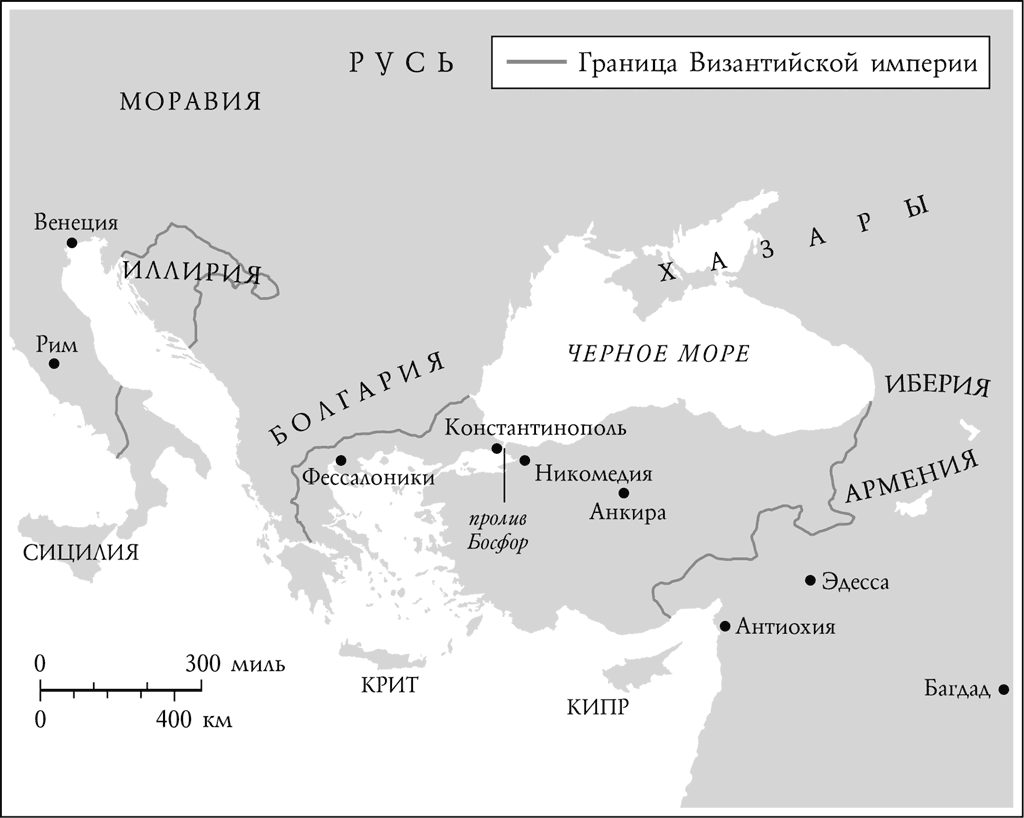
11. Балканы и Черное море во времена Фотия
Можно со всей очевидностью предполагать, что еще до просьбы Растислава братья готовились к делу величайшего значения для будущего: они изобрели алфавит, который точно передавал особенности славянских языков. Он был назван «глаголицей» от старославянского слова, обозначающего «звук» или «глагол». Константин и Мефодий сделали больше, чем просто изобрели способ письма, поскольку вложили немало ума в создание абстрактной лексики на основе греческих слов, которая могла бы использоваться для выражения концепций, лежащих в основе христианства. Глаголическую алфавитную систему можно назвать наименее привычной, ведь она лишь какое-то сюрреалистическое подобие любого из существующих алфавитов, и, когда болгары стали искать собственный способ письма для своего варианта славянского языка, глаголица не представилась им привлекательной. Они лучше, чем жители Моравии, были знакомы с древними надписями, сохранившимися в их регионе от имперского прошлого и написанными по-гречески. И, вероятно, именно в Болгарии чуть позже времени жизни братьев-миссионеров другой ученый изобрел более простую систему алфавита, которая была ближе по своему начертанию к унциальной форме греческого письма. Эта письменность была названа «кириллицей» в честь Константина, но с отсылкой к тому монашескому имени, которое он принял в самом конце своей жизни: Кирилл. Это было искусным выражением почтения, которое, независимо от той дани благодарности, каковое это название заключало в себе, облегчало принятие этого алфавита вместо менее щадящего для пользователей письма, изобретенного самим святым первопроходцем.
Глаголица просуществовала долго, но в основном использовалась для славянских литургических текстов. Она, наряду с кириллицей, тоже была принята для болгарского богослужения ханом Борисом-Михаилом, который, похоже, ценил эти вновь изобретенные алфавиты и литературу на местном языке, каковая ими писалась, видя в ней средство сохранять подобающую дистанцию как от франков, так и от его окончательного покровителя – Константинопольской церкви. Оба алфавита были особым образом нацелены на распространение христианской веры. Они, как и представленные ими христианизированные славянские языки, должны были использоваться не просто для переводов Библии и богословов Церкви более ранних веков, но куда с более инновационной и полемической целью. Они сделали возможным создание богослужения на славянском языке, выполнив перевод греческого литургического обряда святого Иоанна Златоуста, с которым братья Константин и Мефодий были хорошо знакомы. Это оказалось прямым вызовом франкским священникам, работавшим в Моравии, которые служили для окормляемых ими собраний так, как делали бы это у себя на родине, – на латыни.
Хотя в моравской миссии существовала явная конфронтация между Востоком и Западом, она значительно отличалась от болгарской ситуации благодаря дипломатическим способностям Константина и Мефодия. Сами не будучи священниками, они сознательно пошли на объединение своей миссии (хотя и на своих собственных условиях) с Римской церковью, попросив папу о рукоположении некоторых из их последователей. Во время своего путешествия в Рим братья, находясь в Венеции, пытались защищать дело создания ими богослужения на славянском языке в спорах, достаточно пристрастная версия которых сохранилась в «Житии Константина». Их оппоненты настаивали на том, что в Писании есть «три языка, на которых подобает прославлять Бога: еврейский, греческий, римский», – на том основании, что это были три языка надписи на Кресте Христовом. «Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех, или солнце не сияет для всех?» – отрезал Константин.
Константину было нетрудно добиться приема в Риме, потому что он привез папе Адриану II частицы мощей Климента Римского – одного из самых ранних предшественников Адриана на папском престоле. С великой дальновидностью Константин сделал эту счастливую находку во время своего пребывания у хазар в Причерноморье, в противном случае совершенно безуспешного. Но современные историки могли бы испортить Константину удовольствие, указав на то, что история ссылки папы Климента в Причерноморье на самом деле результат произошедшей в V веке путаницы, когда Климента Римского перепутали с другим святым Климентом, который, вероятно, действительно умер в тех краях, но тогда папа Адриан был должным образом впечатлен и очарован и совершил требуемые рукоположения. Поворотный пункт в церковной истории оказался чрезвычайно зависим от чьей-то способности принимать желаемое за действительное и от каких-то неверно идентифицированных костей. Константин провел последние месяцы своей жизни в Риме как монах Кирилл и умер в 869 году. Он был подобающим образом погребен в уже древнем к тому времени храме Святого Климента (Сан-Клементе), – и не менее подобающим образом последняя сохранившаяся частица его мощей, остальная часть которых была утрачена во время захвата Италии Наполеоном, была в XX веке передана папой Павлом VI специально построенному православному храму в родном городе этого святого – Фессалониках, или Фессалонике.
Посещение Кириллом Рима было многообещающим моментом для церкви в Центральной Европе, оставляющим позади недобрые отношения между Николаем и Фотием. Папа Адриан имел свои причины для поощрения дипломатии в трех направлениях, ибо он понимал, что франкские правители вынашивают собственные замыслы, которые могут и не принимать в расчет интересы папства. Он сделал Мефодия своим легатом в Центральной Европе и даже одобрил использование славянского языка в богослужении, хотя и попросил, чтобы литургические чтения из Священного Писания сначала читали по-латыни. Но атмосфера примирения сохранялась недолго. Франкские соперники мефодиевского духовенства не сдавали своих позиций и вытесняли византийских миссионеров на восток, пока те не бежали в Болгарию. Из болгарского церковного центра в Охриде (теперь это бывшая Югославская Республика Македония) миссионеры совершили еще одно путешествие на запад, чтобы возобновить православные миссии в недавно образовавшемся княжестве Сербии, куда принесли с собой свое недовольство представителями латинского Запада. Западнее Сербии, в регионе между Альпами и Карпатами, православное присутствие постепенно ослабевало, хотя в Венгрии имел место один важный случай культурного перехода, когда с греческого на латынь были переведены труды Иоанна Дамаскина, постепенно распространившие свое влияние на Западную церковь и, в частности, на Фому Аквинского (см. с. 483). В долгой борьбе между православными и католиками в Центральной Европе линия культурного различия между католиками-хорватами и православными-сербами, которая недавно так отравила их взаимоотношения несмотря на один общий язык, принесла результаты, не сильно отличающиеся от первоначального разделения Римской империи, проведенного Диоклетианом.
Начало разделений среди православных Церквей
Огромный вклад Кирилла и Мефодия (а за ними видна фигура их покровителя Фотия) в будущее православия состоял в утверждении принципа, что греческий язык не обладает монополией на православное богослужение. Так, начиная с IX века православные церкви приобретали различия в силу заметного разнообразия языков и культур, оформлявшихся этими языками. На самом деле именно богослужение церкви стало главной силой в решении вопроса о том, какому языку господствовать в той или иной части православного мира. Не все эти культуры славянские: одной из крупнейших православных церквей является Румынская, которая, как явствует из ее наименования и звучания ее языка, восходит корнями к римскому прошлому. Неудивительно, что в таком хитросплетении различных народов и обществ православные церкви заметно проявляли вкус к распрям на предмет юрисдикций и последующих разделений (или схизм).
Однако эта запутанная история вовсе не делает абсурдной гордость православия за единообразие его учения. Схизма и ересь – не одно и то же. Доктринальные разногласия и утверждения со времен Юстиниана до Торжества Православия порождали (отчасти, не без влияния весьма избирательного характера написания церковной истории) глубокое чувство общей идентичности преодолевающей границы культур. Они связаны воедино памятью о богослужении в Великой Церкви Константинополя, общим наследием в богословии таких толкователей theosis’а, как Максим Исповедник, и окончательной победой над иконоборчеством в 843 году. Как мы отметили, это общее наследие идет настолько далеко, что снабжает литургическое собрание коллективными способами церемониального осуждения тех христиан, которые не принимают этого: IX век – эпоха торжества православия – был, по-видимому, временем, когда православные гимны ненависти впервые стали входить в литургическое действо. Здесь обнаруживается существенное отличие от латинского Запада. Реформация в Западной церкви в XVI веке разрушила не только универсальность латинского богослужения и универсальность языка, каковой не существовал на Востоке и каковой на самом деле внес, по-видимому, свой вклад в стоявшие за Реформацией нестроения. Реформация также положила конец широкому богословском консенсусу в западном христианстве. Ко времени этого взрыва разногласий в XVI веке Византийская империя уже погибла, отчасти из-за неуместных и зачастую злонамеренных вторжений латинских христиан с Запада, которые помогли разрушить институцию, столь ярко возрожденную во времена Фотия и императоров Македонской династии.
Назад: Часть V Православие: имперская вера (451–1800)
Дальше: 14. Православие: более чем империя (900–1700)

