Часть вторая
Мор
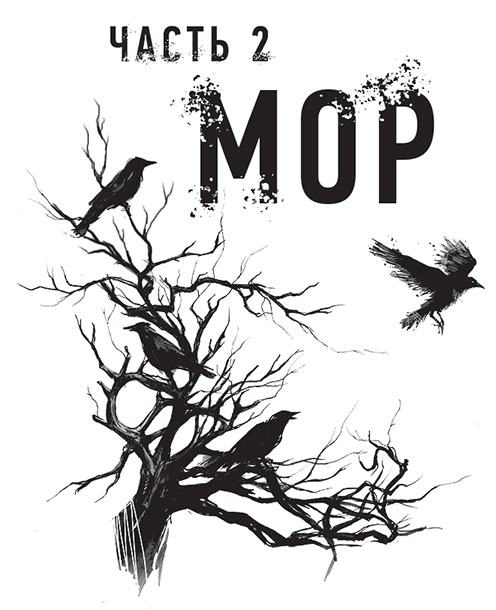
Глава 20
Человек, познавший свое прошлое, волен выбирать свое будущее.«Притчи пророка Закария»
В последующие дни слегло более двухсот человек, сперва ставших жертвами лихорадки, а затем и безумия. До Иммануэль доходили рассказы о взрослых мужчинах, выцарапывавших себе глаза, и о целомудренных, воцерковленных женщинах, раздевавшихся донага и с криком убегавших в Темный Лес. Другие же, чаще всего дети, как Онор, страдали от другого, возможно, еще более зловещего недуга, впадая в глубокий и беспробудный, как смерть, сон. Насколько было известно Иммануэль, ни один лекарь в Вефиле не мог их разбудить.
Из заболевших в первые дни бедствия, шестьдесят человек умерло, не дожив до первой субботы. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, тела мертвых сжигали на священных кострах. Но тех, кто в припадке безумия бежал в Темный Лес, никогда больше не видели и не слышали.
Все сходились во мнении, что пришла самая страшная эпидемия за всю тысячелетнюю историю Вефиля. В народе ее называли по-разному: зараза, лихорадка, вирус безумия, – но Иммануэль знала для нее только одно имя, десятки раз повторенное на последних страницах дневника ее матери: Мор.
– Еще воды, – велела Марта, вытирая капли пота со лба. Хотя все окна были распахнуты настежь, каждое дуновение ветра приносило с собой горячий дым от костров, горевших по всему Перелесью. – И захвати тысячелистник.
Иммануэль, путаясь в юбках, послушно метнулась на кухню, где схватила таз с водой и пучок сухих цветов тысячелистника из коробки с травами под раковиной. Быстро, как только могла, не споткнувшись о подол юбки, она взбежала вверх по лестнице и вошла в детскую.
Там она нашла Анну, которая затягивала узлы на запястьях Глории, крепко привязывая ее к изголовью кровати, чтобы не дать ей убежать, что она пыталась сделать уже шесть раз с той первой ночи своей болезни. Анна завязывала тканевые наручи на запястьях дочери так туго, что оставались синяки, но тут ничего нельзя было поделать. Почти половина из тех, кого поразил мор, калечили и даже убивали себя в приступах безумия, прыгая из окон или разбивая головы, как это почти сделала Онор в ту ночь, когда ее остановила Иммануэль.
От прикосновения матери Глория забилась в конвульсиях и завизжала, сбивая ногами простыни. Ее щеки были окрашены горячечным румянцем.
Иммануэль поставила таз рядом с кроватью, вынула изо рта пучок тысячелистника и взяла чашку, стоявшую на тумбочке. Она принялась старательно мять сушеные цветки, перетирая их в пасту. Затем подлила немного воды, все еще чуть подцвеченной последними напоминаниями о кровавом бедствии, и перемешала мякоть пальцами.
Марта скормила микстуру Глории, крепко взяв ее под шею и усадив в кровати, как приподнимают орущего младенца. Она поднесла чашку ко рту Глории, а та вырывалась и отплевывалась, натягивая веревки и закатывая глаза, когда зелье потекло по ее губам и по подбородку.
В другом углу комнаты Онор лежала с закрытыми глазами и натянутым до самого подбородка одеялом. Иммануэль коснулась ладонью ее щеки и нахмурилась. Девочку все еще лихорадило. Она лежала так неподвижно, что Иммануэль пришлось поднести палец к ее ноздрям, чтобы проверить, дышит ли она. Онор не шелохнулась ни разу с тех пор, как начался мор. В ту первую ночь она извела себя до того, что провалилась в глубокий сон, от которого, как все боялись, могла уже никогда не проснуться.
Так продолжалось несколько часов: Глория металась по постели, Онор спала коматозным сном, а Анна плакала на стуле в углу. В конце концов у Иммануэль не осталось сил это выносить, и она вышла из дома, направляясь на пастбище. Уже несколько дней назад батраку Джозайе пришлось вернуться в свой родной дом в дальнем Перелесье, чтобы ухаживать за поверженной мором женой. Так что пасти овец, кроме Иммануэль, теперь было некому.
С посохом в руке она шла через луга, пытаясь определиться с планом дальнейших действий. Оправдались ее самые мрачные предчувствия. Жертва, принесенная пруду, все-таки не сработала. Их настиг мор, и Иммануэль опасалась, что жизнь ее сестер висела на волоске, если эпидемия не отступит в ближайшее время. Но как она могла все остановить?
Ее кровавого подношения оказалось недостаточно, чтобы снять проклятие, и искать помощи было не у кого. Церковь только разводила руками перед лицом столь великого зла. Сначала Иммануэль думала обратиться к Эзре, который и раньше приходил ей на выручку, но отказалась от этой мысли. Он ясно дал понять, что не хочет иметь никаких дел ни с бедствиями, ни с колдовством – и никаких дел с ней. В прошлый раз, когда она втянула его в свои тайны, он едва не поплатился жизнью. Казалось неправильным снова с ним так поступать.
Но к кому ей обратиться, если не к Эзре? Ведь кто-то должен был что-то знать. Какой-то рецепт, или иной способ прекратить весь этот кошмар. Иммануэль должна была в это верить хотя бы из чистого упрямства, потому что если она потеряет веру, то она потеряет и последнюю надежду на то, что ее сестер удастся спасти.
Из глубин ее сознания всплыло воспоминание: переписной лист, ведьмина метка рядом с ее именем и именами Уордов, живших до нее. Возможно ли, что ответы на все ее вопросы – о бедствиях и ведьмах, и о способе победить их – ждали ее в Окраинах, в семье, которой она никогда не знала? Если верить ведьминой метке, Уорды были сведущи в магии Темного Леса и ковена, поселившегося в его лабиринтах. Иммануэль не сомневалась, что если где-то в Вефиле и можно было найти хоть какую-то помощь, то только у них.
Но как ей улизнуть в Окраины незамеченной, когда Онор и Глория так сильно больны? Она ничем не сможет оправдывать свое отсутствие дольше часа, а ей понадобится весь день, не меньше, чтобы найти родню в Окраинах.
Иммануэль нахмурилась, глядя мимо стада пасущихся овец на светящиеся вдалеке окна мастерской Абрама. В ее голове зародилась мысль.
Абрам. Ну конечно.
Пусть Иммануэль не удалось склонить на свою сторону Марту… возможно, Абрам проявит большее сострадание. Он всегда был добрым человеком, более мягким, чем Марта, и менее набожным, чем Анна. Возможно, он увидит здравое зерно в ее намерении отыскать своих родственников-окраинцев.
Ободренная этой мыслью, Иммануэль загнала последних овец в загон, где они проводили ночи, и направилась к мастерской Абрама. Это было скромное помещение с деревянными полами, покрытыми, как ковром, толстым слоем стружки. По обыкновению, все свободное место загромождали незавершенные поделки Абрама: пара приставных столиков из поленьев, табурет, кукольный домик, который, без сомнения, предназначался Онор в подарок на ее день рождения.
Все до единой картины, украшавшие стены мастерской, принадлежали кисти ее матери. Были здесь и масштабные пейзажи на деревянных досках, и бледные акварельные цветы на листах пергамента, и натюрморты. Был даже автопортрет, на котором Мириам изобразила себя улыбающейся и с распущенными волосами.
Иммануэль заглянула Абраму через плечо, чтобы посмотреть, над чем он работает, и у нее перехватило дыхание. Там, на его столе, стоял небольшой, вытесанный пока наполовину, гроб. Он мог быть впору только одному члену семьи Мур: Онор.
– Она все еще… с нами, – проговорил Абрам, не отрываясь от работы. – Но я хочу быть готовым… если случится худшее.
Иммануэль задрожала.
– Она еще очнется.
– Возможно. Но если нет… я должен быть готов… Всегда обещал себе… что если мне… придется снова хоронить свое дитя… я сделаю это как положено. В гробу… который сделал своими руками. С твоей матерью… у меня не было такого шанса. Не хочу… чтобы это повторилось снова.
Иммануэль понимала, о чем он. Вефильскими обычаями предписывалось хоронить тела непорочных и сжигать нечестивых с верой в то, что пламя погребального костра очистит их души от греха и обеспечит им попадание в чистилище. Мириам за свои преступления умерла в бесчестье, и в итоге у нее никогда не было ни гроба, ни даже участка на кладбище, где покоились все ее предки.
– Ты скучаешь по ней?
– Ты себе даже не представляешь.
Иммануэль села на табурет рядом с ним.
– Ты жалеешь, что тогда, много лет назад, нарушил Предписания и спрятал ее здесь?
Абрам мертвой хваткой вцепился в стамеску, но отрицательно покачал головой.
– Даже несмотря на то, что это был грех?
– Лучше взять грех… на собственные плечи… чем допустить, чтобы другим… причинили вред. Иногда человек… обязан действовать… в интересах… высшего блага.
Иммануэль поняла, что настал ее момент, и не преминула этим воспользоваться.
– За все то время мама хоть раз говорила о моем отце?
Рука Абрама дрогнула, и он опустил инструмент.
– Больше, чем… о ком-либо другом. Когда безумие… завладело ею, она… без конца звала его. Уверяла, будто по коридорам… бродит… его призрак. Еще говорила, что он… зовет ее домой. Я хотел бы верить… что в конце концов так и сталось.
У Иммануэль так сильно сдавило горло, что она едва могла говорить.
– Я хочу наведаться в Окраины, папа. Хочу узнать людей, которые знали его. Хочу познакомиться с его родней. Моей родней.
В лице Абрама ничто не дрогнуло. Он вернулся к работе, начиная зашкуривать стенку гроба.
– Почему сейчас?
– Если я не сделаю этого сейчас, я могу упустить свой шанс. Лихорадка, сам понимаешь.
– Когда ты хочешь… отправиться?
– Завтра, если возможно. Мне бы лишь хотелось, чтобы Марта ничего не знала. Ни к чему лишний раз ее тревожить.
– Так ты пришла просить моего благословения?
– Да, а еще твоей помощи. Если бы ты смог как-то отвлечь Марту…
– То есть, солгать… ради тебя. Ввести в заблуждение… заставить поверить… в заведомую ложь.
Иммануэль поморщилась, но кивнула.
– Как ты и сказал, иногда человек обязан действовать в интересах высшего блага, даже если для этого ему приходится согрешить. А разве это не благо для меня – успеть познакомиться со своими родственниками, пока у меня еще есть такая возможность?
Абрам наградил ее редкой улыбкой. Ей даже показалось, что в этот момент он почти гордился ей.
– Жаль, что ты не родилась… мальчишкой. Из тебя бы вышел… прекрасный апостол… с твоим-то талантом… морочить людям голову.
– Так ты мне поможешь? – прошептала Иммануэль, не веря своей удаче. – Прикроешь меня, пока я буду в Окраинах?
Абрам прервался, чтобы выдуть опилки из гроба.
– Ради тебя… чего я только не сделаю?

